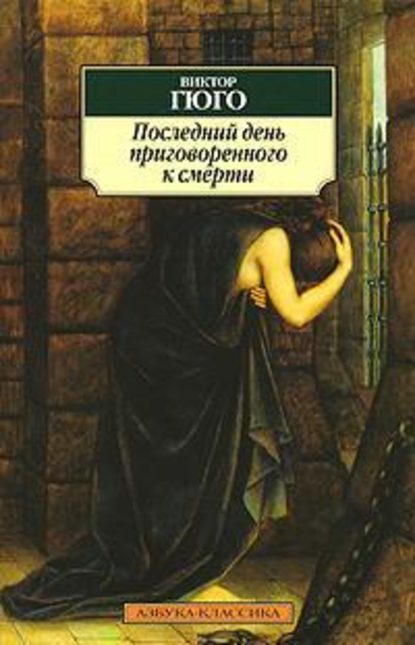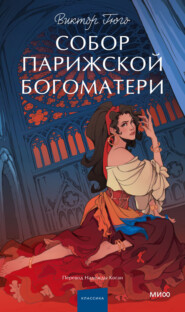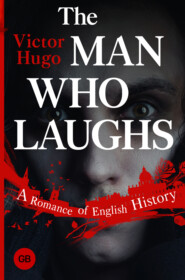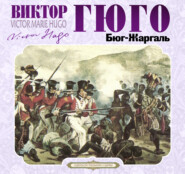По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Последний день приговоренного к смерти
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я вздрогнул и поднял голову. Оказалось, что я не один. В камере, кроме меня, находился мужчина лет пятидесяти пяти, среднего роста, сгорбленный, морщинистый, с проседью, с бесцветными глазами, глядевшими исподлобья, с гримасой злобного смеха на лице. Весь грязный, полуголый, в лохмотьях, он самым своим видом внушал омерзение. Значит, дверь открыли и снова заперли, втолкнув его; а я ничего не заметил. Если бы смерть пришла так же!
Несколько мгновений мы в упор смотрели друг на друга. Новый пришелец – все с тем же хриплым, похожим на стон, смехом, а я – с удивлением и с испугом.
– Кто вы такой? – наконец спросил я.
– Вот так вопрос! – ответил он. – Как кто? Испеченный!
– Испеченный! Что это значит? От моего вопроса он захохотал еще пуще.
– Это значит, что кат скосит мою сорбонну через шесть недель, как твою чурку через шесть часов, – ответил он сквозь смех. – Эге! Видно, смекнул!
В самом деле, я побледнел, волосы поднялись у меня на голове. Это и был второй смертник, приговоренный сегодня, тот, кого ждали в Бисетре, мой преемник.
Он продолжал:
– Ничего не попишешь! Вот я тебе расскажу мою жизнь. Отец мой был славный маз[13 - Вор. (Прим. автора.)]; жаль, что Шарло[14 - Палач. (Прим. автора.)] не пожалел труда и затянул на нем галстук. Это случилось в те поры, когда милостью божьей царила виселица. В шесть лет я остался круглым сиротой; летом я ходил колесом в пыли, по обочине дороги, чтобы мне бросили медяк из окошка почтовой кареты; зимой шлепал босиком по грязи и дул на пальцы, красные от холода; через прорехи в штанах виднелись голые ляжки. С девяти лет я пустил в дело грабли[15 - Руки. (Прим. автора.)], научился очищать ширманы[16 - Карманы. (Прим. автора.)], случалось мне свистнуть и одежу, к десяти годам я стал ловким воришкой. Потом попал в компанию: в семнадцать лет я был уже заправский громила – умел и лавку обчистить и ключ подделать. Меня сцапали и как совершеннолетнего отправили плавать на галерах» Тяжкое дело – каток спишь на голых досках, пьешь чистую воду, ешь черный хлеб, без всякой пользы волочишь за собой тяжеленное ядро – получаешь то солнечный удар, то палочные удары. Вдобавок каторжников бреют наголо, а у меня как на грех были хорошие русые кудри! Как-никак, я свой срок отбыл. Пятнадцать лет – не шутка. Мне минуло тридцать два года, когда я получил подорожную и шестьдесят шесть франков – все, что я заработал за пятнадцать лет каторги, трудясь шестнадцать часов в день, тридцать дней в месяц и двенадцать месяцев в году. Все равно, с этими шестьюдесятью шестью франками я хотел начать честную жизнь, и под моими отрепьями скрывались такие благородные чувства, каких не сыщешь под кабаньей рясой[17 - Рясой священника. (Прим. автора.)]. Вот только треклятый паспорт! Он был желтого цвета, и на нем стояла надпись: каторжник, отбывший срок. Эту штуковину надо было показывать дорогой в каждом городишке, а потом каждую неделю являться с ней к мэру того местечка, где меня водворили на жительство. Недурная аттестация. Каторжник! Я был пугалом – ребятишки бросались от меня врассыпную, двери захлопывались передо мной. Никто не хотел дать мне работу. Шестьдесят шесть франков пришли к концу. Как жить дальше? Я показывал, какие у меня крепкие рабочие руки, а передо мной захлопывали двери. Я предлагал работать за пятнадцать, за десять, за пять су в день. Все напрасно. Что делать? Однажды голод одолел меня. Я разбил локтем витрину булочной и схватил хлеб, а булочник схватил меня. Хлеба мне не дали съесть, зато приговорили к пожизненной каторге и выжгли на плече три буквы. Хочешь – покажу потом. По-судейски это называется рецидив. Значит, стал я обратной кобылкой[18 - Снова отправлен на каторгу. (Прим. автора.)]. Я решил бежать. Для этого нужно было пробуравить три стены и перепилить две цепи, а у меня ничего не было, кроме гвоздя. И я бежал. Вдогонку дали сигнал из пушки; наша братия все равно что римские кардиналы: мы тоже одеты в красное, и когда мы отчаливаем, тоже стреляют из пушек. Однако порох пустили на ветер. На этот раз я ушел без желтого билета, но и без денег. Я встретил товарищей – одни отбыли срок, другие дали тягу. Их главарь предложил мне работать заодно, а работали они ножом на большой дороге. Я согласился и стал убивать, чтобы жить. То на дилижанс нападешь, то на почтовую карету, то на верхового – торговца скотом. Деньги забирали, коня или упряжку отпускали на все четыре стороны, а убитого зарывали под деревом и только смотрели, чтобы не торчали ноги. Потом плясали на могиле, чтобы утоптать землю. Так вот я и состарился – ютился где-нибудь в чащобе, спал под открытым небом, и хоть меня травили и гнали из леса в лес, а все-таки был я вольная птица, сам себе хозяин. Однако же всему приходит конец. В одну прекрасную ночь шнурочники[19 - Жандармы. (Прим. автора.)] накрыли нас. Фанандели[20 - Товарищи. (Прим. автора.)] мои скрылись, а я был старше всех и попался в лапы этих самых котов в шляпах с галунами. Меня доставили сюда. Я прошел все ступени, кроме последней. И теперь уж не имело значения, украл ли я носовой платок, или убил человека – разве что мне пришили бы лишний рецидив. Мне осталось только пройти через руки косаря[21 - Палача. (Прим. автора.)]. Дело мое провернули мигом. И правду сказать, стар я уже стал, не годен ни на что путное. Мой отец женился на вдове[22 - Был повешен. (Прим. автора.)], а я удалюсь в обитель всех скорбящих радости![23 - На гильотину. (Прим. автора.)] Так-то, брат!
Я был ошеломлен его рассказом. Он захохотал громче прежнего и попытался взять меня за руку. Я в ужасе отпрянул.
– Видно, ты, приятель, не из храбрых, – сказал он: – Смотри, не раскисни перед курносой. Что и говорить, несладко стоять на помосте, да зато недолго! Я бы рад пойти с тобой и показать, как лучше кувырнуться. Да я, ей-богу, не подал бы на кассацию, если бы нас скосили сегодня вместе. Кстати попа позвали бы одного на двоих; с меня хватило бы и твоих объедков. Видишь, какой я покладистый. Ну, отвечай? Согласен? От чистого сердца предлагаю!
Он подошел еще ближе.
– Благодарю вас, – ответил я, отстраняя его.
В ответ – новый взрыв хохота.
– Эге-ге! Ваша милость, видно, из маркизов, не иначе как из маркизов!
– Друг мой, не трогайте меня, мне хочется побыть наедине с самим собой, – прервал я его.
Он сразу притих и задумался, покачивая седой, плешивой головой. Потом почесал ногтями свою волосатую грудь, видневшуюся из-под раскрытой рубахи, и сквозь зубы пробормотал:
– Понятно, тут не без кабана[24 - Священника. (Прим. автора.)] … – После минутного молчания он добавил почти робким тоном: – Послушайте, хоть вы и маркиз, однако же на что вам такой добротный сюртук? Все равно палач заберет его. Лучше отдали бы мне. Я его спущу и куплю себе табаку.
Я снял сюртук и отдал ему. Он обрадовался, как ребенок, и захлопал в ладоши. Но, заметив, что на мне одна рубашка и что я весь дрожу, он сказал:
– Вы замерзли. Вот, наденьте это, иначе промокнете, дождь идет. И потом, в телеге надо иметь приличный вид.
Он снял с себя толстую куртку из серой шерсти и надел на меня. Я не прекословил, но тотчас же поспешил отодвинуться к самой стене. Трудно описать, какие чувства вызывал у меня этот человек. Он рассматривал, мой сюртук и каждую секунду восторженно восклицал:
– Карманы целехоньки! Воротник совсем не потертый! Меньше пятнадцати франков ни за что не возьму. На все шесть недель запасусь табачком! Вот счастье-то!
Дверь опять отворилась. Пришли за нами обоими. За мной – чтобы отвести в комнату, где приговоренные ждут урочного часа, за ним – чтобы отправить в Бисетр. Он встал на свое место посреди конвоя и, смеясь, сказал жандармам:
– Только не ошибитесь. Мы с этим кавалером поменялись шкурами. Смотрите, не прихватите меня вместо него. Но теперь – шалишь! Я не согласен, раз у меня будет табак!
XXIV
Я и не думал отдавать сюртук этому старому разбойнику, он отнял его у меня, а взамен оставил мне свою гнусную куртку. На кого я буду похож в этом рванье?
Вовсе не из беспечности или жалости допустил я, чтобы он взял мой сюртук; нет, попросту он был сильнее. Если бы я отказался, он избил бы меня своими кулачищами.
Еще что – жалость! Злоба клокотала во мне. Я готов был задушить собственными руками, растоптать этого старого вора.
Душа моя полна гнева и горечи. Должно быть, желчь разлилась у меня. Смерть делает злым.
XXV
Меня привели в камеру, где, кроме четырех голых стен, нет ничего, не считая, понятно, бессчетных железных прутьев на окне и бессчетных запоров на двери.
Я потребовал себе стол, стул и письменные принадлежности. Мне все принесли.
Затем я потребовал кровать. Надзиратель поглядел на меня удивленным взглядом, ясно говорившим: «К чему это?»
Тем не менее в углу поставили складную кровать. Но одновременно в этом помещении, которое именуют «моей комнатой», водворился жандарм. Верно, боятся, что я удушу себя тюфяком.
XXVI
Сейчас десять часов.
Бедная моя доченька! Через шесть часов меня не станет! Я превращусь в ту падаль, которую расшвыряют по холодным столам анатомического театра. Здесь будут снимать слепок с головы, там будут вскрывать тело, остатками набьют гроб и все вместе отправят на Кламарское кладбище.
Вот что сделают люди с твоим отцом, а между тем ни один из них не питает ко мне ненависти, все меня жалеют, и все могли бы спасти. А они убьют меня. Понимаешь, Мари? Убьют хладнокровно, по всем правилам, во имя торжества правосудия. Боже правый!
Бедняжечка! Убьют твоего отца, того, кто так любил тебя, кто целовал твою нежную, ароматную шейку, кто без устали перебирал твои пушистые кудри, кто ласкал твое милое личико, кто качал тебя на коленях, а по вечерам складывал твои ручки для молитвы!
Кто приголубит тебя теперь? Кто будет тебя любить? У всех твоих маленьких сверстников будет отец, только не у тебя. Как отвыкнешь ты, детка моя, от новогодних подарков, от красивых игрушек, от сластей и поцелуев? Как отвыкнешь ты, горемычная сиротка, пить и есть досыта?
Ах, если бы присяжные увидели ее, мою милую Мари, они бы поняли, что нельзя убивать отца трехлетней крошки!
А когда она вырастет, если ей суждено выжить, что станется с нею? Парижская чернь запомнит ее отца. И ей, моей дочери, придется краснеть за меня, за мое имя, ее будут презирать, унижать, будут ею гнушаться, из-за меня, из-за меня, любящего ее всей силою, всей нежностью своей души. Любимая моя крошка! Моя Мари! Неужто в самом деле память обо мне будет для тебя постыдна и ненавистна? Какое же преступление совершил я, окаянный, и на какое преступление толкаю общество!
Боже! Неужто правда, что я умру до вечера? Я, вот этот самый я? И глухой гул голосов, доносящийся со двора, и оживленные толпы уже спешащих людей на набережных, и жандармы, которые снаряжаются у себя в казармах, и священник в черной рясе, и человек, чьи руки красны от крови, – все это из-за меня? И умереть должен я! Я, тот я, что находится здесь, живет, движется, дышит, сидит за столом, похожим на любой другой стол в любом другом месте; тот я, наконец, которого я касаюсь и ощущаю, чья одежда ложится такими вот складками!
XXVII
Хотя бы знать, как оно устроено, как умирают под ним! Ужас в том, что я не знаю. Самое название страшно, – не, понимаю, как мог я писать и произносить его.
Эти девять букв будто нарочно подобраны так, чтобы своим видом, своим обликом навести на жестокую мысль; проклятый врач, изобретатель этой штуки, носил поистине роковое имя.
У меня с этим ненавистным словом связано очень неясное и неопределенное, но тем более страшное представление. Каждый слог – точно часть самой машины. И я мысленно без конца строю и разрушаю чудовищное сооружение.
Я боюсь расспрашивать, но не знать, какая она и как это делается, – вдвойне нестерпимо. Говорят, она действует с помощью рычага, а человека кладут на живот. Господи! Голова у меня поседеет, прежде чем ее отрубят!
XXVIII
Однако я как-то мимолетно видел ее.
Несколько мгновений мы в упор смотрели друг на друга. Новый пришелец – все с тем же хриплым, похожим на стон, смехом, а я – с удивлением и с испугом.
– Кто вы такой? – наконец спросил я.
– Вот так вопрос! – ответил он. – Как кто? Испеченный!
– Испеченный! Что это значит? От моего вопроса он захохотал еще пуще.
– Это значит, что кат скосит мою сорбонну через шесть недель, как твою чурку через шесть часов, – ответил он сквозь смех. – Эге! Видно, смекнул!
В самом деле, я побледнел, волосы поднялись у меня на голове. Это и был второй смертник, приговоренный сегодня, тот, кого ждали в Бисетре, мой преемник.
Он продолжал:
– Ничего не попишешь! Вот я тебе расскажу мою жизнь. Отец мой был славный маз[13 - Вор. (Прим. автора.)]; жаль, что Шарло[14 - Палач. (Прим. автора.)] не пожалел труда и затянул на нем галстук. Это случилось в те поры, когда милостью божьей царила виселица. В шесть лет я остался круглым сиротой; летом я ходил колесом в пыли, по обочине дороги, чтобы мне бросили медяк из окошка почтовой кареты; зимой шлепал босиком по грязи и дул на пальцы, красные от холода; через прорехи в штанах виднелись голые ляжки. С девяти лет я пустил в дело грабли[15 - Руки. (Прим. автора.)], научился очищать ширманы[16 - Карманы. (Прим. автора.)], случалось мне свистнуть и одежу, к десяти годам я стал ловким воришкой. Потом попал в компанию: в семнадцать лет я был уже заправский громила – умел и лавку обчистить и ключ подделать. Меня сцапали и как совершеннолетнего отправили плавать на галерах» Тяжкое дело – каток спишь на голых досках, пьешь чистую воду, ешь черный хлеб, без всякой пользы волочишь за собой тяжеленное ядро – получаешь то солнечный удар, то палочные удары. Вдобавок каторжников бреют наголо, а у меня как на грех были хорошие русые кудри! Как-никак, я свой срок отбыл. Пятнадцать лет – не шутка. Мне минуло тридцать два года, когда я получил подорожную и шестьдесят шесть франков – все, что я заработал за пятнадцать лет каторги, трудясь шестнадцать часов в день, тридцать дней в месяц и двенадцать месяцев в году. Все равно, с этими шестьюдесятью шестью франками я хотел начать честную жизнь, и под моими отрепьями скрывались такие благородные чувства, каких не сыщешь под кабаньей рясой[17 - Рясой священника. (Прим. автора.)]. Вот только треклятый паспорт! Он был желтого цвета, и на нем стояла надпись: каторжник, отбывший срок. Эту штуковину надо было показывать дорогой в каждом городишке, а потом каждую неделю являться с ней к мэру того местечка, где меня водворили на жительство. Недурная аттестация. Каторжник! Я был пугалом – ребятишки бросались от меня врассыпную, двери захлопывались передо мной. Никто не хотел дать мне работу. Шестьдесят шесть франков пришли к концу. Как жить дальше? Я показывал, какие у меня крепкие рабочие руки, а передо мной захлопывали двери. Я предлагал работать за пятнадцать, за десять, за пять су в день. Все напрасно. Что делать? Однажды голод одолел меня. Я разбил локтем витрину булочной и схватил хлеб, а булочник схватил меня. Хлеба мне не дали съесть, зато приговорили к пожизненной каторге и выжгли на плече три буквы. Хочешь – покажу потом. По-судейски это называется рецидив. Значит, стал я обратной кобылкой[18 - Снова отправлен на каторгу. (Прим. автора.)]. Я решил бежать. Для этого нужно было пробуравить три стены и перепилить две цепи, а у меня ничего не было, кроме гвоздя. И я бежал. Вдогонку дали сигнал из пушки; наша братия все равно что римские кардиналы: мы тоже одеты в красное, и когда мы отчаливаем, тоже стреляют из пушек. Однако порох пустили на ветер. На этот раз я ушел без желтого билета, но и без денег. Я встретил товарищей – одни отбыли срок, другие дали тягу. Их главарь предложил мне работать заодно, а работали они ножом на большой дороге. Я согласился и стал убивать, чтобы жить. То на дилижанс нападешь, то на почтовую карету, то на верхового – торговца скотом. Деньги забирали, коня или упряжку отпускали на все четыре стороны, а убитого зарывали под деревом и только смотрели, чтобы не торчали ноги. Потом плясали на могиле, чтобы утоптать землю. Так вот я и состарился – ютился где-нибудь в чащобе, спал под открытым небом, и хоть меня травили и гнали из леса в лес, а все-таки был я вольная птица, сам себе хозяин. Однако же всему приходит конец. В одну прекрасную ночь шнурочники[19 - Жандармы. (Прим. автора.)] накрыли нас. Фанандели[20 - Товарищи. (Прим. автора.)] мои скрылись, а я был старше всех и попался в лапы этих самых котов в шляпах с галунами. Меня доставили сюда. Я прошел все ступени, кроме последней. И теперь уж не имело значения, украл ли я носовой платок, или убил человека – разве что мне пришили бы лишний рецидив. Мне осталось только пройти через руки косаря[21 - Палача. (Прим. автора.)]. Дело мое провернули мигом. И правду сказать, стар я уже стал, не годен ни на что путное. Мой отец женился на вдове[22 - Был повешен. (Прим. автора.)], а я удалюсь в обитель всех скорбящих радости![23 - На гильотину. (Прим. автора.)] Так-то, брат!
Я был ошеломлен его рассказом. Он захохотал громче прежнего и попытался взять меня за руку. Я в ужасе отпрянул.
– Видно, ты, приятель, не из храбрых, – сказал он: – Смотри, не раскисни перед курносой. Что и говорить, несладко стоять на помосте, да зато недолго! Я бы рад пойти с тобой и показать, как лучше кувырнуться. Да я, ей-богу, не подал бы на кассацию, если бы нас скосили сегодня вместе. Кстати попа позвали бы одного на двоих; с меня хватило бы и твоих объедков. Видишь, какой я покладистый. Ну, отвечай? Согласен? От чистого сердца предлагаю!
Он подошел еще ближе.
– Благодарю вас, – ответил я, отстраняя его.
В ответ – новый взрыв хохота.
– Эге-ге! Ваша милость, видно, из маркизов, не иначе как из маркизов!
– Друг мой, не трогайте меня, мне хочется побыть наедине с самим собой, – прервал я его.
Он сразу притих и задумался, покачивая седой, плешивой головой. Потом почесал ногтями свою волосатую грудь, видневшуюся из-под раскрытой рубахи, и сквозь зубы пробормотал:
– Понятно, тут не без кабана[24 - Священника. (Прим. автора.)] … – После минутного молчания он добавил почти робким тоном: – Послушайте, хоть вы и маркиз, однако же на что вам такой добротный сюртук? Все равно палач заберет его. Лучше отдали бы мне. Я его спущу и куплю себе табаку.
Я снял сюртук и отдал ему. Он обрадовался, как ребенок, и захлопал в ладоши. Но, заметив, что на мне одна рубашка и что я весь дрожу, он сказал:
– Вы замерзли. Вот, наденьте это, иначе промокнете, дождь идет. И потом, в телеге надо иметь приличный вид.
Он снял с себя толстую куртку из серой шерсти и надел на меня. Я не прекословил, но тотчас же поспешил отодвинуться к самой стене. Трудно описать, какие чувства вызывал у меня этот человек. Он рассматривал, мой сюртук и каждую секунду восторженно восклицал:
– Карманы целехоньки! Воротник совсем не потертый! Меньше пятнадцати франков ни за что не возьму. На все шесть недель запасусь табачком! Вот счастье-то!
Дверь опять отворилась. Пришли за нами обоими. За мной – чтобы отвести в комнату, где приговоренные ждут урочного часа, за ним – чтобы отправить в Бисетр. Он встал на свое место посреди конвоя и, смеясь, сказал жандармам:
– Только не ошибитесь. Мы с этим кавалером поменялись шкурами. Смотрите, не прихватите меня вместо него. Но теперь – шалишь! Я не согласен, раз у меня будет табак!
XXIV
Я и не думал отдавать сюртук этому старому разбойнику, он отнял его у меня, а взамен оставил мне свою гнусную куртку. На кого я буду похож в этом рванье?
Вовсе не из беспечности или жалости допустил я, чтобы он взял мой сюртук; нет, попросту он был сильнее. Если бы я отказался, он избил бы меня своими кулачищами.
Еще что – жалость! Злоба клокотала во мне. Я готов был задушить собственными руками, растоптать этого старого вора.
Душа моя полна гнева и горечи. Должно быть, желчь разлилась у меня. Смерть делает злым.
XXV
Меня привели в камеру, где, кроме четырех голых стен, нет ничего, не считая, понятно, бессчетных железных прутьев на окне и бессчетных запоров на двери.
Я потребовал себе стол, стул и письменные принадлежности. Мне все принесли.
Затем я потребовал кровать. Надзиратель поглядел на меня удивленным взглядом, ясно говорившим: «К чему это?»
Тем не менее в углу поставили складную кровать. Но одновременно в этом помещении, которое именуют «моей комнатой», водворился жандарм. Верно, боятся, что я удушу себя тюфяком.
XXVI
Сейчас десять часов.
Бедная моя доченька! Через шесть часов меня не станет! Я превращусь в ту падаль, которую расшвыряют по холодным столам анатомического театра. Здесь будут снимать слепок с головы, там будут вскрывать тело, остатками набьют гроб и все вместе отправят на Кламарское кладбище.
Вот что сделают люди с твоим отцом, а между тем ни один из них не питает ко мне ненависти, все меня жалеют, и все могли бы спасти. А они убьют меня. Понимаешь, Мари? Убьют хладнокровно, по всем правилам, во имя торжества правосудия. Боже правый!
Бедняжечка! Убьют твоего отца, того, кто так любил тебя, кто целовал твою нежную, ароматную шейку, кто без устали перебирал твои пушистые кудри, кто ласкал твое милое личико, кто качал тебя на коленях, а по вечерам складывал твои ручки для молитвы!
Кто приголубит тебя теперь? Кто будет тебя любить? У всех твоих маленьких сверстников будет отец, только не у тебя. Как отвыкнешь ты, детка моя, от новогодних подарков, от красивых игрушек, от сластей и поцелуев? Как отвыкнешь ты, горемычная сиротка, пить и есть досыта?
Ах, если бы присяжные увидели ее, мою милую Мари, они бы поняли, что нельзя убивать отца трехлетней крошки!
А когда она вырастет, если ей суждено выжить, что станется с нею? Парижская чернь запомнит ее отца. И ей, моей дочери, придется краснеть за меня, за мое имя, ее будут презирать, унижать, будут ею гнушаться, из-за меня, из-за меня, любящего ее всей силою, всей нежностью своей души. Любимая моя крошка! Моя Мари! Неужто в самом деле память обо мне будет для тебя постыдна и ненавистна? Какое же преступление совершил я, окаянный, и на какое преступление толкаю общество!
Боже! Неужто правда, что я умру до вечера? Я, вот этот самый я? И глухой гул голосов, доносящийся со двора, и оживленные толпы уже спешащих людей на набережных, и жандармы, которые снаряжаются у себя в казармах, и священник в черной рясе, и человек, чьи руки красны от крови, – все это из-за меня? И умереть должен я! Я, тот я, что находится здесь, живет, движется, дышит, сидит за столом, похожим на любой другой стол в любом другом месте; тот я, наконец, которого я касаюсь и ощущаю, чья одежда ложится такими вот складками!
XXVII
Хотя бы знать, как оно устроено, как умирают под ним! Ужас в том, что я не знаю. Самое название страшно, – не, понимаю, как мог я писать и произносить его.
Эти девять букв будто нарочно подобраны так, чтобы своим видом, своим обликом навести на жестокую мысль; проклятый врач, изобретатель этой штуки, носил поистине роковое имя.
У меня с этим ненавистным словом связано очень неясное и неопределенное, но тем более страшное представление. Каждый слог – точно часть самой машины. И я мысленно без конца строю и разрушаю чудовищное сооружение.
Я боюсь расспрашивать, но не знать, какая она и как это делается, – вдвойне нестерпимо. Говорят, она действует с помощью рычага, а человека кладут на живот. Господи! Голова у меня поседеет, прежде чем ее отрубят!
XXVIII
Однако я как-то мимолетно видел ее.