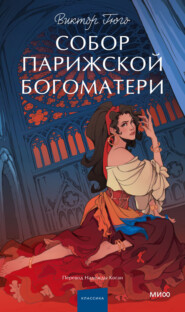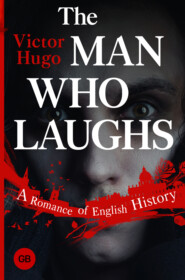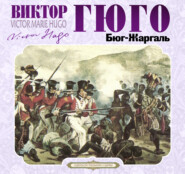По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Последний день приговоренного к смерти
Автор
Жанр
Год написания книги
1829
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В ту же минуту, как будто этот шум пробудил всю тюрьму, зрители у окон, доселе тихие и неподвижные, разразились радостными криками, песнями, угрозами, ругательствами, смешанными со взрывами хохота, горького для ушей. Глядя на них, можно было подумать, что это дьявольские хари. Что ни лицо, то гримаса; кулаки высунулись из решеток, голоса заревели, глаза заблистали, и мне стало страшно при виде стольких искр из-под полупотухшего пепла.
Между тем надсмотрщики, от которых по одежде и по ужасу на лицах отличались несколько любопытных из Парижа, преспокойно принялись за работу. Один из них влез на повозку и сбросил товарищам кандалы, арканы и целый ворох холщовых панталон. Тут они разделили работу: одни отправились растягивать в одном углу двора длинные цепи, которые на их странном языке назывались веревочками; другие расстилали по мостовой тафту, т. е. рубахи и панталоны, а самые сметливые рассматривали, под надзором своего капитана, маленького приземистого старичка, поодиночке железные ошейники, которые тут же пробовали, сверкая ими на мостовой. И все это делалось при насмешливых возгласах заключенных; крики их покрывались громким хохотом каторжных, для которых все это приготовлялось и которые виднелись за решетками старой тюрьмы, выходящей на маленький дворик.
Когда окончились все эти приготовления, господин, весь вышитый серебром, которого называли господином инспектором, дал приказ господину директору тюрьмы, и вот минуту спустя двое или трое ворот изрыгнули вдруг, будто кучками, на двор людей отвратительных, крикливых, оборванных. Это были каторжные.
Появление их удвоило радостные крики у окон. Некоторые из них, громкие имена в каторге, были приветствованы взрывами криков и рукоплесканий, которые они принимали с какою-то гордою скромностью. Большинство носило нечто вроде шляп, самодельщину из казематной соломы, и все престранной формы, для того чтоб в городах и селениях шляпа обращала внимание на голову. Этим еще более рукоплескали. Один из них возбудил особенный взрыв энтузиазма: юноша лет семнадцати с лицом молоденькой девушки. Он вышел из секретного отделения, где просидел с неделю: из соломы он смастерил себе одежду, в которую был окутан с головы до ног, и вкатился на двор колесом с проворством змеи. Этот шут был осужден за воровство. Поднялась буря рукоплесканий и радостных криков. Каторжные отвечали, и вышла ужасающая сцена из этой смеси веселости между каторжными-признанными и каторжными-кандидатами. Было там и общество в лице надсмотрщиков и испуганных посетителей, но преступление глумилось над ним и страшную казнь превращало в семейный праздник.
По мере того как они появлялись, их вводили между двумя рядами этапных солдат в маленький дворик, за решеткой, где ждал их докторский смотр. Там каждый из них испытывал последнее усилие, чтоб избегнуть путешествия, представляя какой-нибудь предлог нездоровья: больные глаза, хромую ногу, искалеченную руку, – но почти всегда они оказывались годными для каторги. И тогда каждый беспечно утешался, забыв в одну минуту про вымышленную болезнь всей жизни.
Решетка малого двора отворилась. Сторож стал делать им алфавитную перекличку, и тогда они выходили один за другим и каждый каторжный равнялся в углу большого двора со своим случайным товарищем по заглавной букве. Таким образом, каждому отведено место, каждый несет цепь свою рядом с неизвестным, и если случится, что у каторжного есть друг, цепь их разлучит. Последнее из несчастий.
Когда таким образом вышло их человек тридцать, решетку затворили. Этапный выровнял их палкой, бросил пред каждым из них рубаху, куртку и панталоны из толстого холста, потом дал знак, и все стали раздеваться. Неожиданная случайность, как будто нарочно, превратила это унижение в пытку.
Погода до сих пор стояла довольно сносная, и если октябрьский ветер холодил воздух, зато он иногда разрывал в серых тучах прогалину, из которой падал солнечный луч. Но только каторжные сняли с себя тюремное рубище, в ту минуту, когда они, голые, отдавались подозрительному осмотру сторожей и любопытным взглядам горожан, которые вертелись около них, осматривая их плечи, небо почернело, вдруг хлынул холодный осенний ливень и как из ведра захлестал по двору, по обнаженным головам, по нагому телу каторжных, по их жалкому тряпью, брошенному на мостовой.
В один миг двор очистился от всего, что не было сторожем, этапным; парижские буржуа приютились кой-где под навесами.
А ливень лил как из ведра. На дворе оставались одни каторжные, голые и промоченные на затопленной мостовой. Мертвое молчание сменило их шумную болтовню. Они дрожали, стуча зубами; их исхудалые ноги, их узловатые колени бились одно о другое, и жалко было видеть, как они натягивали на посиневшее тело мокрые рубахи, куртки, панталоны, которые можно было выжимать. Нагота была бы сноснее.
Один только, какой-то старик, сохранил некоторую веселость. Обтираясь мокрой рубашкой, он сказал, что этого не было в программе, потом засмеялся, показав небу кулак.
Когда они все оделись в походные платья, их повели партиями, от двадцати до тридцати человек, на другой угол двора, где их ожидали кордоны, вытянутые на мостовой. Эти кордоны суть нечто иное, как длинные и крепкие цепи, перерезанные вертикально через каждые два фута другими цепями, покороче, к оконечности которых прикрепляется четырехугольный ошейник, открывающийся с другого конца посредством шарнира и железного шпинька. В такие ошейники заковывают шею каторжного на все время похода. Эти кордоны, растянутые на земле, довольно хорошо изображают большую позвоночную кость рыбы.
Каторжных усадили в грязи на мокрую мостовую, примерили им ошейники, потом два острожных кузнеца, вооруженных ручными наковальнями, заковали их, по холодному железу, сильными ударами огромных молотов. Минута эта ужасна: самые смелые бледнеют. От каждого удара молота по наковальне, прислоненной к спине, вздрагивает подбородок пациента: малейшее движение назад, и череп может быть раздроблен как ореховая скорлупа.
После этой операции они приуныли. Слышалось только звяканье цепей да по временам крик и глухой удар палки конвойных по спине какого-нибудь упрямца. Были такие, что плакали; старики вздрагивали и закусывали губы. Я с ужасом смотрел на эти зловещие профили в железных рамках.
Таким образом, после докторского смотра – смотр приставов, после смотра приставов – заковка. Три акта в этом спектакле.
Выглянуло солнце. Казалось, оно мгновенно зажгло все эти головы. Каторжные вдруг поднялись, как будто их что толкнуло. Пять кордонов вдруг взялись за руки и таким образом составили огромный круг около фонаря. Они стали кружиться так, что в глазах зарябило. Все они пели каторжную песню, какой-то романс на их странном языке, и напев был то жалобный, то бешеный и веселый; по временам раздавались дикие крики, взрывы хохота, разбитого и запыхавшегося, смешивались с таинственными словами, а бешеные восклицания, а цепи, звякавшие в такт и служившие оркестром этому пению, более шумному, чем их бряцанье. Если б мне понадобилось изображение шабаша, я не желал бы ни лучшего, ни худшего.
На двор принесли большой ушат. Конвойные палками прекратили пляску каторжных и подвели их к ушату, в котором плавала какая-то трава в какой-то горячей мутной жидкости. Они стали есть, потом, пообедав, вылили остатки супа на мостовую, побросали черный хлеб и снова принялись плясать и петь. По-видимому, им позволяется это в день заковки и в ночь, которая за ним следует.
Я смотрел на это зрелище с таким жадным, трепетным, с таким внимательным любопытством, что позабыл сам себя. Глубокое чувство жалости охватило меня всего, а их хохот заставил меня плакать.
Вдруг, среди глубокой задумчивости, в которую был погружен, я почувствовал, как остановился и замолк ревевший круг. Потом глаза всех обратились к окну, у которого я стоял.
– Осужденный! Осужденный! – закричали они все, показывая на меня пальцами, и взрывы восторга удвоились.
Я будто прирос к месту.
Недоумеваю, почему они меня знали и каким образом могли узнать.
– Здравствуй, здорово! – кричали они мне наперебой.
Один, почти еще юноша, осужденный на вечные галеры, с глянцевитым, свинцового цвета лицом, посмотрел на меня с завистью и сказал:
– Счастливчик! Его отгрызут. Прощай, товарищ!
Трудно сказать, что происходило во мне. Я и в самом деле был их товарищем: Гревская площадь сестра Тулона, – был даже ниже их: они делали мне честь. Я содрогнулся.
Да, их товарищ! Несколько дней после, и я мог бы служить для них зрелищем.
Я остался у окна, неподвижный, оцепеневший, пораженный, но когда увидел, что пять кордонов обратились в мою сторону, кинулись на меня с отвратительно дружелюбными словами, когда услышал шумный лязг их цепей, их топот у самой стены моей, мне показалось, что это стадо чертей уже лезло к моей жалкой келье. Я закричал, бросился к двери и стал разбивать ее, но не было средств к побегу: запоры были снаружи. Потом я как будто услышал еще ближе голоса каторжных, их отвратительные лица как будто уже показалось в окне моем, еще раз вскрикнул от страха и упал в обморок.
XIV
Когда я пришел в себя, была уже ночь. Я лежал на койке; фонарь, мерцавший на потолке, помог мне разглядеть другие койки, вытянутые в ряд по обе стороны от моей. Я понял, что меня перенесли в больницу.
Я провел несколько минут без мысли и без памяти, отдавшись весь блаженству лежать на постели. Конечно, в былое время эта госпитальная и тюремная койка заставила бы меня отвернуться от отвращения и привередливости, но я был уже не тот человек. Простыни сероватые и грубые, одеяло тощее и дырявое; тюфяк отзывался соломой. Ничего! Мне было просторно потягиваться под этими грубыми простынями; под этим одеялом, как бы ни было оно тонко; я чувствовал, что во мне исчезал мало-помалу холод, пробиравший до мозга костей, холод, к которому я уже привык. Я опять заснул.
Страшный шум разбудил меня; день только занимался. Шумели на дворе. Постель моя стояла у окна; я встал на нее, чтоб посмотреть, что там такое.
Окно выходило на большой двор Бисетра. Он был полон народа; два ряда ветеранов среди этой толпы с трудом сохраняли узкую дорожку, проходившую через двор. Между этими двумя рядами солдат медленно, покачиваясь из стороны в сторону, ехало пять длинных повозок, набитых людьми. Отправлялись каторжные.
Повозки были открыты. В каждой помещалось по кордону. Каторжные сидели вдоль по сторонам, сомкнувшись спинами и отделенные друг от друга общей цепью, тянувшейся во всю длину повозки, на конце которой стоял с заряженным ружьем конвойный часовой.
Их цепи гремели, и при каждом толчке повозки можно было видеть, как прыгали их головы, как болтались их висевшие наружу ноги.
Частый и мелкий дождь холодил воздух; холщовые панталоны, из серых ставшие уже черными, прилипали к их коленям. Вода сочилась с длинных бород, с коротких волос; лица посинели; видно было, как они зябнут и как стучат их зубы от бешенства и холода. Впрочем, ни одного движения. Раз прикованный к цепи, человек становится дробью того отвратительного целого, которое называется кордоном и движется как один человек. Рассудочная способность остается в стороне: каторжный ошейник осуждает ее на смерть, – а самое животное получает нужды и аппетиты только в известные часы. Так неподвижные, большею частию полунагие, с открытыми головами и болтавшимися ногами, они начинали свой двадцатипятидневный поход, посаженные на одни и те же повозки, одетые в одну и ту же одежду для жаркого июльского солнца и для холодных ноябрьских дождей. Как не сказать, что люди хотят заставить и самое небо играть наполовину роль палача.
Между толпой и повозками возникла какая-то странная перебранка: с одной стороны ругательства, подзадоривание с другой, брань с обеих, – но по знаку капитана я увидел, как посыпались вдруг в повозках палочные удары по плечам и головам, и все приняло то наружное спокойствие, которое называется порядком. Глаза только горели мщением, и кулаки негодяев сжимались на коленах.
Пять повозок в сопровождении конных жандармов и пеших конвойных скрылись одна за другою в стрельчатых воротах Бисетра; шестая следовала за ними, заваленная жаровнями, медными баками и запасными цепями. Несколько конвойных, замешкавшихся в питейной, бегом догоняли свою партию. Толпа разошлась. Все это зрелище исчезло, как какая-то фантасмагория. Слышно было, как постепенно слабел в воздухе тяжелый стук колес и лошадиных копыт на мощеной фонтенблоской дороге, щелканье бичей, звяканье железа и рев народа, провожавшего каторжников всевозможною бранью.
И это еще только цветочки для них.
Что ж это говорил мне адвокат про галеры? Спасибо! Уж в тысячу раз лучше смерть! Лучше эшафот, чем каторга; лучше ничтожество, чем ад; лучше подставить шею под нож господина Гильотена, чем под каторжный ошейник! Галеры! Нечего сказать, обрадовал!
XV
К несчастью, я не заболел. На другой день пришлось выписаться из больницы. Каземат снова овладел мною.
Здоров! И в самом деле я молод, крепок и силен. Кровь свободно течет у меня в жилах; члены повинуются всем моим прихотям; я крепок телом и духом, я сложен для долгой жизни. Да, все это правда, и однако ж во мне есть болезнь, болезнь смертельная, болезнь, созданная человеческими руками.
С тех пор как я вышел из больницы, меня преследует едкая мысль, от которой можно с ума сойти: что я мог бы бежать, если б меня там оставили. Доктора и сестры милосердия, по-видимому, принимали во мне участие. Умереть в таких молодых летах и такою смертью! Им как будто было жаль меня: они так за мной ухаживали. Вздор! Любопытство! А потом, эти люди славно вылечивают от лихорадки, но не от смертного приговора. А это было бы им так легко сделать! Отворить немножко дверь… ничего бы это для них не стоило.
Теперь нет больше шансов! Мою просьбу отвергнут, потому что все было на законном основании: свидетели показывали по законам, обвинители обвиняли по законам, судьи тоже судили по законам. Я на это не рассчитываю, разве что… Вздор! Пустяки! Нет более надежды! Просьба о пересмотре – веревка, на которой вы висите над пропастью и которая трещит ежеминутно, пока не оборвется. Это такой же нож гильотины, только падающий на вас шесть недель.
Если б мне удалось получить помилование… Получить помилование! А через кого? Зачем? Как? Не в порядке вещей, чтоб меня помиловали. Пример нужен, как говорят они.
Мне остается только три шага: Бисетр, Консьержери, Гревская площадь.
XVI
В те немногие часы, что провел в больнице, я уселся раз у окна на солнышко (оно как-то проглянуло), или, точнее, на несколько лучей его, оставленных на мою долю оконною решеткою.
Я сидел там, обхватив руками тяжелую и мутную голову, в которой, конечно, было более, чем они могли снести, упершись локтями в колени, а ноги положив на спинку стула; от уныния уж я всегда как-то согнусь и скорчусь, как будто бы без костей в членах или без мускулов в теле.
Между тем надсмотрщики, от которых по одежде и по ужасу на лицах отличались несколько любопытных из Парижа, преспокойно принялись за работу. Один из них влез на повозку и сбросил товарищам кандалы, арканы и целый ворох холщовых панталон. Тут они разделили работу: одни отправились растягивать в одном углу двора длинные цепи, которые на их странном языке назывались веревочками; другие расстилали по мостовой тафту, т. е. рубахи и панталоны, а самые сметливые рассматривали, под надзором своего капитана, маленького приземистого старичка, поодиночке железные ошейники, которые тут же пробовали, сверкая ими на мостовой. И все это делалось при насмешливых возгласах заключенных; крики их покрывались громким хохотом каторжных, для которых все это приготовлялось и которые виднелись за решетками старой тюрьмы, выходящей на маленький дворик.
Когда окончились все эти приготовления, господин, весь вышитый серебром, которого называли господином инспектором, дал приказ господину директору тюрьмы, и вот минуту спустя двое или трое ворот изрыгнули вдруг, будто кучками, на двор людей отвратительных, крикливых, оборванных. Это были каторжные.
Появление их удвоило радостные крики у окон. Некоторые из них, громкие имена в каторге, были приветствованы взрывами криков и рукоплесканий, которые они принимали с какою-то гордою скромностью. Большинство носило нечто вроде шляп, самодельщину из казематной соломы, и все престранной формы, для того чтоб в городах и селениях шляпа обращала внимание на голову. Этим еще более рукоплескали. Один из них возбудил особенный взрыв энтузиазма: юноша лет семнадцати с лицом молоденькой девушки. Он вышел из секретного отделения, где просидел с неделю: из соломы он смастерил себе одежду, в которую был окутан с головы до ног, и вкатился на двор колесом с проворством змеи. Этот шут был осужден за воровство. Поднялась буря рукоплесканий и радостных криков. Каторжные отвечали, и вышла ужасающая сцена из этой смеси веселости между каторжными-признанными и каторжными-кандидатами. Было там и общество в лице надсмотрщиков и испуганных посетителей, но преступление глумилось над ним и страшную казнь превращало в семейный праздник.
По мере того как они появлялись, их вводили между двумя рядами этапных солдат в маленький дворик, за решеткой, где ждал их докторский смотр. Там каждый из них испытывал последнее усилие, чтоб избегнуть путешествия, представляя какой-нибудь предлог нездоровья: больные глаза, хромую ногу, искалеченную руку, – но почти всегда они оказывались годными для каторги. И тогда каждый беспечно утешался, забыв в одну минуту про вымышленную болезнь всей жизни.
Решетка малого двора отворилась. Сторож стал делать им алфавитную перекличку, и тогда они выходили один за другим и каждый каторжный равнялся в углу большого двора со своим случайным товарищем по заглавной букве. Таким образом, каждому отведено место, каждый несет цепь свою рядом с неизвестным, и если случится, что у каторжного есть друг, цепь их разлучит. Последнее из несчастий.
Когда таким образом вышло их человек тридцать, решетку затворили. Этапный выровнял их палкой, бросил пред каждым из них рубаху, куртку и панталоны из толстого холста, потом дал знак, и все стали раздеваться. Неожиданная случайность, как будто нарочно, превратила это унижение в пытку.
Погода до сих пор стояла довольно сносная, и если октябрьский ветер холодил воздух, зато он иногда разрывал в серых тучах прогалину, из которой падал солнечный луч. Но только каторжные сняли с себя тюремное рубище, в ту минуту, когда они, голые, отдавались подозрительному осмотру сторожей и любопытным взглядам горожан, которые вертелись около них, осматривая их плечи, небо почернело, вдруг хлынул холодный осенний ливень и как из ведра захлестал по двору, по обнаженным головам, по нагому телу каторжных, по их жалкому тряпью, брошенному на мостовой.
В один миг двор очистился от всего, что не было сторожем, этапным; парижские буржуа приютились кой-где под навесами.
А ливень лил как из ведра. На дворе оставались одни каторжные, голые и промоченные на затопленной мостовой. Мертвое молчание сменило их шумную болтовню. Они дрожали, стуча зубами; их исхудалые ноги, их узловатые колени бились одно о другое, и жалко было видеть, как они натягивали на посиневшее тело мокрые рубахи, куртки, панталоны, которые можно было выжимать. Нагота была бы сноснее.
Один только, какой-то старик, сохранил некоторую веселость. Обтираясь мокрой рубашкой, он сказал, что этого не было в программе, потом засмеялся, показав небу кулак.
Когда они все оделись в походные платья, их повели партиями, от двадцати до тридцати человек, на другой угол двора, где их ожидали кордоны, вытянутые на мостовой. Эти кордоны суть нечто иное, как длинные и крепкие цепи, перерезанные вертикально через каждые два фута другими цепями, покороче, к оконечности которых прикрепляется четырехугольный ошейник, открывающийся с другого конца посредством шарнира и железного шпинька. В такие ошейники заковывают шею каторжного на все время похода. Эти кордоны, растянутые на земле, довольно хорошо изображают большую позвоночную кость рыбы.
Каторжных усадили в грязи на мокрую мостовую, примерили им ошейники, потом два острожных кузнеца, вооруженных ручными наковальнями, заковали их, по холодному железу, сильными ударами огромных молотов. Минута эта ужасна: самые смелые бледнеют. От каждого удара молота по наковальне, прислоненной к спине, вздрагивает подбородок пациента: малейшее движение назад, и череп может быть раздроблен как ореховая скорлупа.
После этой операции они приуныли. Слышалось только звяканье цепей да по временам крик и глухой удар палки конвойных по спине какого-нибудь упрямца. Были такие, что плакали; старики вздрагивали и закусывали губы. Я с ужасом смотрел на эти зловещие профили в железных рамках.
Таким образом, после докторского смотра – смотр приставов, после смотра приставов – заковка. Три акта в этом спектакле.
Выглянуло солнце. Казалось, оно мгновенно зажгло все эти головы. Каторжные вдруг поднялись, как будто их что толкнуло. Пять кордонов вдруг взялись за руки и таким образом составили огромный круг около фонаря. Они стали кружиться так, что в глазах зарябило. Все они пели каторжную песню, какой-то романс на их странном языке, и напев был то жалобный, то бешеный и веселый; по временам раздавались дикие крики, взрывы хохота, разбитого и запыхавшегося, смешивались с таинственными словами, а бешеные восклицания, а цепи, звякавшие в такт и служившие оркестром этому пению, более шумному, чем их бряцанье. Если б мне понадобилось изображение шабаша, я не желал бы ни лучшего, ни худшего.
На двор принесли большой ушат. Конвойные палками прекратили пляску каторжных и подвели их к ушату, в котором плавала какая-то трава в какой-то горячей мутной жидкости. Они стали есть, потом, пообедав, вылили остатки супа на мостовую, побросали черный хлеб и снова принялись плясать и петь. По-видимому, им позволяется это в день заковки и в ночь, которая за ним следует.
Я смотрел на это зрелище с таким жадным, трепетным, с таким внимательным любопытством, что позабыл сам себя. Глубокое чувство жалости охватило меня всего, а их хохот заставил меня плакать.
Вдруг, среди глубокой задумчивости, в которую был погружен, я почувствовал, как остановился и замолк ревевший круг. Потом глаза всех обратились к окну, у которого я стоял.
– Осужденный! Осужденный! – закричали они все, показывая на меня пальцами, и взрывы восторга удвоились.
Я будто прирос к месту.
Недоумеваю, почему они меня знали и каким образом могли узнать.
– Здравствуй, здорово! – кричали они мне наперебой.
Один, почти еще юноша, осужденный на вечные галеры, с глянцевитым, свинцового цвета лицом, посмотрел на меня с завистью и сказал:
– Счастливчик! Его отгрызут. Прощай, товарищ!
Трудно сказать, что происходило во мне. Я и в самом деле был их товарищем: Гревская площадь сестра Тулона, – был даже ниже их: они делали мне честь. Я содрогнулся.
Да, их товарищ! Несколько дней после, и я мог бы служить для них зрелищем.
Я остался у окна, неподвижный, оцепеневший, пораженный, но когда увидел, что пять кордонов обратились в мою сторону, кинулись на меня с отвратительно дружелюбными словами, когда услышал шумный лязг их цепей, их топот у самой стены моей, мне показалось, что это стадо чертей уже лезло к моей жалкой келье. Я закричал, бросился к двери и стал разбивать ее, но не было средств к побегу: запоры были снаружи. Потом я как будто услышал еще ближе голоса каторжных, их отвратительные лица как будто уже показалось в окне моем, еще раз вскрикнул от страха и упал в обморок.
XIV
Когда я пришел в себя, была уже ночь. Я лежал на койке; фонарь, мерцавший на потолке, помог мне разглядеть другие койки, вытянутые в ряд по обе стороны от моей. Я понял, что меня перенесли в больницу.
Я провел несколько минут без мысли и без памяти, отдавшись весь блаженству лежать на постели. Конечно, в былое время эта госпитальная и тюремная койка заставила бы меня отвернуться от отвращения и привередливости, но я был уже не тот человек. Простыни сероватые и грубые, одеяло тощее и дырявое; тюфяк отзывался соломой. Ничего! Мне было просторно потягиваться под этими грубыми простынями; под этим одеялом, как бы ни было оно тонко; я чувствовал, что во мне исчезал мало-помалу холод, пробиравший до мозга костей, холод, к которому я уже привык. Я опять заснул.
Страшный шум разбудил меня; день только занимался. Шумели на дворе. Постель моя стояла у окна; я встал на нее, чтоб посмотреть, что там такое.
Окно выходило на большой двор Бисетра. Он был полон народа; два ряда ветеранов среди этой толпы с трудом сохраняли узкую дорожку, проходившую через двор. Между этими двумя рядами солдат медленно, покачиваясь из стороны в сторону, ехало пять длинных повозок, набитых людьми. Отправлялись каторжные.
Повозки были открыты. В каждой помещалось по кордону. Каторжные сидели вдоль по сторонам, сомкнувшись спинами и отделенные друг от друга общей цепью, тянувшейся во всю длину повозки, на конце которой стоял с заряженным ружьем конвойный часовой.
Их цепи гремели, и при каждом толчке повозки можно было видеть, как прыгали их головы, как болтались их висевшие наружу ноги.
Частый и мелкий дождь холодил воздух; холщовые панталоны, из серых ставшие уже черными, прилипали к их коленям. Вода сочилась с длинных бород, с коротких волос; лица посинели; видно было, как они зябнут и как стучат их зубы от бешенства и холода. Впрочем, ни одного движения. Раз прикованный к цепи, человек становится дробью того отвратительного целого, которое называется кордоном и движется как один человек. Рассудочная способность остается в стороне: каторжный ошейник осуждает ее на смерть, – а самое животное получает нужды и аппетиты только в известные часы. Так неподвижные, большею частию полунагие, с открытыми головами и болтавшимися ногами, они начинали свой двадцатипятидневный поход, посаженные на одни и те же повозки, одетые в одну и ту же одежду для жаркого июльского солнца и для холодных ноябрьских дождей. Как не сказать, что люди хотят заставить и самое небо играть наполовину роль палача.
Между толпой и повозками возникла какая-то странная перебранка: с одной стороны ругательства, подзадоривание с другой, брань с обеих, – но по знаку капитана я увидел, как посыпались вдруг в повозках палочные удары по плечам и головам, и все приняло то наружное спокойствие, которое называется порядком. Глаза только горели мщением, и кулаки негодяев сжимались на коленах.
Пять повозок в сопровождении конных жандармов и пеших конвойных скрылись одна за другою в стрельчатых воротах Бисетра; шестая следовала за ними, заваленная жаровнями, медными баками и запасными цепями. Несколько конвойных, замешкавшихся в питейной, бегом догоняли свою партию. Толпа разошлась. Все это зрелище исчезло, как какая-то фантасмагория. Слышно было, как постепенно слабел в воздухе тяжелый стук колес и лошадиных копыт на мощеной фонтенблоской дороге, щелканье бичей, звяканье железа и рев народа, провожавшего каторжников всевозможною бранью.
И это еще только цветочки для них.
Что ж это говорил мне адвокат про галеры? Спасибо! Уж в тысячу раз лучше смерть! Лучше эшафот, чем каторга; лучше ничтожество, чем ад; лучше подставить шею под нож господина Гильотена, чем под каторжный ошейник! Галеры! Нечего сказать, обрадовал!
XV
К несчастью, я не заболел. На другой день пришлось выписаться из больницы. Каземат снова овладел мною.
Здоров! И в самом деле я молод, крепок и силен. Кровь свободно течет у меня в жилах; члены повинуются всем моим прихотям; я крепок телом и духом, я сложен для долгой жизни. Да, все это правда, и однако ж во мне есть болезнь, болезнь смертельная, болезнь, созданная человеческими руками.
С тех пор как я вышел из больницы, меня преследует едкая мысль, от которой можно с ума сойти: что я мог бы бежать, если б меня там оставили. Доктора и сестры милосердия, по-видимому, принимали во мне участие. Умереть в таких молодых летах и такою смертью! Им как будто было жаль меня: они так за мной ухаживали. Вздор! Любопытство! А потом, эти люди славно вылечивают от лихорадки, но не от смертного приговора. А это было бы им так легко сделать! Отворить немножко дверь… ничего бы это для них не стоило.
Теперь нет больше шансов! Мою просьбу отвергнут, потому что все было на законном основании: свидетели показывали по законам, обвинители обвиняли по законам, судьи тоже судили по законам. Я на это не рассчитываю, разве что… Вздор! Пустяки! Нет более надежды! Просьба о пересмотре – веревка, на которой вы висите над пропастью и которая трещит ежеминутно, пока не оборвется. Это такой же нож гильотины, только падающий на вас шесть недель.
Если б мне удалось получить помилование… Получить помилование! А через кого? Зачем? Как? Не в порядке вещей, чтоб меня помиловали. Пример нужен, как говорят они.
Мне остается только три шага: Бисетр, Консьержери, Гревская площадь.
XVI
В те немногие часы, что провел в больнице, я уселся раз у окна на солнышко (оно как-то проглянуло), или, точнее, на несколько лучей его, оставленных на мою долю оконною решеткою.
Я сидел там, обхватив руками тяжелую и мутную голову, в которой, конечно, было более, чем они могли снести, упершись локтями в колени, а ноги положив на спинку стула; от уныния уж я всегда как-то согнусь и скорчусь, как будто бы без костей в членах или без мускулов в теле.