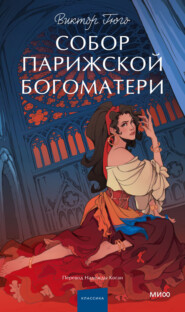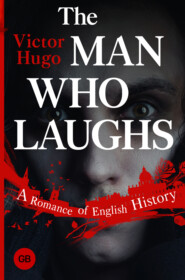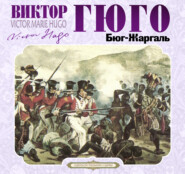По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Последний день приговоренного к смерти
Автор
Жанр
Год написания книги
1829
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я теперь покоен: все кончено, совершенно кончено. Я вышел из невыносимой тоски, в которую впал после посещения директора, потому что, признаюсь, еще надеялся… Теперь, слава богу, я не надеюсь больше.
Вот что случилось.
Ровно в половине седьмого – виноват, немного раньше – отворилась дверь моего каземата. Вошел седой старичок в темной шинели. Он распахнул ее, и я увидел подрясник, белый рабат. То был священник, только не тюремный священник, и мне стало страшно.
Он сел напротив меня с благосклонной улыбкой, потом покачал головою и поднял глаза к небу, т. е. к своду моего каземата. Я понял его.
– Сын мой, – сказал он мне, – приготовились ли вы?
Я отвечал ему слабым голосом:
– Нет, не приготовился, но готов.
Однако ж зрение мое помутилось, ледяной пот проступил по всем членам; я чувствовал, как начинали вздуваться виски, а уши наполнялись шумом.
Между тем как я покачивался на стуле как полусонный, добрый старичок говорил – по крайней мере, так мне показалось, да и помню я, что губы его шевелились, руки двигались, глаза блестели.
Дверь во второй раз отворилась. Шум засовов и замков вывел нас обоих: меня – из столбняка, его – из речи. Вошел какой-то господин в черном фраке, вместе с директором, и низко мне поклонился. У этого человека было на лице нечто официально-печальное, как у распорядителей похоронных процессий. В руках он держал сверток бумаг.
– Сударь – сказал он мне с вежливой улыбкой, – я экзекутор парижского королевского суда. Имею честь передать вам послание от господина генерального прокурора.
Первое потрясение прошло. Ко мне возвратилось все присутствие духа.
– Ведь это господин генеральный прокурор, – отвечал я ему, – так упорно требовал головы моей? Много чести для меня, что он ко мне пишет. Надеюсь, что смерть моя доставит ему большое удовольствие; мне было бы горько думать, что он с таким жаром вымаливал ее, а между тем, совершенно равнодушен к ней.
Я сказал все это и потом громко прибавил:
– Читайте, сударь.
Он стал читать длиннейшую рацею, припевая в конце каждой строки и несколько замедляя на средине каждого слова. Это был отказ в моей просьбе.
– Приговор будет исполнен нынче на Гревской площади, – проговорил он, окончив чтение, но не поднимая глаз с гербовой бумаги. – Ровно в половине восьмого мы отправляемся в Консьержери. Не будете-ли вы так бесконечно обязательны, сударь, и не последуете ли за мною?
Я давно уже перестал его слушать. Директор разговаривал со священником и не отрывал глаз от бумаги, а я взглянул на полуотворенную дверь… Создатель! Четыре солдата с ружьями в коридоре!
Экзекутор повторил вопрос, уже смотря на меня.
– Когда вам будет угодно, – отвечал я ему. – Распоряжайтесь мною.
Он поклонился мне, сказав:
– Я буду иметь честь прийти за вами через полчаса.
Тогда они оставили меня одного.
Как бы убежать! Боже мой, как бы убежать! Мне нужно уйти от них! Нужно! Сейчас же! Из дверей, из окон, через крышу, хотя б пришлось оставить собственное мясо на стропилах.
О горе! Черти! Проклятье! Целые месяцы нужны, чтоб пробить эту стену хорошими инструментами, а у меня ни гвоздя, ни часа времени!
XXII
Из Консьержери
Вот я и переведен, как сказано в протоколе. Но путешествие мое стоит рассказа.
Било половину восьмого, когда на пороге моего каземата снова появился экзекутор.
– Сударь, – сказал он мне, – я вас жду.
Увы, не только он!
Я встал и сделал шаг: мне казалось, что не буду в состоянии ступить в другой раз, – так тяжела была голова моя, так слабы ноги, однако овладел собой и пошел довольно твердо. При выходе из каземата я бросил на него последний взгляд. Я полюбил свой каземат. Сверх того, я оставлял его пустым и отворенным, что придает тюрьме какой-то странный вид.
Впрочем, он долго не останется ни пустым, ни отворенным. Нынешний же вечер, говорили номерные, там ждут какого-то осужденного, которого изготовляет в настоящую минуту ассизный суд.
На повороте коридора к нам пристал священник. Он только что позавтракал.
Когда мы выходили из сторожки, директор ласково пожал мне руку и усилил конвой четырьмя ветеранами.
У дверей больницы умирающий старик закричал мне:
– До свидания!
Мы вышли наконец на двор. Я вздохнул: это меня освежило.
Недолго шли мы на чистом воздухе. Карета с почтовыми лошадьми, уже совсем заложенная, стояла на первом дворе – та же самая карета, в которой я сюда приехал: нечто вроде длинной колымаги, разгороженной вертикально на два отделения проволочною решеткою, да такою частою, что можно было подумать, что она вязаная. Оба эти отделения снабжены дверцами: одна спереди, другая сзади кареты. И все это до того грязно, засалено, запылено, что похоронные дроги нищих в сравнении с этой колымагой кажутся парадной каретой.
Прежде чем погребсти себя в этой двухколесной могиле, я бросил взгляд на двор – один из тех отчаянных взглядов, от которых, кажется, должны бы сокрушиться стены. Двор, небольшая площадка, усаженная деревьями, был переполнен более зрителями, чем каторжными. О сию пору толпа!
Точно так же как и в день отправления каторжных, моросил осенний дождь, частый и холодный, который моросит и теперь, когда я пишу это, и, без сомнения, проморосит целый день; он переживет меня.
Дороги были размыты, двор полон грязи и луж. Я с удовольствием смотрел на толпу, которая вязла в такой грязи.
Мы влезли в колымагу: экзекутор с жандармом в переднее отделение; священник, я и другой жандарм – в заднее. Около кареты четыре конных жандарма. Таким образом, без почтальона восемь человек на одного.
В то время как я влезал, какая-то сероглазая старуха сказала:
– Это получше кордона.
Я ее понимаю. Это спектакль, который скорее охватишь взором: скорее осмотришь. Это так же интересно, но гораздо удобнее. Ничто не развлекает вас. Тут только один человек, но над этим одним человеком обрушилось столько же бед, как над всеми каторжными вместе взятыми. Тут больше сжатости: это сгущенный напиток, и потому гораздо вкуснее.
Колымага двинулась. Прогремев под сводом больших ворот, она вкатила в аллею, и тяжелые двери Бисетра закрылись за нами. Я чувствовал, что еду в каком-то оцепенении, как человек, впавший в летаргию, который не может ни пошевелиться, ни закричать, а между тем слышит, что его хоронят. Я смутно слышал, как звякали бубенчики на шеях почтовых лошадей: иногда в каданс, иногда подобно какой-то икоте, – как колесные шины гремели по мостовой или стукались о кузов, переменяя колею; звонкий галоп жандармов около колымаги, щелканье бича почтальона. Все это казалось мне каким-то вихрем, который носил меня.
Сквозь решетку окна, которое было передо мною, глаза мои машинально остановились на надписи, выбитой большими буквами над главным подъездом Бисетра: «Богадельня для престарелых».
«Вот те на, – сказал я про себя, – по-видимому, здесь можно состариться».
И, как это бывает между сном и бдением, я стал переворачивать эту мысль во все стороны в своем уме, оцепеневшем от горя. Вдруг повозка, скоротив с аллеи на большую дорогу, изменила вид из моего окошка. В нем, как в рамке, внезапно очутились башни Собора Богоматери, синеватые и будто полустушеванные парижским туманом. Так же внезапно изменилась и мысль в уме моем. Вместо образа Бисетра появился образ соборных башен.