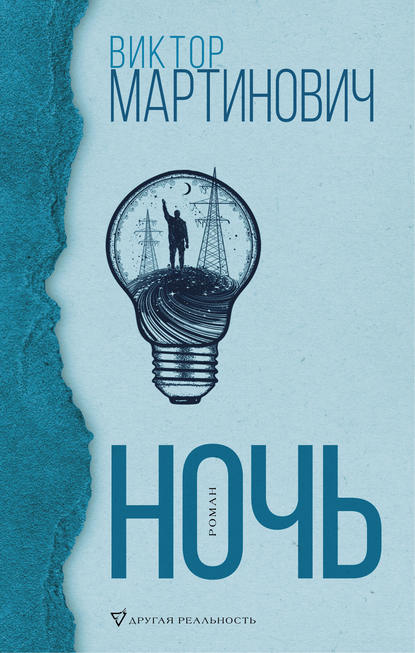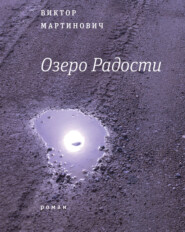По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ночь
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И я решила типа сэкономить. Поужинала, взяла чай в термосе и двинула вверх. Перепад высот несерьезный, меньше километра, можно не спешить. Музыку слушала. Роса уже легла, поэтому сошла с тропинки на разъезженную дорогу. А на той можжевеловой аллее меня подобрал джип с китайскими туристами.
Тут графитовый человек во мне захотел задать вопрос, не потому ли она звонит, что встречает рассвет в Сарангкоте. Но мой внутренний графитовый человек никогда не прошел бы тест Тьюринга, настолько он был тупой. Потому что с учетом текущих отношений такой вопрос был по-человечески неуместным. Вместо этого я почти утвердительно произнес:
– Красиво вокруг.
– Вершина затянута тучами, но через прогалины проглядывает такая… не громадина даже. А невероятных размеров стена. На много километров вверх. Тут ощущаешь, что вселенная неизмеримо больше мира двуногих козявок. Когда выглянет солнце, стена – помнишь? – станет оранжевой.
– Помню, – сглотнул я.
– Но рассвет еще не начался, небо черное.
Внезапно в трубке прогремело, будто где-то рядом с моей собеседницей взлетал самолет. Герда снова гавкнула, на этот раз беспокойно.
– Что это? – встревожился я.
– А это прикол такой. «Трубы конца». Тут рядом со смотровой площадкой буддистский монастырь. Когда первый раз заревело, китайцы туда сбегали и спросили, что происходит. И монахи им ответили, что празднуют «пуджу конца». Китайцы, естественно, поинтересовались, почему буддисты устроили «пуджу конца» на рассвете, а те весело объяснили, что просто пришло для этого время. И быстро попрощались. Очень были заняты своими трубами.
Мы помолчали. Ветер на том конце утих. Человек – создание, которое трудно имитировать. Я так ждал этого разговора, а теперь все мои слова подморозило ноябрем растерянности. Сейчас я мог бы попросить прощения. Еще раз.
– Зачитать тебе парочку новых? – наконец предложила она.
Я этого не ожидал.
– И почему ты не заведешь себе Твиттер? – заученно пошутил я в ответ.
– В чем ценность афоризма, который знает весь Интернет? Из оправы для мудрости он превращается в признак подключенности к Cети.
– Раньше ты по-другому реагировала: «Потому что мне не шестьдесят лет».
– Ну тогда вот тебе из гималайских заметок: «В горах необязательно идти, чтобы пейзаж менялся. Все делают солнце и ветер».
Я промолчал, потому что афоризм меня не впечатлил. Собеседница смущенно хмыкнула и продолжила:
– «Все счастливые семьи несчастливы одинаково, каждая несчастливая семья счастлива по-своему».
Это мне понравилось, но с учетом наших текущих отношений я посчитал, что лучше проглотить похвалу.
На том конце раздался новый странный звук, похожий на отдаленный плач. Герда, услышав отголосок из трубки, оскалилась, будто хотела завыть.
– Что это? – прислушался я.
– Странновато… – В голосе появилась тревога. – Собаки завыли. Все собаки поселка. Как будто кто-то приказ отдал.
– Так бывает. Собаки обычно подхватывают вой. Одна начнет – другие за ней.
– И вот чего еще не могу понять. По часам солнце уже десять минут как встать должно было. А тут даже небо не посерело.
– Ты ошиблась в расчетах. Или часы синхронизировались с чем-то не тем и перескочили на десять минут назад. Бывает. Если и есть в космосе какое-то расписание, которому можно доверять, то это график рассветов и закатов.
Голос стал спокойнее.
– Может, и правда все в порядке. Сейчас еще и все огни внизу, у озера, погасли. Там огромный город. И он теперь весь во тьме. И ветер затих. Наверное, так всегда перед рассветом. Экономят энергию.
– Автоматика у них, скорее всего. У нас в Минске то же самое. Перед тем как солнце встанет, фонари гаснут.
Собаки продолжали истерично выть. Герда встревоженно всматривалась мне в лицо. В голове мелькнула новая, не из мирного времени, мысль, что, если на том конце что-то случится, я никак – ну просто совсем никак – не смогу помочь. Но что могло случиться? Она в Непале, а не в Афганистане. И даже то, что в Минске сначала светлело, а потом только автоматика отключала фонари, не должно было меня настораживать. Кто его знает, какие алгоритмы энергосбережения применяют в Гималаях.
– Что-то и на смотровой площадке у нас свет пропал, – спокойно заметил голос. – А у китайцев сдох телефон, с которого они попсу слушали. Тишь и жуть. Но они пытаются петь. Ты про Google Homo читал?
Ответить я не успел, наш разговор прервался. А несколькими секундами позже свет погас и у меня в комнате. За окнами тоже стояла темень: фонари проспекта, видневшегося через ветви далеких тополей, как и окна соседних пятиэтажек, оказались в полной темноте. Я прикинул в голове масштабы блэкаута, который одновременно случился бы и в непальских Гималаях, и в не самой простой для жизни столице, и отбросил возможность взаимосвязи как анекдотичную. Совпадение, просто совпадение.
Наледь на окне образовала остроконечный узор, похожий на кленовый лист. Раньше, до того как темно стало с обеих сторон стекла, он не так бросался в глаза. Я вышел на пропахшую мокрой тряпкой лестничную площадку проверить пробки, но, как ни клацал автоматами, восстановить подачу электричества не удалось. Ни в тот вечер, ни когда-либо позже.
И если перечислять отвратительные для меня вещи того мира, который закончился с ночным разговором, то возглавят список тексты, написанные живыми людьми, чья логика и стилистика стала полностью неотличимой от логики и стилистики роботов.
Интернет в яблочнике пропал, но само устройство держалось еще семь часов. К сожалению, никто в первые минуты блэкаута не понял, насколько ценным был каждый миг прощальной работы гаджетов.
Что бы я сделал, если бы смог включить своего бывшего электронного друга хотя бы на минуту? Поставил бы трек одной старинной группы. Мелодия до сих пор крутится у меня в голове. Там сначала идет медленное, даже немного неряшливое гитарное треньканье. А потом вступает голос. Он будто не поет, а говорит. Говорит, обращаясь к кому-то очень близкому. Он призывает проснуться. Вытереть слезы. И бежать. Я забыл точные слова и название трека, а посмотреть уже негде. Поверьте, ничего более осмысленного, обогащающего и прекрасного, чем прослушивание этой мелодии, человек с помощью электронного устройства сделать не мог. Ни в какие времена.
Тетрадь первая
Раздел первый
Далекие вскрики ратушных колоколов. Остроконечный узор, похожий на кленовый лист. Он серебристо сиял на почерневшем бархате заиндевевшего оконного стекла. Сколько времени прошло, а тонкие прожилки не растаяли, не оплыли, вообще никак не изменились. Лучшее доказательство того, что температура за прошедшую вечность ни разу не менялась (если кому-то такие доказательства в принципе нужны). Собаченция уже проснулась, она всегда просыпается за несколько мгновений до первого удара колокола. Как обычно, спрыгнула с постели, где мы греем друг друга, и царапала когтями пол перед входной дверью.
Я откинул старые дубленки и шубы, которыми укрывался поверх двух одеял, и вслушался в звон колоколов. Ну как. «Колокола» – это, конечно, громко сказано. Поскольку никаких иных способов оповещения населения, кроме звуковых, у муниципалитета не осталось, в начале рабочего дня звонарь, чье имя Гацак, восемь раз бьет по куцей ржавой рейке, прикрепленной высоко на заводской трубе над озером.
Мол, будем считать, что сейчас «восемь часов» «утра». Понятно, что никакого «утра» у нас уже вечность как не было, но надо же как-то начинать «новый день». И только не спрашивайте у меня, как Гацак определяет промежуток времени от последнего «вечернего» звона до первого «утреннего». Половина вольной Грушевки подозревает его в том, что он мухлюет. Просто чтобы поиздеваться над горожанами, доверяющими ему, козлобородому.
В условиях, когда работающих часов не осталось совсем ни у кого (кому интересно тратить бесценный цинк на такую условную вещь, как «время»), звонить ежедневную «заутреню» Гацак может начинать прямо после того, как его голова прояснится от воздействия солидной дозы браги. А без нее не обходится ни один его «вечерний» выход к трубе. Задай ему вопрос о его способе следить за временем, и он обязательно покажет три механических будильника, заведенных ровно на восемь часов утра. Только вот на будильниках всегда разное время. Бывало и такое, что вольный город Грушевка вставал, начинал ссориться, торговать и шевелиться, так и не дождавшись гацаковского звона.
Звонаря в таких случаях находили очень больным, причем выхлоп в его каморке не оставлял сомнений в том, чем он заболел. Он неизбежно получал в рог от Бургомистра, но оставался на своей должности, при каморке и при цинке налогоплательщиков. Гацак незаменим, ведь кому еще захочется следить за цокотом маленьких механических чудищ, отмеряющих ход погибшего времени.
Когда-то продолжительность дня изменялась оборотом Земли вокруг своей оси, продолжительность года – оборотом Земли вокруг Солнца. После блэкаута концепцию «Солнца» пришлось пересмотреть. Часть соседних городов-государств, например, пустынный и очень опасный Институт Культуры, полностью отменили единое для всех время. Рынки там никогда не закрываются, а потому и налеты на них возможны в любой момент темени.
Звук «утреннего звона» у Гацака получается вялый, но, если захочешь синхронизироваться с остальной Грушевкой, услышишь. Хотя бы с восьмого раза. А вот сразу после восьмой склянки нужно вслушиваться внимательнее. Здесь начинается время государственных объявлений. Их возвещает «Дементей» – более длинная чугунная рейка, которая скрипит визгливо и очень противно. Три удара Дементея – общее собрание. Нужно одеться по-богатому и прийти в актовый зал бывшей больницы, которая способна вместить значительное количество жителей муниципалии. Как правило, на общих собраниях решается вопрос перевыборов Бургомистра, ведь мы не какая-нибудь военная диктатура, чтобы Бургомистр правил без выборов. Но он уже не молод, а мы не злодеи, чтобы отправлять на покой старика, который тут все наладил. Благодаря ему мы не проиграли в войне за территории. Благодаря ему у нас демократия и относительный порядок. Не то что на Институте Культуры.
Два удара – карантин. Это значит, что заезжие торговцы углем снова занесли в вольную Грушевку какую-то заразу: насморк, ротавирус или даже грипп. И лучше из своих каморок не вылезать, пусть микроб сдохнет.
Один удар по Дементею – он прозвучал сейчас – значит, что сегодня у нас «праздник горячей воды». Ну как «горячей». Настолько не холодной, что не слишком теплолюбивые могут даже помыться.
Трубы почти сразу заскрежетали – помпы котельной начали нагонять в систему тепловатую водичку. Обычно воду в кране, как и батареи отопления, греют до такой стадии, чтобы не замерзали теплопроводы. Благодаря этому в моей трешке-матрешке даже не всегда идет пар изо рта. А чтобы на кухне замерзла в кружке вода, такого вообще ни разу не случалось. Не представляю, как живется народу на Институте Культуры, где угольной котельной нет и люди греются у костерков, разожженных по-черному на бетонных полах.
Температура воды продержится недолго, поэтому надо спешить. Я подхватил с пола динамо-фонарь, накрутил его до стадии, когда он начал выдавать ровный блеклый свет, и побежал в ванную. Ванная комната казалась более темной, чем остальная квартира. Я отыскал на тонущих в сумраке полочках кусочек мыла, больше похожий на парафиновую свечку. Вялая струя из душа имела уютно-ржавый оттенок, отчего при голубоватом свете диодного фонаря могло показаться, что я моюсь чаем.
Герда сердито царапнула двери. По ее мнению, хозяин слишком часто моется. Особенно некстати эта нездоровая привычка поражает его в тот момент, когда он должен вести свою единственную питомицу гулять. Бестолковый хозяин! Вытершись злым от холода полотенцем, я впрыгнул в пальто, нацепил тяжелую заячью шапку и вышел с собакой на улицу. Тут пока было тихо: вольные граждане принимали душ.
Небо, как всегда, было затянуто одеялом облаков медно-перламутрового цвета. Обычное зимнее небо над Минском: ни луны, ни звезд. Ни радости, ни надежды. Как на картинах древних мастеров в альбоме «Искусство советского пейзажа БССР».
Тут графитовый человек во мне захотел задать вопрос, не потому ли она звонит, что встречает рассвет в Сарангкоте. Но мой внутренний графитовый человек никогда не прошел бы тест Тьюринга, настолько он был тупой. Потому что с учетом текущих отношений такой вопрос был по-человечески неуместным. Вместо этого я почти утвердительно произнес:
– Красиво вокруг.
– Вершина затянута тучами, но через прогалины проглядывает такая… не громадина даже. А невероятных размеров стена. На много километров вверх. Тут ощущаешь, что вселенная неизмеримо больше мира двуногих козявок. Когда выглянет солнце, стена – помнишь? – станет оранжевой.
– Помню, – сглотнул я.
– Но рассвет еще не начался, небо черное.
Внезапно в трубке прогремело, будто где-то рядом с моей собеседницей взлетал самолет. Герда снова гавкнула, на этот раз беспокойно.
– Что это? – встревожился я.
– А это прикол такой. «Трубы конца». Тут рядом со смотровой площадкой буддистский монастырь. Когда первый раз заревело, китайцы туда сбегали и спросили, что происходит. И монахи им ответили, что празднуют «пуджу конца». Китайцы, естественно, поинтересовались, почему буддисты устроили «пуджу конца» на рассвете, а те весело объяснили, что просто пришло для этого время. И быстро попрощались. Очень были заняты своими трубами.
Мы помолчали. Ветер на том конце утих. Человек – создание, которое трудно имитировать. Я так ждал этого разговора, а теперь все мои слова подморозило ноябрем растерянности. Сейчас я мог бы попросить прощения. Еще раз.
– Зачитать тебе парочку новых? – наконец предложила она.
Я этого не ожидал.
– И почему ты не заведешь себе Твиттер? – заученно пошутил я в ответ.
– В чем ценность афоризма, который знает весь Интернет? Из оправы для мудрости он превращается в признак подключенности к Cети.
– Раньше ты по-другому реагировала: «Потому что мне не шестьдесят лет».
– Ну тогда вот тебе из гималайских заметок: «В горах необязательно идти, чтобы пейзаж менялся. Все делают солнце и ветер».
Я промолчал, потому что афоризм меня не впечатлил. Собеседница смущенно хмыкнула и продолжила:
– «Все счастливые семьи несчастливы одинаково, каждая несчастливая семья счастлива по-своему».
Это мне понравилось, но с учетом наших текущих отношений я посчитал, что лучше проглотить похвалу.
На том конце раздался новый странный звук, похожий на отдаленный плач. Герда, услышав отголосок из трубки, оскалилась, будто хотела завыть.
– Что это? – прислушался я.
– Странновато… – В голосе появилась тревога. – Собаки завыли. Все собаки поселка. Как будто кто-то приказ отдал.
– Так бывает. Собаки обычно подхватывают вой. Одна начнет – другие за ней.
– И вот чего еще не могу понять. По часам солнце уже десять минут как встать должно было. А тут даже небо не посерело.
– Ты ошиблась в расчетах. Или часы синхронизировались с чем-то не тем и перескочили на десять минут назад. Бывает. Если и есть в космосе какое-то расписание, которому можно доверять, то это график рассветов и закатов.
Голос стал спокойнее.
– Может, и правда все в порядке. Сейчас еще и все огни внизу, у озера, погасли. Там огромный город. И он теперь весь во тьме. И ветер затих. Наверное, так всегда перед рассветом. Экономят энергию.
– Автоматика у них, скорее всего. У нас в Минске то же самое. Перед тем как солнце встанет, фонари гаснут.
Собаки продолжали истерично выть. Герда встревоженно всматривалась мне в лицо. В голове мелькнула новая, не из мирного времени, мысль, что, если на том конце что-то случится, я никак – ну просто совсем никак – не смогу помочь. Но что могло случиться? Она в Непале, а не в Афганистане. И даже то, что в Минске сначала светлело, а потом только автоматика отключала фонари, не должно было меня настораживать. Кто его знает, какие алгоритмы энергосбережения применяют в Гималаях.
– Что-то и на смотровой площадке у нас свет пропал, – спокойно заметил голос. – А у китайцев сдох телефон, с которого они попсу слушали. Тишь и жуть. Но они пытаются петь. Ты про Google Homo читал?
Ответить я не успел, наш разговор прервался. А несколькими секундами позже свет погас и у меня в комнате. За окнами тоже стояла темень: фонари проспекта, видневшегося через ветви далеких тополей, как и окна соседних пятиэтажек, оказались в полной темноте. Я прикинул в голове масштабы блэкаута, который одновременно случился бы и в непальских Гималаях, и в не самой простой для жизни столице, и отбросил возможность взаимосвязи как анекдотичную. Совпадение, просто совпадение.
Наледь на окне образовала остроконечный узор, похожий на кленовый лист. Раньше, до того как темно стало с обеих сторон стекла, он не так бросался в глаза. Я вышел на пропахшую мокрой тряпкой лестничную площадку проверить пробки, но, как ни клацал автоматами, восстановить подачу электричества не удалось. Ни в тот вечер, ни когда-либо позже.
И если перечислять отвратительные для меня вещи того мира, который закончился с ночным разговором, то возглавят список тексты, написанные живыми людьми, чья логика и стилистика стала полностью неотличимой от логики и стилистики роботов.
Интернет в яблочнике пропал, но само устройство держалось еще семь часов. К сожалению, никто в первые минуты блэкаута не понял, насколько ценным был каждый миг прощальной работы гаджетов.
Что бы я сделал, если бы смог включить своего бывшего электронного друга хотя бы на минуту? Поставил бы трек одной старинной группы. Мелодия до сих пор крутится у меня в голове. Там сначала идет медленное, даже немного неряшливое гитарное треньканье. А потом вступает голос. Он будто не поет, а говорит. Говорит, обращаясь к кому-то очень близкому. Он призывает проснуться. Вытереть слезы. И бежать. Я забыл точные слова и название трека, а посмотреть уже негде. Поверьте, ничего более осмысленного, обогащающего и прекрасного, чем прослушивание этой мелодии, человек с помощью электронного устройства сделать не мог. Ни в какие времена.
Тетрадь первая
Раздел первый
Далекие вскрики ратушных колоколов. Остроконечный узор, похожий на кленовый лист. Он серебристо сиял на почерневшем бархате заиндевевшего оконного стекла. Сколько времени прошло, а тонкие прожилки не растаяли, не оплыли, вообще никак не изменились. Лучшее доказательство того, что температура за прошедшую вечность ни разу не менялась (если кому-то такие доказательства в принципе нужны). Собаченция уже проснулась, она всегда просыпается за несколько мгновений до первого удара колокола. Как обычно, спрыгнула с постели, где мы греем друг друга, и царапала когтями пол перед входной дверью.
Я откинул старые дубленки и шубы, которыми укрывался поверх двух одеял, и вслушался в звон колоколов. Ну как. «Колокола» – это, конечно, громко сказано. Поскольку никаких иных способов оповещения населения, кроме звуковых, у муниципалитета не осталось, в начале рабочего дня звонарь, чье имя Гацак, восемь раз бьет по куцей ржавой рейке, прикрепленной высоко на заводской трубе над озером.
Мол, будем считать, что сейчас «восемь часов» «утра». Понятно, что никакого «утра» у нас уже вечность как не было, но надо же как-то начинать «новый день». И только не спрашивайте у меня, как Гацак определяет промежуток времени от последнего «вечернего» звона до первого «утреннего». Половина вольной Грушевки подозревает его в том, что он мухлюет. Просто чтобы поиздеваться над горожанами, доверяющими ему, козлобородому.
В условиях, когда работающих часов не осталось совсем ни у кого (кому интересно тратить бесценный цинк на такую условную вещь, как «время»), звонить ежедневную «заутреню» Гацак может начинать прямо после того, как его голова прояснится от воздействия солидной дозы браги. А без нее не обходится ни один его «вечерний» выход к трубе. Задай ему вопрос о его способе следить за временем, и он обязательно покажет три механических будильника, заведенных ровно на восемь часов утра. Только вот на будильниках всегда разное время. Бывало и такое, что вольный город Грушевка вставал, начинал ссориться, торговать и шевелиться, так и не дождавшись гацаковского звона.
Звонаря в таких случаях находили очень больным, причем выхлоп в его каморке не оставлял сомнений в том, чем он заболел. Он неизбежно получал в рог от Бургомистра, но оставался на своей должности, при каморке и при цинке налогоплательщиков. Гацак незаменим, ведь кому еще захочется следить за цокотом маленьких механических чудищ, отмеряющих ход погибшего времени.
Когда-то продолжительность дня изменялась оборотом Земли вокруг своей оси, продолжительность года – оборотом Земли вокруг Солнца. После блэкаута концепцию «Солнца» пришлось пересмотреть. Часть соседних городов-государств, например, пустынный и очень опасный Институт Культуры, полностью отменили единое для всех время. Рынки там никогда не закрываются, а потому и налеты на них возможны в любой момент темени.
Звук «утреннего звона» у Гацака получается вялый, но, если захочешь синхронизироваться с остальной Грушевкой, услышишь. Хотя бы с восьмого раза. А вот сразу после восьмой склянки нужно вслушиваться внимательнее. Здесь начинается время государственных объявлений. Их возвещает «Дементей» – более длинная чугунная рейка, которая скрипит визгливо и очень противно. Три удара Дементея – общее собрание. Нужно одеться по-богатому и прийти в актовый зал бывшей больницы, которая способна вместить значительное количество жителей муниципалии. Как правило, на общих собраниях решается вопрос перевыборов Бургомистра, ведь мы не какая-нибудь военная диктатура, чтобы Бургомистр правил без выборов. Но он уже не молод, а мы не злодеи, чтобы отправлять на покой старика, который тут все наладил. Благодаря ему мы не проиграли в войне за территории. Благодаря ему у нас демократия и относительный порядок. Не то что на Институте Культуры.
Два удара – карантин. Это значит, что заезжие торговцы углем снова занесли в вольную Грушевку какую-то заразу: насморк, ротавирус или даже грипп. И лучше из своих каморок не вылезать, пусть микроб сдохнет.
Один удар по Дементею – он прозвучал сейчас – значит, что сегодня у нас «праздник горячей воды». Ну как «горячей». Настолько не холодной, что не слишком теплолюбивые могут даже помыться.
Трубы почти сразу заскрежетали – помпы котельной начали нагонять в систему тепловатую водичку. Обычно воду в кране, как и батареи отопления, греют до такой стадии, чтобы не замерзали теплопроводы. Благодаря этому в моей трешке-матрешке даже не всегда идет пар изо рта. А чтобы на кухне замерзла в кружке вода, такого вообще ни разу не случалось. Не представляю, как живется народу на Институте Культуры, где угольной котельной нет и люди греются у костерков, разожженных по-черному на бетонных полах.
Температура воды продержится недолго, поэтому надо спешить. Я подхватил с пола динамо-фонарь, накрутил его до стадии, когда он начал выдавать ровный блеклый свет, и побежал в ванную. Ванная комната казалась более темной, чем остальная квартира. Я отыскал на тонущих в сумраке полочках кусочек мыла, больше похожий на парафиновую свечку. Вялая струя из душа имела уютно-ржавый оттенок, отчего при голубоватом свете диодного фонаря могло показаться, что я моюсь чаем.
Герда сердито царапнула двери. По ее мнению, хозяин слишком часто моется. Особенно некстати эта нездоровая привычка поражает его в тот момент, когда он должен вести свою единственную питомицу гулять. Бестолковый хозяин! Вытершись злым от холода полотенцем, я впрыгнул в пальто, нацепил тяжелую заячью шапку и вышел с собакой на улицу. Тут пока было тихо: вольные граждане принимали душ.
Небо, как всегда, было затянуто одеялом облаков медно-перламутрового цвета. Обычное зимнее небо над Минском: ни луны, ни звезд. Ни радости, ни надежды. Как на картинах древних мастеров в альбоме «Искусство советского пейзажа БССР».
Другие электронные книги автора Виктор Мартинович
Другие аудиокниги автора Виктор Мартинович
Ночь




 0
0