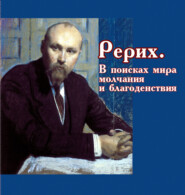По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На краю личной Вселенной
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На краю личной Вселенной
Виктор Владимирович Меркушев
Этому сборнику вполне можно было бы дать иное название. Например, «Сборник рассказов о жизни», если, конечно, учесть то обстоятельство, что под жизнью автор понимает не набор биографических и объективных данных, понятных всем по анкетам, характеристикам и резюме, а тот поток мыслей и тот пульс чувств, при помощи которых каждый из нас общается с Миром. И зачастую эта вторая, сокрытая от других жизнь, гораздо важнее и весомей первой, той, что с канцелярской точностью прописана в наших анкетах.
Виктор Меркушев
На краю личной Вселенной
На авантитуле: «Ротонда»
Холст, масло. 50x50 2015
© Меркушев В.В., 2020
© «Знакъ», макет, 2020
Никто не знает, который час
Нельзя сказать, чего Игнасий не любил больше: свою комнату, полумрак которой было невозможно одолеть семирожковой люстрой и трёхлапым бра, или отведённое ему рабочее место, зажатое между унылыми стеллажами и вентиляционными трубами, куда света проникало ещё меньше. Игнасий был одним из тех, кому не хватило места не только «под солнцем», но даже под цеховыми люминесцентными лампами, довольно-таки старыми и забитыми непобедимой потолочной пылью. Свет этих ламп почти целиком съедался ненасытной мглой его закутка, и приходилось довольствоваться подвеской с металлическим абажуром, у которой едва-едва хватало сил для освещения необходимых ему вещей. Игнасий никак не мог понять, отчего в юности было так много яркого, ликующего света и куда он исчез. Если бы тогда его спросили про гиблую всепоглощающую тьму, ставшую неизменной спутницей его дальнейшей жизни, он, скорее всего, не сразу бы понял, о чём, собственно, идёт речь. Но это было давно, когда стрелки часов ещё находились в зените весны, с её обильным солнцем и лучезарным небом. Сейчас же никто не мог ему сообщить, где в настоящее время находятся те самые стрелки, некогда возвещавшие щедрое солнце и бесконечный свет. Поэтому Игнасий не знал, что сейчас там – в пространстве между цеховыми стеллажами и стенами его полутёмного дома. Впрочем, если разобраться, то это временное неведение было, пожалуй, единственным надёжным источником света, освещавшим теперь его жизнь изнутри, поскольку нет ничего кромешней достоверного знания, определяемого бесцветным и беспросветным словом «навсегда».
Вопреки памяти
Тучи так плотно укутали весь небесный свод, что наметившаяся гармония зыбких теней и недвижного полусвета лишний раз убедила Войтека в вероломной пагубе солнечных лучей, убивающих сложное многоцветие сумеречного мира и признающих исключительно простые предметные формы, очерченные жёстким грубоватым контуром.
Ему было хорошо известно как солнечное величие властно накладывало на всё, пребывающее внизу, свою собственническую печать, вынуждая приветствовать настырный всепобеждающий свет и отмечать хлопотливые праздники бытия, бесцеремонно навязанные всяческой живой твари, обретающейся под солнцем.
А Войтек не любил праздники из-за вечного несоответствия внешнего антуража и внутреннего содержания, справедливо обвиняя их в беспамятстве. По его убеждению, лишь пределы полутени были способны хранить память, показывая истинные цвета и размеры вещей. Войтек не понимал, зачем упрямые лучи так безжалостно преследуют сумерки, которые в естественной будничной прямоте, без выхолащивания истинной сути и правды вещей, воздают хвалу животворящему солнцу, сотворившему этот удивительный мир. Однако праздничное ликование перекрывало гимны сумерек, их высокую и правдивую тему. Граница между увеличением степеней возможного и желательным упрощением проходила как раз по узкой полосе сопряжения света и тени, и Войтек, отдавая дань изначальной вещественной значимости, не мог не признать, что в торжестве лучей с потерявшего самодостаточность и объём предмета снимается масса противоречий как внутри себя, так и во взаимодействии с остальными. Ведь праздники провозглашают и прославляют жизнь, а жизнь не имеет памяти, она утверждается, подминая под себя прошлое и отбирая из природного многообразия самое приспособленное к солнечному свету, которое всегда готово воспроизводиться и, собственно, быть.
За бетонным забором
Пока рядом не появились остроконечные многоэтажки, у него по праву сохранялся статус самого приметного здания на всей улице, заросшей яблоневыми садами и увешанной тяжёлыми медными проводами, которые свисали с просмолённых деревянных опор. Но если бы можно было Ладвика спросить, что он думает об этом доме, то Ладвик нашёл бы для него более подходящее слово, нежели бездушное прилагательное «приметный».
Дом, действительно, обращал на себя внимание любого проходящего своей бархатистой сиреневой штукатуркой и потемневшей желтоватой лепниной под жестяною крашеной крышей, уставленной серыми трубами и густым лесом телевизионных антенн. Впрочем, у Ладвика было бы что добавить к этому лаконичному описанию, поскольку он усматривал в сиреневом строении вполне человеческие черты, полагая его если не своим другом, то, по крайней мере, хорошим старым знакомым.
Ошибается тот, кто полагает, что привязанность и дружба проигрывают в долговечности каменным стенам и монументальным опорам для металлических проводов. В памяти Ладвика ещё кипели душистым цветением яблоневые сады и пели птицы на тяжёлых медных проводах, а его любимую улицу уже невозможно было узнать. Сиреневый дом стоял среди неотличимых друг от друга высоток, окружённый бетонным строительным забором, и старомодно топорщился серыми трубами и никому не нужными проволочными антеннами. Ладвик чувствовал, как звенят от шума машин его старые оконные стёкла и как в гуляющих сквозняках хлопают лишённые замков двери.
Все эти звуки сбегались к нему, заставляя его постоянно прислушиваться и тревожиться об отгороженном доме.
Однажды Ладвик ощутил в груди такую острую пустоту и испытал такое безбрежное одиночество, что казалось будто бы вокруг совсем не осталось ничего, что сохраняло бы в себе прежние значения и имена. Он просто осязаемо чувствовал эту пустоту, точно исчезновение старого дома было равносильно потере части себя. Ладвик никак не мог понять, как можно жить в безликих многоэтажках, больше похожих на пчелиные соты, нежели на жилые дома, и кому теперь нужна прежняя улица, если на ней больше никогда не будут цвести яблоневые сады.
Но улица полнилась шумом машин и ликовала гомоном оживлённых тротуаров, совсем не вспоминая о снесённом доме.
Ладвик стоял около образовавшейся лакуны между высотками и ощущал себя совершенно ненужным в этой бесстрастной и забывчивой жизни. А там, где ни на секунду не прекращалась работа по возведению строительных лесов вокруг новых и новых судеб, архитекторы бытия уже приняли решение обнести Ладвика большим бетонным забором, чтобы ничего больше не мешало расти городу до самого неба, стекленея бездушными окнами и озеркаленными фасадами. Ведь оказавшись среди неразличимых зданий из стекла и металла, никому даже не придёт в голову, что на улицах могут кипеть цветением яблоневые сады, а открытое взгляду небо могут делить между собой разве что медные провода.
Разрыв шаблона
Как-то так вышло, что Бедрич перестал мечтать. Совсем-совсем, точно на дальнейшую жизнь у него уже не существовало планов.
Обычно Бедрич, не боясь насмешек, любил публично высказывать свои мысли, но только не на этот раз. Ведь как знать, чем обернётся прилюдное заявление в будущем, к которому Бедрич, казалось, теперь не имел никакого отношения.
Разумеется, будущее, привыкшее красоваться в блистающем свете воображения, до крайности было возмущено безразличием Бедрича. Оно высыпало перед отступником весь свой бисер и мишуру, даже не поскупившись на несколько бенгальских свечей из новогодней заначки. Но Бедрича это нисколько не впечатлило.
Более того, он и вовсе не узнал благообразный лик будущего, перепутав его с настоящим.
«Ах так! – негодовало будущее. – Человечество уже десятки тысяч лет уповает на меня, верит мне, преклоняется перед любой бусинкой моего праздничного наряда, а этот! Хам! Мерзавец!»
Только чем больше будущее выходило из себя, тем больше оно превращалось для Бедрича в настоящее. Впрочем, ему, будущему, нельзя было этого делать, поскольку всякая сущность имеет место быть лишь в своих строго очерченных рамках. А Бедрич, ни на что не надеясь и ни перед чем не преклоняясь, неспешно шествовал себе неизвестно куда и был почти счастлив.
Никогда не беседуйте с антропоморфными незнакомцами
У него был довольно-таки крупный нос и сильно вытянутая голова, но больше всего впечатляло то обстоятельство, что он был антропоморфен.
Однако нервы Бохумира не подвели, напротив, мысль его удивительно прояснилась: привычное эмоциональное дребезжание больше не мешало думать и находить в памяти нужные аргументы и правильные слова.
Понимание уникальности ситуации сильно мотивировало Бохумира к сдержанности и рассудительности, однако причины его просветления, пожалуй, следовало бы искать где-то в глубинах подсознания, откуда шла необычайно мощная волна уверенности и силы.
– Пространство не расширяется, а обретает себя, раскрывая свёрнутые измерения, – голос антропоморфного существа был взрывным и колючим, похожим на треск сухой надломившейся ветки. – Торможение запускает процессы самокопирования струн, в которых уже наличествует жизнь в самом высоком её проявлении.
– Выходит, жизнь – это свойство материи? Хотя и здесь вы привычно не смогли обойтись без сложноподчинённой иерархии! – Бохумир полагал, что его вопрос так и останется вопросом, однако ответ всё-таки последовал.
– Что вы так сосредоточились на материи, как будто кроме неё ничего нет! Материя способна являть собой разнообразные формы сознания, но сама жизнь имеет нематериальную природу, хотя вы упрямо держитесь обратного!
– Материя – есть порождение жизни?
– Не только материя. Как можно искать то, о чём не имеете ни малейшего представления? Жизнь первична, и вам необходимо понять что же это такое.
Бохумиру показалось, что собеседник ехидно усмехнулся и в его глазах засветились прыгающие игривые огоньки.
Бохумира это почему-то сильно разозлило. Ему не нравились наделённые сознанием бозоны и дышащая ему в затылок разумная тёмная энергия. Но его визави всё-таки раздражал сильнее, несмотря на вполне себе пристойный вид антропоморфного существа.
С наличием сознания высшего иерархического порядка Бохумир ещё как-то готов был мириться, но вот с чувственным превосходством – уже никак нет!
– Какого чёрта! – вырвалось у Бохумира.
– Чёрта, говоришь?! – обрадованно проорал собеседник так громко, что Бохумиру показалось, что у засохшего векового дуба переломился узловатый полутораметровый ствол. – Во-во! И я тоже так думаю!
Антропоморфный собеседник задорно и гулко захохотал.
Только Бохумиру было отчего-то совсем не смешно.
Очередь
Никто не желал объявляться последним, хотя Воджтеч настойчиво такового искал. Люди демонстративно отворачивались или делали вид, что это их никоим образом не касается. И как бы ни уверял Воджтеч собравшихся, что после чистосердечного признания незавидный титул «последнего» уже законно перейдёт к нему, к Воджтечу, все по-прежнему упорно молчали.
Тогда вопрошающий решил пойти другим путём.
«Кто тут первый?!» – крикнул он в безмолвную толпу.
Сразу же отозвалось множество голосов – как уверенных и нахальных, так и вполне интеллигентных, но звучащих столь же убедительно и непреклонно. Вскоре между отозвавшимися, которые фактически разделись на два враждебных лагеря – «умеренных» и «нахрапистых», началась вялая словесная перепалка. Градус взаимной неприязни неуклонно повышался, пока, наконец, перепалка плавно не переросла в бодрую и злобную ругань. Впрочем, как и следовало ожидать, выкриками и оскорблениями дело тут не ограничилось – разогретые противники сцепились, и завязалась большая драка. Постепенно к потасовке присоединились и все остальные, те, чей подлинный статус так и не был объявлен публично.
Виктор Владимирович Меркушев
Этому сборнику вполне можно было бы дать иное название. Например, «Сборник рассказов о жизни», если, конечно, учесть то обстоятельство, что под жизнью автор понимает не набор биографических и объективных данных, понятных всем по анкетам, характеристикам и резюме, а тот поток мыслей и тот пульс чувств, при помощи которых каждый из нас общается с Миром. И зачастую эта вторая, сокрытая от других жизнь, гораздо важнее и весомей первой, той, что с канцелярской точностью прописана в наших анкетах.
Виктор Меркушев
На краю личной Вселенной
На авантитуле: «Ротонда»
Холст, масло. 50x50 2015
© Меркушев В.В., 2020
© «Знакъ», макет, 2020
Никто не знает, который час
Нельзя сказать, чего Игнасий не любил больше: свою комнату, полумрак которой было невозможно одолеть семирожковой люстрой и трёхлапым бра, или отведённое ему рабочее место, зажатое между унылыми стеллажами и вентиляционными трубами, куда света проникало ещё меньше. Игнасий был одним из тех, кому не хватило места не только «под солнцем», но даже под цеховыми люминесцентными лампами, довольно-таки старыми и забитыми непобедимой потолочной пылью. Свет этих ламп почти целиком съедался ненасытной мглой его закутка, и приходилось довольствоваться подвеской с металлическим абажуром, у которой едва-едва хватало сил для освещения необходимых ему вещей. Игнасий никак не мог понять, отчего в юности было так много яркого, ликующего света и куда он исчез. Если бы тогда его спросили про гиблую всепоглощающую тьму, ставшую неизменной спутницей его дальнейшей жизни, он, скорее всего, не сразу бы понял, о чём, собственно, идёт речь. Но это было давно, когда стрелки часов ещё находились в зените весны, с её обильным солнцем и лучезарным небом. Сейчас же никто не мог ему сообщить, где в настоящее время находятся те самые стрелки, некогда возвещавшие щедрое солнце и бесконечный свет. Поэтому Игнасий не знал, что сейчас там – в пространстве между цеховыми стеллажами и стенами его полутёмного дома. Впрочем, если разобраться, то это временное неведение было, пожалуй, единственным надёжным источником света, освещавшим теперь его жизнь изнутри, поскольку нет ничего кромешней достоверного знания, определяемого бесцветным и беспросветным словом «навсегда».
Вопреки памяти
Тучи так плотно укутали весь небесный свод, что наметившаяся гармония зыбких теней и недвижного полусвета лишний раз убедила Войтека в вероломной пагубе солнечных лучей, убивающих сложное многоцветие сумеречного мира и признающих исключительно простые предметные формы, очерченные жёстким грубоватым контуром.
Ему было хорошо известно как солнечное величие властно накладывало на всё, пребывающее внизу, свою собственническую печать, вынуждая приветствовать настырный всепобеждающий свет и отмечать хлопотливые праздники бытия, бесцеремонно навязанные всяческой живой твари, обретающейся под солнцем.
А Войтек не любил праздники из-за вечного несоответствия внешнего антуража и внутреннего содержания, справедливо обвиняя их в беспамятстве. По его убеждению, лишь пределы полутени были способны хранить память, показывая истинные цвета и размеры вещей. Войтек не понимал, зачем упрямые лучи так безжалостно преследуют сумерки, которые в естественной будничной прямоте, без выхолащивания истинной сути и правды вещей, воздают хвалу животворящему солнцу, сотворившему этот удивительный мир. Однако праздничное ликование перекрывало гимны сумерек, их высокую и правдивую тему. Граница между увеличением степеней возможного и желательным упрощением проходила как раз по узкой полосе сопряжения света и тени, и Войтек, отдавая дань изначальной вещественной значимости, не мог не признать, что в торжестве лучей с потерявшего самодостаточность и объём предмета снимается масса противоречий как внутри себя, так и во взаимодействии с остальными. Ведь праздники провозглашают и прославляют жизнь, а жизнь не имеет памяти, она утверждается, подминая под себя прошлое и отбирая из природного многообразия самое приспособленное к солнечному свету, которое всегда готово воспроизводиться и, собственно, быть.
За бетонным забором
Пока рядом не появились остроконечные многоэтажки, у него по праву сохранялся статус самого приметного здания на всей улице, заросшей яблоневыми садами и увешанной тяжёлыми медными проводами, которые свисали с просмолённых деревянных опор. Но если бы можно было Ладвика спросить, что он думает об этом доме, то Ладвик нашёл бы для него более подходящее слово, нежели бездушное прилагательное «приметный».
Дом, действительно, обращал на себя внимание любого проходящего своей бархатистой сиреневой штукатуркой и потемневшей желтоватой лепниной под жестяною крашеной крышей, уставленной серыми трубами и густым лесом телевизионных антенн. Впрочем, у Ладвика было бы что добавить к этому лаконичному описанию, поскольку он усматривал в сиреневом строении вполне человеческие черты, полагая его если не своим другом, то, по крайней мере, хорошим старым знакомым.
Ошибается тот, кто полагает, что привязанность и дружба проигрывают в долговечности каменным стенам и монументальным опорам для металлических проводов. В памяти Ладвика ещё кипели душистым цветением яблоневые сады и пели птицы на тяжёлых медных проводах, а его любимую улицу уже невозможно было узнать. Сиреневый дом стоял среди неотличимых друг от друга высоток, окружённый бетонным строительным забором, и старомодно топорщился серыми трубами и никому не нужными проволочными антеннами. Ладвик чувствовал, как звенят от шума машин его старые оконные стёкла и как в гуляющих сквозняках хлопают лишённые замков двери.
Все эти звуки сбегались к нему, заставляя его постоянно прислушиваться и тревожиться об отгороженном доме.
Однажды Ладвик ощутил в груди такую острую пустоту и испытал такое безбрежное одиночество, что казалось будто бы вокруг совсем не осталось ничего, что сохраняло бы в себе прежние значения и имена. Он просто осязаемо чувствовал эту пустоту, точно исчезновение старого дома было равносильно потере части себя. Ладвик никак не мог понять, как можно жить в безликих многоэтажках, больше похожих на пчелиные соты, нежели на жилые дома, и кому теперь нужна прежняя улица, если на ней больше никогда не будут цвести яблоневые сады.
Но улица полнилась шумом машин и ликовала гомоном оживлённых тротуаров, совсем не вспоминая о снесённом доме.
Ладвик стоял около образовавшейся лакуны между высотками и ощущал себя совершенно ненужным в этой бесстрастной и забывчивой жизни. А там, где ни на секунду не прекращалась работа по возведению строительных лесов вокруг новых и новых судеб, архитекторы бытия уже приняли решение обнести Ладвика большим бетонным забором, чтобы ничего больше не мешало расти городу до самого неба, стекленея бездушными окнами и озеркаленными фасадами. Ведь оказавшись среди неразличимых зданий из стекла и металла, никому даже не придёт в голову, что на улицах могут кипеть цветением яблоневые сады, а открытое взгляду небо могут делить между собой разве что медные провода.
Разрыв шаблона
Как-то так вышло, что Бедрич перестал мечтать. Совсем-совсем, точно на дальнейшую жизнь у него уже не существовало планов.
Обычно Бедрич, не боясь насмешек, любил публично высказывать свои мысли, но только не на этот раз. Ведь как знать, чем обернётся прилюдное заявление в будущем, к которому Бедрич, казалось, теперь не имел никакого отношения.
Разумеется, будущее, привыкшее красоваться в блистающем свете воображения, до крайности было возмущено безразличием Бедрича. Оно высыпало перед отступником весь свой бисер и мишуру, даже не поскупившись на несколько бенгальских свечей из новогодней заначки. Но Бедрича это нисколько не впечатлило.
Более того, он и вовсе не узнал благообразный лик будущего, перепутав его с настоящим.
«Ах так! – негодовало будущее. – Человечество уже десятки тысяч лет уповает на меня, верит мне, преклоняется перед любой бусинкой моего праздничного наряда, а этот! Хам! Мерзавец!»
Только чем больше будущее выходило из себя, тем больше оно превращалось для Бедрича в настоящее. Впрочем, ему, будущему, нельзя было этого делать, поскольку всякая сущность имеет место быть лишь в своих строго очерченных рамках. А Бедрич, ни на что не надеясь и ни перед чем не преклоняясь, неспешно шествовал себе неизвестно куда и был почти счастлив.
Никогда не беседуйте с антропоморфными незнакомцами
У него был довольно-таки крупный нос и сильно вытянутая голова, но больше всего впечатляло то обстоятельство, что он был антропоморфен.
Однако нервы Бохумира не подвели, напротив, мысль его удивительно прояснилась: привычное эмоциональное дребезжание больше не мешало думать и находить в памяти нужные аргументы и правильные слова.
Понимание уникальности ситуации сильно мотивировало Бохумира к сдержанности и рассудительности, однако причины его просветления, пожалуй, следовало бы искать где-то в глубинах подсознания, откуда шла необычайно мощная волна уверенности и силы.
– Пространство не расширяется, а обретает себя, раскрывая свёрнутые измерения, – голос антропоморфного существа был взрывным и колючим, похожим на треск сухой надломившейся ветки. – Торможение запускает процессы самокопирования струн, в которых уже наличествует жизнь в самом высоком её проявлении.
– Выходит, жизнь – это свойство материи? Хотя и здесь вы привычно не смогли обойтись без сложноподчинённой иерархии! – Бохумир полагал, что его вопрос так и останется вопросом, однако ответ всё-таки последовал.
– Что вы так сосредоточились на материи, как будто кроме неё ничего нет! Материя способна являть собой разнообразные формы сознания, но сама жизнь имеет нематериальную природу, хотя вы упрямо держитесь обратного!
– Материя – есть порождение жизни?
– Не только материя. Как можно искать то, о чём не имеете ни малейшего представления? Жизнь первична, и вам необходимо понять что же это такое.
Бохумиру показалось, что собеседник ехидно усмехнулся и в его глазах засветились прыгающие игривые огоньки.
Бохумира это почему-то сильно разозлило. Ему не нравились наделённые сознанием бозоны и дышащая ему в затылок разумная тёмная энергия. Но его визави всё-таки раздражал сильнее, несмотря на вполне себе пристойный вид антропоморфного существа.
С наличием сознания высшего иерархического порядка Бохумир ещё как-то готов был мириться, но вот с чувственным превосходством – уже никак нет!
– Какого чёрта! – вырвалось у Бохумира.
– Чёрта, говоришь?! – обрадованно проорал собеседник так громко, что Бохумиру показалось, что у засохшего векового дуба переломился узловатый полутораметровый ствол. – Во-во! И я тоже так думаю!
Антропоморфный собеседник задорно и гулко захохотал.
Только Бохумиру было отчего-то совсем не смешно.
Очередь
Никто не желал объявляться последним, хотя Воджтеч настойчиво такового искал. Люди демонстративно отворачивались или делали вид, что это их никоим образом не касается. И как бы ни уверял Воджтеч собравшихся, что после чистосердечного признания незавидный титул «последнего» уже законно перейдёт к нему, к Воджтечу, все по-прежнему упорно молчали.
Тогда вопрошающий решил пойти другим путём.
«Кто тут первый?!» – крикнул он в безмолвную толпу.
Сразу же отозвалось множество голосов – как уверенных и нахальных, так и вполне интеллигентных, но звучащих столь же убедительно и непреклонно. Вскоре между отозвавшимися, которые фактически разделись на два враждебных лагеря – «умеренных» и «нахрапистых», началась вялая словесная перепалка. Градус взаимной неприязни неуклонно повышался, пока, наконец, перепалка плавно не переросла в бодрую и злобную ругань. Впрочем, как и следовало ожидать, выкриками и оскорблениями дело тут не ограничилось – разогретые противники сцепились, и завязалась большая драка. Постепенно к потасовке присоединились и все остальные, те, чей подлинный статус так и не был объявлен публично.