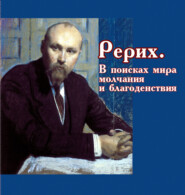По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Неправильная звезда
Год написания книги
2022
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
От кого-кого такое слышать, только не от Поломарчика. Не было большего тугодума среди моих одноклассников, нежели Серёга Поломарчик. Он сдувал у меня всё, что только можно было списать, а уж сколько раз я выручал его подсказкою у доски, того и вовсе невозможно было упомнить. Вот гусь! Он, кажется, сейчас трудится курьером в службе занятости, точно этого сказать не могу, но Лёнька Мекшин некогда так его рекомендовал. Критически осмыслить услышанное я не желал, вот если бы на месте Поломарчика был Мекшин, тогда был бы какой-никакой резон прислушиваться. А Поломарчик… Я с досадой махнул рукой в его сторону.
– Кто играет туз бубен! – громко заорал Лёнька Мекшин, внезапно выскочив передо мной во весь свой богатырский рост, ловко поигрывая звонким баскетбольным мячом.
Я ему поначалу даже обрадовался. Конечно же, это был Мекшин, хотя его физиономия просматривалась плохо, но зато все движения и фигура читались чётко и ясно.
Он немного почеканил мячом и со всего маху бросил его в меня.
– Лови кеку, обалдуй! – взвизгнул Лёнька, чуть подавшись вперёд. Удара я не почувствовал, зато лицо моё обожгла колючая снежная пыль.
– Бегать и прыгать, скакать-кувыркать, – не унимался Мекшин, запев дурным голосом какую-то незнакомую мне песню.
Лёнька был тихим и уравновешенным сотрудником нашего научно-исследовательского института, оттого увиденное поражало своей дикостью и абсурдом. Орущего и приплясывающего Мекшина невозможно было представить не только моему, но даже самому пылкому воображению, оттого это зрелище читалось как совершенный абсурд.
Но его внезапная партия, вероятно, не предполагала полноценной увертюры, и невидимый дирижёр вслед за бессмысленным «скакать-кувыркать» взмахнул своей проворною палочкой, и из пятнистого светового полотна вырос следом Захар Шаболдин – мой вузовский однокурсник, человек довольно-таки странный, за все неполные наши шесть лет не сказавший в мою сторону ни единого слова.
– Позвольте, позвольте, – протестовал против чего-то Шаболдин, – но куда же в таком случае деть наше эго? Должны же существовать какие-либо различия, хотя бы в планах дальнейшего естественного отбора!
– О каком отборе ты говоришь? – поинтересовался я у Захара, но тот, по-видимому, меня не слышал и продолжать говорить с неведомым мне собеседником.
– То есть вы полагаете, что индивидуальность присуща исключительно медиафагам? Вот незадача! Тогда причём здесь механизм отрицательной сепарации?
– Заха-а-ар, – позвал я Шаболдина, – Захар, отзовись!
Но Захар меня не слышал, хотя стоял всего в нескольких шагах от меня. Да и взгляд его обращён был непосредственно в мою сторону. Разговаривал он, очевидно, с кем-то, кого наблюдал вместо меня или же с тем, кто стоял сразу за моей спиной. Скорее всего, этот кто-то был просто огромным, ибо все жесты Захара адресовались куда-то исключительно высоко. Я пытался прислушаться к этому таинственному собеседнику, но проклятая музыка, которая никуда не исчезала, мешала всем моим попыткам вникнуть в непонятный диалог и как-то обнаружить неслышимый таинственный голос.
Полагаясь на партитуру, неведомую более никому, дирижёр дал команду своему световому оркестру – и картинка погасла, оставив различимым лишь смысловой центр представленной композиции – лицо Шаболдина и его руки.
Шаболдин казался перевозбуждённым и очень расстроенным, он как-то неуклюже и беспомощно разводил руками, и весь его вид свидетельствовал о сильном потрясении от беседы со своим загадочным визави.
– Всего две тысячи лет! – почти вскричал Захар. – Но если к общественным процессам допустимо использование квантомеханической модели, то отчего нельзя предположить обратный sp-инвариант?
Наверное, Захар был убеждён в таком спасительном решении, и ему требовалось лишь подтверждение собственной версии.
Невидимый что-то очень коротко ответил Захару. Лицо Захара немедленно просияло, он победно поднял голову и скрестил руки на груди.
Затем последовала пауза, которая продолжалась долго, пожалуй, до тех пор, пока таинственный собеседник Захара не исчез, после чего Шаболдин, наконец-таки, заметил меня.
Ничего не говоря, Захар махнул мне рукой, призывая идти следом.
Снежная пелена исчезла, но маленькая фигурка Захара не потерялась, только теперь она маячила далеко впереди на фоне оранжевой кленовой аллеи. Вокруг меня звенел сентябрьским листопадом многолюдный город, который я узнал не сразу, а лишь когда в случайном киоске заметил газету за сегодняшнее число.
Это был мой первый студенческий сентябрь, об этом красноречиво говорила дата на первой газетной полосе. В том же меня убеждал и сам газетный киоск с незабываемой надписью «Союзпечать». Вид зданий и улиц также заставлял поверить в произошедшую временную метаморфозу: они были похожи на картинки из архивного документального кино, демонстрируя устаревшие вывески, забавный монументальный декор на металлических фермах, причёски и одежду прохожих в стиле ретро.
Я посмотрел на Захара. Даже издали хорошо была видна улыбка на его почти детском лице. Он ещё немного полюбовался на моё изумление, повернулся и исчез в пестроте людского потока.
Память постепенно возвращалась, и первые мысли, что пришли в голову были мысли о завтрашней контрольной и сегодняшнем домашнем задании. Но главным всё-таки было это самое домашнее задание.
После всего, что мне пришлось пережить, я понимал его совершенно иначе. Оно мне было задано на сегодня и на всю жизнь и касалось не только чего-то конкретного, но распространялось и на общее, целое, на саму суть человеческого существования.
Под моими ногами шуршала жёлтая листва, прилипшая к мокрому асфальту; впереди возрастал к небу многолюдный город с институтами, конструкторскими бюро и исследовательскими учреждениями; над головой же туманилось хмурое сентябрьское небо, оплетённое антеннами и проводами. Я почему-то мучительно и остро ощутил хрупкость и уязвимость этого дополненного человеческим бытиём природного мира.
На ум снова пришёл пресловутый sp-инвариант – загадочный закон квантовой механики и сокрытый алгоритм существования, применимый для любых форм бытования материи от звёздных скоплений до социальных сред.
Всего две тысячи лет его нарушения – и феномен земной жизни способен угаснуть, обратившись в ничто, позволяя мёртвой планете постепенно терять любые следы былого разумного присутствия.
Но я также знал и понимал иное: пока люди будут выстраивать свою жизнь, согласуясь с разумом вопреки собственной воле и чувству, им ничего не угрожает – ни им, идущим по мокрому асфальту, ни их городам, возрастающим к небу, ни природе, звенящей листопадным золотом сентября.
Багатель Ананке
Его чувство возникло неожиданно, случайно, как будто бы из ничего.
Он увидел её в залитом солнцем университетском коридоре, где воздух искрился алмазной пылью и свободно гуляли назойливые непобедимые сквозняки. Они шли навстречу друг другу и могли бы оказаться совсем близко, если бы юноша не остановился и не отошёл в сторону.
Она его намеренно не замечала – как поступают все люди, которые сами определяют свою судьбу, не позволяя никому вмешиваться в собственную жизнь и навязывать свою волю.
Мир перед ним смазался, потерялся, сделался почти незаметным, зато неизвестно отчего из его далёкой памяти проступила светлая долина, сплошь покрытая кустами дикой ежевики, и синяя горная гряда, полупрозрачная в дымных облаках и лучах восхода. Вскоре и этот пейзаж померк, превратившись в бесцветное серое полотно, на фоне которого вновь проступила девушка, прекрасная, как утренняя заря. Незнакомка лучилась розоватым сиянием, уподобляясь лёгким перистым облакам, была величественна, как горы, и загадочна, как голубоватая дымка над ними. У него перехватило дыхание; время перешло в какое-то иное измерение, где исчислялось не годами и секундами, а мелкой прерывистой дрожью, поселившейся между пальцами и редкими ударами сердца, которое почти остановилось.
Юноша не догнал и не окликнул её, позволив девушке скрыться за массивной дверью, где её уже ждал город, следивший за ними через огромное окно.
Так город стал сопричастным к его тайне, которую он не посмел бы доверить ни одной живой душе, ибо не привык делиться ничем личным, справедливо полагая, что всё личное принадлежит исключительно ему одному.
Самое странное, что он почти не помнил её лица. Это было тем более удивительно, поскольку его жизнь наполнилась не чужой или книжной историей, а своим чувственным опытом, по которому он был вправе судить о вечном и непостижимом, благодаря чему на земле существует и не прекращается жизнь. Хотя то, что его обожгло изнутри, скорее всего, не пришло откуда-то извне, оно попросту проснулось в нём, изменив не столько порядок вещей в привычном мире, сколько преобразив сами эти вещи. Что-то дикое и первобытное открывалось во всём, на чём бы ни останавливался его взгляд. Точно не было никогда вокруг ни разумного устроения вселенского миропорядка, ни безмятежного покоя, такого милого и знакомого его сердцу.
Мир опрокинулся, потерял устойчивость, даже имена вещей утратили прежние соответствия, будто бы их значения изменились и требовали для себя новых смыслов. Слова лишились своей исключительности, подчинившись сакральному имени незнакомки, которого юноша знать не мог, но которое присутствовало везде: во всех нумеративах, лексемах и собственных именах. Её мир был целиком поглощён воображением юноши в качестве своего непознанного, заполнившего все внутренние горизонты так, что он не мог более замечать ничего иного.
В каком-то смысле ему повезло, ибо город, будучи единственным и невольным свидетелем его робости и нерешительности, и не думал над ним смеяться. Напротив, звоны трамваев и трубы кораблей в порту громко провозглашали её неизвестное имя, тени дворов рисовали её ускользающие силуэты, а листвою парков и садов город разговаривал с ним о торжествующем празднике бытия, которым он полагал его жизнь.
И город говорил совершенную правду – праздник жизни действительно наступил.
Для этого праздника не существует календаря – он приходит для виновника торжества неожиданно, вдруг, и заставляет его удивляться появившимся разноцветным гирляндам окон, искрящемуся снежному или дождевому конфетти, буйным фейерверкам ночных огней, праздной беззаботности улиц и шумному ликованию площадей.
«Что ж тут удивительного?» – справедливо заметит внимательный читатель, которому самому не раз случалось наблюдать всё упомянутое в минуты умиротворённого созерцания или напротив, в моменты внезапных чувственных потрясений. И будет, пожалуй, совершенно прав, особенно, если не брать в расчёт несменяемость городского убранства и продолжительность праздничного настроя «приглашённых гостей». Ведь проходит день, два, неделя, а карнавал по-прежнему искрится ослепительным мишурным блеском, досаждая фальшью многочисленных труб и смычков, способных звучать даже без привычных струн и послушных клавиш.
Если бы юноша был в состоянии сравнивать себя «до» и «после» произошедшей с ним перемены, то смог бы обнаружить не отдельные различия и несоответствия, а сумел бы найти двух, ни в чём не схожих меж собою людей, единственной точкой сопряжения которых было бы непонимание. Он чувствовал себя именинником, позабытым всеми в разгар торжества, когда чужое гостевое веселье воспринимается не иначе как личная обида.
«Вот это и есть то, о чём так много пишут, мечтают и говорят, чего так ждут и на что надеются, – говорил ему кто-то рассудительный и бесконечно далёкий. – И никто не догадывается, что это всего лишь перерождение, самый верный способ вовлечения в среду, где подавлены твоя воля и твой разум, где гибельность и пустота прячутся за несбыточные миражи, порождённые собственной фантазией по подсказке природы».
О чём бы ни думал юноша и где бы ни оказался, он мысленно неизменно возвращался к залитому солнцем университетскому коридору, к событию, изменившему его систему координат, в которых привычное человеческое измерение уже не было главным.
Он и сам не понимал: как необъятная доселе вселенная сузилась до размеров тесного коридора, отовсюду продуваемого сквозняками. Как его разум, расположенный к дерзновенному познанию, замкнулся в таком узком мирке, лишившем его свободы и независимой воли.
Он очень многое уже не мог вспомнить. Ни терпкого запаха кипариса возле дома, где прошло его детство; ни золотистых блёсток на поверхности моря, густо пересыпающих бирюзовую водную рябь; ни трепетного ощущения от прикосновений к пожелтелым страницам старинных книг, с авторами которых он обычно вёл долгий, безмолвный диалог, соглашаясь с ними или споря. Сейчас вместо своих прежних собеседников он видел её, притихшую, слегка растерянную, с едва заметной снисходительной улыбкой. Природа не совсем отобрала у него память, и он рассказывал обо всём, что знал: о красноликих атлантах и мегалитических сооружениях Гипербореи, о таинствах Каббалы и поэзии Древнего Китая. Он говорил с нею до тех пор, пока крепкие загорелые парни не уводили девушку за собой в веселящийся город, объятый буйным разнузданным карнавалом, начавшимся во времена, когда природе вздумалось разделить всё живое на мужское и женское.
Он долго смотрел вслед своему несбыточному, пока оно не представало широкой чёрной полосой, тяжёлой, как слиток времени, в которой исчезали как гордые одинокие женщины, так и крепкие загорелые парни, успевшие превратиться в тяжеловесных мужчин с холодными и пустыми глазами.
Юноша и представить себе не мог, что спящая в нём природа заставит его переоценить жизнь и изменить своё представление о возможном. Ведь несбыточное чаще всего недостижимо оттого, что мы сами не позволяем ему осуществиться.
«Несбыточного нет, – нашёптывал город и ему вторили дальние веси и небеса, – его попросту не существует. – Нужно лишь перестать сочинять сказки про красноликих атлантов, про храмы Гипербореи, забыть о таинствах Каббалы и выбросить из головы весь никчёмный вздор позабытых поэтов. Нет ни будущего, ни прошлого, не существует ни славы, ни позора, нет ни достоинства, ни унижения – нет ничего, кроме настоящего. Кроме праздника обладания и сиюминутного веселья».