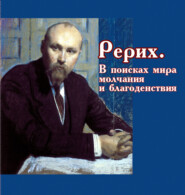По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Есть памяти открытые страницы. Проза и публицистика
Год написания книги
2023
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пожалуй, что на этот раз я действительно оказался вне пресловутой генеральной совокупности. И дело совсем не в том, что мне никак не удавалось вернуться к недавним мыслям и настроениям, а в том, что неожиданно и вдруг я ощутил вокруг себя неодолимую преграду, круг отчуждения, который, скорее всего, вмещал в себя всё значимое пространство. Там больше не оставалось ничего, что могло быть наполнено прежними смыслами и былой памятью. Мир изменился и стал другим, более понятным и удивительно свободным. Здесь меня не узнавали ни давнишние друзья, ни коллеги, ни знакомые, и я вполне мог полагать, что окружающие не только меня не замечают, а даже не видят. Ни о какой востребованности в таких обстоятельствах не могло быть и речи, но мне почему-то стало казаться, что это, скорее, является преимуществом, нежели недостатком. И я, наверное, впервые ощутил свою полную независимость от внешнего мира, подлинную, абсолютную, и как никогда ранее почувствовал, кем же являюсь на самом деле. Что же я есть, когда не нужно больше оглядываться на предписанные в рамках традиции нелепые ограничения, памятовать об отведённом для тебя месте в социальной иерархии, реагировать на чужое мнение и вообще на всё прочее, что способно помешать работе ума и движению чувства.
Будучи всецело погружённым в состояние отстранённой созерцательности, я, наконец, понял, как хорош и удобен этот чудный и свободный мир, в котором можно устанавливать свою собственную систему координат и назначать свои физические законы. Единственно чего стоило здесь опасаться, так это притяжения параллельных вселенных, неизменно оказывающихся неподалёку, на одном с тобой горизонте событий.
Утверждающий модус категорического умозаключения
Ничто не существует,
если что-либо и существует,
то оно непознаваемо для человека;
если оно и познаваемо,
то непередаваемо и необъяснимо…
Горгий Леонтийский
Я заключил миры в едином взоре.
Я властелин.
Константин Бальмонт
Можно сказать, что мы, тогдашние школьники, совсем не обращали внимания на его чудачества. Учителя по отношению к нему были настроены более критично, но тоже никак не выделяли его из общей шумной и плохо управляемой ученической массы.
Я пытался подружиться с ним, но он жил какой-то своей, особенной жизнью, где не было места всему тому, чем мы, сумасбродные подростки, привыкли гордиться. Он не искал внимания сверстников, наши увлечения его не интересовали, и ему мастерски удавалось уклоняться от участия в наших озорных затеях и играх, хотя так же как и мы не был отмечен благонравием и каким-то особенным прилежанием.
Однако когда обстоятельства вынуждали его участвовать в делах коллектива, то он мог быть очень полезен для общего дела, особенно если какую-либо часть необходимой работы мог выполнять самостоятельно, не прибегая к помощи товарищей. Он был прекрасным вратарём школьной футбольной команды и бессменным редактором классной стенной газеты, каждый номер которой ждали, и читать которую приходила вся школа.
После выпускного о нём мало что было известно. Кто-то говорил, что он был среди участников студенческой олимпиады по физике, а староста нашего класса, вечный отличник и библиотечный завсегдатай, утверждал, что его фамилию частенько видит на страницах научных журналов, и написанные им статьи так увлекательно и эффектно поданы, что способны убедить любого в приоритете творчества учёного перед всеми прочими разновидностями человеческого дерзновения, будь то музыка, живопись или литература. Мне же, избравшему своею деятельностью искусство, хотелось бы поспорить со всезнайкой-старостой, только мои холсты не вызывали у него такого же восторга и одушевления, как журнальные статьи нашего бывшего одноклассника.
Позже, когда память о школьном братстве стала слабеть, я совсем позабыл думать о подающем большие надежды молодом учёном, с которым непостижная судьба ссудила разделить детство и раннюю юность. Поэтому при нашей случайной встрече я узнал его не сразу, и не по внешности даже, а по дурной привычке нелепо закусывать верхнюю губу и по высокому голосу, окрашенному пронзительными нотами взрывных согласных.
Он подошёл ко мне, когда я уже заканчивал работу, и оставалось только собрать краски и сложить этюдник.
За долгие годы мне удалось приобрести стойкий иммунитет к приставаниям назойливых интересантов, и я мог спокойно отвечать на любые вопросы, практически не отвлекаясь от дела. А тех, кто был настроен на длительный разговор, я распознавал с первой же фразы и знал, как корректно прервать ненужный мне диалог. Хотя стоит признать, что вопросы, которыми обычно осыпа?ли меня прохожане, были предельно конкретны и начисто лишены какого-либо интеллектуального подтекста. Однако ж на этот раз всё обстояло иначе.
– Живопись, пожалуй, это единственный предмет, в котором время выступает не в качестве естественной переменной, а является величиной постоянной, своего рода типизированной константой, – обладатель назидательного фальцета был явно настроен поговорить, однако в моём стандартном наборе заранее заготовленных ответов на этот сюжет вариантов не находилось. Поэтому я решил отделаться от собеседника без проверенных практикой наработок.
– Бессмысленно в искусстве использовать научные термины, – бросил я, не оборачиваясь, в надежде избежать дальнейшего общения.
– Ну, это с какой стороны посмотреть, хотя надо признать, учёные, действительно, холсты и краски никогда не используют.
Тогда я решил взглянуть на своего визави. Передо мной стоял человек, в котором сложно было заподозрить заурядного приставалу, цепляющегося к любому непривычному для него объекту в попытке удовлетворить собственное любопытство. Что-то мне подсказывало, что беседу со мной он затеял не просто так.
– А вы, наверное, человек науки? Учёные, как мне известно, часто выказывают к живописи повышенный интерес.
– Ну, это неудивительно. Живопись и наука являются разными способами изучения окружающего мира. И для одной, и для другой потребно богатое воображение, умение критически мыслить и способность отличать случайное от закономерного.
Он сказал это с некоторым лукавством, поскольку, как выяснилось позднее, признал меня ещё до того, как мы оказались с ним лицом к лицу, в то время как я окончательно понял, с кем таки свёл меня своенравный случай, лишь после этой высокопарной фразы.
Нет, он так и не стал признанным авторитетом в мире науки, каковым мы, его одноклассники, некогда желали его видеть. Более того, карьера у него не задалась вовсе, несмотря на стремительный старт и благожелательное отношение коллег и многих влиятельных учёных.
Конечно же, мне захотелось узнать почему.
Свою неслучившуюся карьеру он вовсе не считал катастрофой. Мне сложно было понять его объяснения и принять ту необычную логику, которой он руководствовался. Я-то предполагал, что его нынешнее положение в научном сообществе происходит по причине врождённого безразличия моего бывшего одноклассника к сторонним оценкам и благодаря полному отсутствию духа соперничества. Однако он говорил о чём-то совсем другом, нисколько не сожалея ни о выборе своего жизненного пути, ни о своём месте в научном мире, ни даже о том, что так и осталось невысказанным, несмотря на то, что это несказуемое целиком занимало всё его существо.
«Видишь ли, я понял, что усложнение природы вещей и явлений уравновешивает стремление замкнутых систем к беспорядку. Дальних порядков не существует, а любое развитие предполагает переформатирование информационных потоков, вплоть до полной утраты памяти о предшествующих». – Он говорил и при этом хитровато улыбался, словно любуясь моим непониманием, я же, напротив, наполнялся какой-то особенной радостью, что мне наконец-то посчастливилось прикоснуться к внутреннему миру этого недоступного человека, чего я так упрямо добивался в юности.
Его нежелание изложить свою теорию «фрактального расширения» в понятной для коллег математической форме меня немало удивило и ещё более озадачило. Его рассуждения о спонтанности любых эволюционных процессов и об отсутствии качественных различий в развитии живой и неживой материи мне показались исключительно интересными, и я бы очень хотел услышать оценки его научных гипотез от специалистов, что совершенно невозможно без развёрнутых публикаций. Тем не менее, он не хотел воплощать свои научные идеи в строгих порядках математических формул, объясняя такое решение постепенной изменчивостью физических смыслов, постоянно меняющейся картиной реальности, да и, собственно, трансформацией всего Мироздания, начисто лишённого представления о себе самом.
В каком-то смысле его можно было бы объявить приверженцем даосизма, с той лишь разницей, что даосизм провозглашает отказ от стремлений и целей для человека, тогда как мой отягощённый научными знаниями одноклассник оправдывает своё недеяние отсутствием осмысленной цели у самого Мироздания. «…Быть правым на время – не стоит труда, а в вечности слыть – невозможно…» Классик, конечно, писал и думал о другом, но мне, почему-то кажется, что он мог бы написать и об этом. Хотя стоит оговориться, что для него, для классика, вечность, несомненно, была заполнена памятью, а для моего школьного товарища всё обстояло иначе: вечность представлялась как сингулярность, чёрной дырой времени, отделённой от настоящего тонкой кромкой горизонта событий, на которой тесно сосредоточилось всё сущее, имеющее значение только здесь и сейчас. Если подумать, то и я во многом, не ведая того, бессознательно разделял его «фрактальную» теорию, соглашаясь с тем, что животворящий ток бытия, устремляющийся от стволов в ветви, обречён бесконечно дробиться и множиться, перерождаясь на своём пути в новые обличья и не памятуя о прежних.
В моём воображении рисовалась картина с огромным деревом, неудержимо растущим ввысь, в неизмеримое небо, синонимом которого могло быть только одно слово – непознанное. Тоненькие ветви дерева набухали и крепли, продолжаясь пучками молодых нежных побегов, которые независимо друг от друга наполнялись вязким соком бытия с всепобеждающим желанием быть. Для них уже как бы не существовало огрубелой коры родительских веток, равно как памяти о питающих корнях, возникших по каким-то своим, неприменимым к молодым побегам законам. Эти свежие ветви стремились ввысь, стараясь в неуклонном движении опередить друг друга, чтобы получить больше тепла и света от далёкого солнца. Того самого светила, в существование которого им было позволительно не верить вообще, либо не знать о нём вовсе. Они разбегались в стороны подобно тому, как, ускоряясь, отдаляются от ближайших звёздных систем летающие галактики в надежде обособиться и обрести одиночество в непостижимом и безмерном космосе. И никому из вновь народившихся веток невдомёк, что вскоре в их древесных жилах загустеет животворный сок бытия и прежде гибкие и упругие побеги укроет глубокая тень от новых ветвей, пробившихся поближе к солнцу. И для этого нового цветущего поколения будут уже совсем новые законы и смыслы. Причём утвердятся они даже несмотря на то, что всё, чем они сейчас владеют и благодаря чему живы, определяется теми, кто остаётся в тени.
Понять нежелание моего товарища разговаривать со своими коллегами на языке временных формул, было можно, но вот принять его – нет. Как молодым ветвям назначено тянуться к небу, как дождевым червям пристало вылезать из нор, повинуясь влаге, так человеку вменяется, вдохновляясь чувством и мыслью, спешить к островам непознанного. Именно поэтому мне был так интересен мой странный, обособившийся от школьного коллектива одноклассник, с которым мне так хотелось подружиться, чтобы заглянуть в его удивительный внутренний мир.
И вот теперь он стоял передо мной, нелепо закусив верхнюю губу и рассказывая о том, что наполняло его ум и душу, пока я лазил с этюдником по горам и лесам в надежде запечатлеть ускользающий от моего учёного друга, равно как и от всех нас, изменчивый и обманчивый мир.
– Понимаешь, – от волнения у меня перехватило дыхание, – я наконец-то понял, о чём всегда хотел спросить тебя, подсознательно уверенный в том, что ты знаешь.
Лицо его стало серьёзным. Было заметно, что он сосредоточился и приготовился отвечать.
– Я спрошу тебя по-простому, поскольку мне хочется именно та кого, простого ответа, без разных сложных и многозначительных слов. Как же нам жить в этом изменчивом мире и вообще – зачем и для чего мы здесь. Какой в том смысл и какова правда?
Он широко улыбнулся, вновь сделавшись похожим на нашего юного школьного вратаря, способного вытягивать мяч даже из безнадёжной в футболе «девятки».
– А всё и так просто. Мы рождены затем, чтобы видеть солнце.
«Раз один – то, значит, тут же и другой»
«Раз один – то, значит, тут же и другой! Помянут меня, – сейчас же помянут и тебя!» И верно – обязательно помянут.
Память, безропотно подчиняясь этому нехитрому психологическому алгоритму, являет достойных вместе с не вызывающими почтения; представляет тех, без которых немыслима полноценная духовная жизнь вкупе с теми, кто прикоснулся к вечности через коварство и подлость, предательство или злодейство.
Вспоминая Поэта и его бессмертные строчки, которые идут за мной следом, подсказывая, убеждая, либо взывая к заочному спору, явственно ощущаю совсем рядом присутствие не только его замечательных друзей и прекрасной Натали, но и того, кого совсем не надлежит помнить.
Самодовольное и холёное лицо этого пустого, ничтожного человека, сгноившего собственную дочь в сумасшедшем доме за почитание убитого им русского гения, не может вызывать никаких чувств, кроме презрения. Хочу его забыть и никогда не узнавать его имя, но безотказна формула памяти, вербализованная Булгаковым: «Раз один – то, значит, тут же и другой!»
К такому миру, где напыщенная самодовольством серость способна не только существовать, но и состояться как общественно значимая фигура, хотелось бы не обращаться вовсе. Только Поэт не имел столь щедрой привилегии, поскольку был назначен слышать и внимать всему, что происходит в окружающем его мире. Такова была его ответственная миссия на земле, чувствовать и понимать и «неба содроганье, и горний ангелов полёт, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье». А прилепившийся к его славе скучающий светский повеса, не мог ничего слышать и знать.
Казалось бы, зачем обращать внимание на эту сосущую пустоту, вытягивающую из мира лишь «измены, картеж, пьянство, ссоры и сплетни». Но в самой модели Мироздания тень неотделима от света, а явь от тьмы. И чем глубже и кромешней тьма, тем сильнее хочется света. Человеческая природа ещё устроена так, что она вправе желать невозможного и, как говорил Александр Блок, человеку необходимо «предъявлять безмерные требования к жизни». Ибо жизнь – прекрасна, «пусть сейчас этого нет и долго не будет».
«Раз один – то, значит, тут же и другой!» Положим, что так. Но это лишь для того, чтобы быть ближе к первому, и как можно дальше от второго.
«Тень несозданных созданий»
Долгие годы этот дом встречал и провожал поезда. Он повелительно нависал над платформами высоченным брандмауэром, убеждая оказавшихся здесь, что Питер, это, прежде всего, город угрюмых стен, устремлённых в бесцветное небо, тесных дворов-колодцев, соединённых тяжёлыми арками, и проржавелых железных крыш, усеянных частоколами закопчённых труб.
Будучи всецело погружённым в состояние отстранённой созерцательности, я, наконец, понял, как хорош и удобен этот чудный и свободный мир, в котором можно устанавливать свою собственную систему координат и назначать свои физические законы. Единственно чего стоило здесь опасаться, так это притяжения параллельных вселенных, неизменно оказывающихся неподалёку, на одном с тобой горизонте событий.
Утверждающий модус категорического умозаключения
Ничто не существует,
если что-либо и существует,
то оно непознаваемо для человека;
если оно и познаваемо,
то непередаваемо и необъяснимо…
Горгий Леонтийский
Я заключил миры в едином взоре.
Я властелин.
Константин Бальмонт
Можно сказать, что мы, тогдашние школьники, совсем не обращали внимания на его чудачества. Учителя по отношению к нему были настроены более критично, но тоже никак не выделяли его из общей шумной и плохо управляемой ученической массы.
Я пытался подружиться с ним, но он жил какой-то своей, особенной жизнью, где не было места всему тому, чем мы, сумасбродные подростки, привыкли гордиться. Он не искал внимания сверстников, наши увлечения его не интересовали, и ему мастерски удавалось уклоняться от участия в наших озорных затеях и играх, хотя так же как и мы не был отмечен благонравием и каким-то особенным прилежанием.
Однако когда обстоятельства вынуждали его участвовать в делах коллектива, то он мог быть очень полезен для общего дела, особенно если какую-либо часть необходимой работы мог выполнять самостоятельно, не прибегая к помощи товарищей. Он был прекрасным вратарём школьной футбольной команды и бессменным редактором классной стенной газеты, каждый номер которой ждали, и читать которую приходила вся школа.
После выпускного о нём мало что было известно. Кто-то говорил, что он был среди участников студенческой олимпиады по физике, а староста нашего класса, вечный отличник и библиотечный завсегдатай, утверждал, что его фамилию частенько видит на страницах научных журналов, и написанные им статьи так увлекательно и эффектно поданы, что способны убедить любого в приоритете творчества учёного перед всеми прочими разновидностями человеческого дерзновения, будь то музыка, живопись или литература. Мне же, избравшему своею деятельностью искусство, хотелось бы поспорить со всезнайкой-старостой, только мои холсты не вызывали у него такого же восторга и одушевления, как журнальные статьи нашего бывшего одноклассника.
Позже, когда память о школьном братстве стала слабеть, я совсем позабыл думать о подающем большие надежды молодом учёном, с которым непостижная судьба ссудила разделить детство и раннюю юность. Поэтому при нашей случайной встрече я узнал его не сразу, и не по внешности даже, а по дурной привычке нелепо закусывать верхнюю губу и по высокому голосу, окрашенному пронзительными нотами взрывных согласных.
Он подошёл ко мне, когда я уже заканчивал работу, и оставалось только собрать краски и сложить этюдник.
За долгие годы мне удалось приобрести стойкий иммунитет к приставаниям назойливых интересантов, и я мог спокойно отвечать на любые вопросы, практически не отвлекаясь от дела. А тех, кто был настроен на длительный разговор, я распознавал с первой же фразы и знал, как корректно прервать ненужный мне диалог. Хотя стоит признать, что вопросы, которыми обычно осыпа?ли меня прохожане, были предельно конкретны и начисто лишены какого-либо интеллектуального подтекста. Однако ж на этот раз всё обстояло иначе.
– Живопись, пожалуй, это единственный предмет, в котором время выступает не в качестве естественной переменной, а является величиной постоянной, своего рода типизированной константой, – обладатель назидательного фальцета был явно настроен поговорить, однако в моём стандартном наборе заранее заготовленных ответов на этот сюжет вариантов не находилось. Поэтому я решил отделаться от собеседника без проверенных практикой наработок.
– Бессмысленно в искусстве использовать научные термины, – бросил я, не оборачиваясь, в надежде избежать дальнейшего общения.
– Ну, это с какой стороны посмотреть, хотя надо признать, учёные, действительно, холсты и краски никогда не используют.
Тогда я решил взглянуть на своего визави. Передо мной стоял человек, в котором сложно было заподозрить заурядного приставалу, цепляющегося к любому непривычному для него объекту в попытке удовлетворить собственное любопытство. Что-то мне подсказывало, что беседу со мной он затеял не просто так.
– А вы, наверное, человек науки? Учёные, как мне известно, часто выказывают к живописи повышенный интерес.
– Ну, это неудивительно. Живопись и наука являются разными способами изучения окружающего мира. И для одной, и для другой потребно богатое воображение, умение критически мыслить и способность отличать случайное от закономерного.
Он сказал это с некоторым лукавством, поскольку, как выяснилось позднее, признал меня ещё до того, как мы оказались с ним лицом к лицу, в то время как я окончательно понял, с кем таки свёл меня своенравный случай, лишь после этой высокопарной фразы.
Нет, он так и не стал признанным авторитетом в мире науки, каковым мы, его одноклассники, некогда желали его видеть. Более того, карьера у него не задалась вовсе, несмотря на стремительный старт и благожелательное отношение коллег и многих влиятельных учёных.
Конечно же, мне захотелось узнать почему.
Свою неслучившуюся карьеру он вовсе не считал катастрофой. Мне сложно было понять его объяснения и принять ту необычную логику, которой он руководствовался. Я-то предполагал, что его нынешнее положение в научном сообществе происходит по причине врождённого безразличия моего бывшего одноклассника к сторонним оценкам и благодаря полному отсутствию духа соперничества. Однако он говорил о чём-то совсем другом, нисколько не сожалея ни о выборе своего жизненного пути, ни о своём месте в научном мире, ни даже о том, что так и осталось невысказанным, несмотря на то, что это несказуемое целиком занимало всё его существо.
«Видишь ли, я понял, что усложнение природы вещей и явлений уравновешивает стремление замкнутых систем к беспорядку. Дальних порядков не существует, а любое развитие предполагает переформатирование информационных потоков, вплоть до полной утраты памяти о предшествующих». – Он говорил и при этом хитровато улыбался, словно любуясь моим непониманием, я же, напротив, наполнялся какой-то особенной радостью, что мне наконец-то посчастливилось прикоснуться к внутреннему миру этого недоступного человека, чего я так упрямо добивался в юности.
Его нежелание изложить свою теорию «фрактального расширения» в понятной для коллег математической форме меня немало удивило и ещё более озадачило. Его рассуждения о спонтанности любых эволюционных процессов и об отсутствии качественных различий в развитии живой и неживой материи мне показались исключительно интересными, и я бы очень хотел услышать оценки его научных гипотез от специалистов, что совершенно невозможно без развёрнутых публикаций. Тем не менее, он не хотел воплощать свои научные идеи в строгих порядках математических формул, объясняя такое решение постепенной изменчивостью физических смыслов, постоянно меняющейся картиной реальности, да и, собственно, трансформацией всего Мироздания, начисто лишённого представления о себе самом.
В каком-то смысле его можно было бы объявить приверженцем даосизма, с той лишь разницей, что даосизм провозглашает отказ от стремлений и целей для человека, тогда как мой отягощённый научными знаниями одноклассник оправдывает своё недеяние отсутствием осмысленной цели у самого Мироздания. «…Быть правым на время – не стоит труда, а в вечности слыть – невозможно…» Классик, конечно, писал и думал о другом, но мне, почему-то кажется, что он мог бы написать и об этом. Хотя стоит оговориться, что для него, для классика, вечность, несомненно, была заполнена памятью, а для моего школьного товарища всё обстояло иначе: вечность представлялась как сингулярность, чёрной дырой времени, отделённой от настоящего тонкой кромкой горизонта событий, на которой тесно сосредоточилось всё сущее, имеющее значение только здесь и сейчас. Если подумать, то и я во многом, не ведая того, бессознательно разделял его «фрактальную» теорию, соглашаясь с тем, что животворящий ток бытия, устремляющийся от стволов в ветви, обречён бесконечно дробиться и множиться, перерождаясь на своём пути в новые обличья и не памятуя о прежних.
В моём воображении рисовалась картина с огромным деревом, неудержимо растущим ввысь, в неизмеримое небо, синонимом которого могло быть только одно слово – непознанное. Тоненькие ветви дерева набухали и крепли, продолжаясь пучками молодых нежных побегов, которые независимо друг от друга наполнялись вязким соком бытия с всепобеждающим желанием быть. Для них уже как бы не существовало огрубелой коры родительских веток, равно как памяти о питающих корнях, возникших по каким-то своим, неприменимым к молодым побегам законам. Эти свежие ветви стремились ввысь, стараясь в неуклонном движении опередить друг друга, чтобы получить больше тепла и света от далёкого солнца. Того самого светила, в существование которого им было позволительно не верить вообще, либо не знать о нём вовсе. Они разбегались в стороны подобно тому, как, ускоряясь, отдаляются от ближайших звёздных систем летающие галактики в надежде обособиться и обрести одиночество в непостижимом и безмерном космосе. И никому из вновь народившихся веток невдомёк, что вскоре в их древесных жилах загустеет животворный сок бытия и прежде гибкие и упругие побеги укроет глубокая тень от новых ветвей, пробившихся поближе к солнцу. И для этого нового цветущего поколения будут уже совсем новые законы и смыслы. Причём утвердятся они даже несмотря на то, что всё, чем они сейчас владеют и благодаря чему живы, определяется теми, кто остаётся в тени.
Понять нежелание моего товарища разговаривать со своими коллегами на языке временных формул, было можно, но вот принять его – нет. Как молодым ветвям назначено тянуться к небу, как дождевым червям пристало вылезать из нор, повинуясь влаге, так человеку вменяется, вдохновляясь чувством и мыслью, спешить к островам непознанного. Именно поэтому мне был так интересен мой странный, обособившийся от школьного коллектива одноклассник, с которым мне так хотелось подружиться, чтобы заглянуть в его удивительный внутренний мир.
И вот теперь он стоял передо мной, нелепо закусив верхнюю губу и рассказывая о том, что наполняло его ум и душу, пока я лазил с этюдником по горам и лесам в надежде запечатлеть ускользающий от моего учёного друга, равно как и от всех нас, изменчивый и обманчивый мир.
– Понимаешь, – от волнения у меня перехватило дыхание, – я наконец-то понял, о чём всегда хотел спросить тебя, подсознательно уверенный в том, что ты знаешь.
Лицо его стало серьёзным. Было заметно, что он сосредоточился и приготовился отвечать.
– Я спрошу тебя по-простому, поскольку мне хочется именно та кого, простого ответа, без разных сложных и многозначительных слов. Как же нам жить в этом изменчивом мире и вообще – зачем и для чего мы здесь. Какой в том смысл и какова правда?
Он широко улыбнулся, вновь сделавшись похожим на нашего юного школьного вратаря, способного вытягивать мяч даже из безнадёжной в футболе «девятки».
– А всё и так просто. Мы рождены затем, чтобы видеть солнце.
«Раз один – то, значит, тут же и другой»
«Раз один – то, значит, тут же и другой! Помянут меня, – сейчас же помянут и тебя!» И верно – обязательно помянут.
Память, безропотно подчиняясь этому нехитрому психологическому алгоритму, являет достойных вместе с не вызывающими почтения; представляет тех, без которых немыслима полноценная духовная жизнь вкупе с теми, кто прикоснулся к вечности через коварство и подлость, предательство или злодейство.
Вспоминая Поэта и его бессмертные строчки, которые идут за мной следом, подсказывая, убеждая, либо взывая к заочному спору, явственно ощущаю совсем рядом присутствие не только его замечательных друзей и прекрасной Натали, но и того, кого совсем не надлежит помнить.
Самодовольное и холёное лицо этого пустого, ничтожного человека, сгноившего собственную дочь в сумасшедшем доме за почитание убитого им русского гения, не может вызывать никаких чувств, кроме презрения. Хочу его забыть и никогда не узнавать его имя, но безотказна формула памяти, вербализованная Булгаковым: «Раз один – то, значит, тут же и другой!»
К такому миру, где напыщенная самодовольством серость способна не только существовать, но и состояться как общественно значимая фигура, хотелось бы не обращаться вовсе. Только Поэт не имел столь щедрой привилегии, поскольку был назначен слышать и внимать всему, что происходит в окружающем его мире. Такова была его ответственная миссия на земле, чувствовать и понимать и «неба содроганье, и горний ангелов полёт, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье». А прилепившийся к его славе скучающий светский повеса, не мог ничего слышать и знать.
Казалось бы, зачем обращать внимание на эту сосущую пустоту, вытягивающую из мира лишь «измены, картеж, пьянство, ссоры и сплетни». Но в самой модели Мироздания тень неотделима от света, а явь от тьмы. И чем глубже и кромешней тьма, тем сильнее хочется света. Человеческая природа ещё устроена так, что она вправе желать невозможного и, как говорил Александр Блок, человеку необходимо «предъявлять безмерные требования к жизни». Ибо жизнь – прекрасна, «пусть сейчас этого нет и долго не будет».
«Раз один – то, значит, тут же и другой!» Положим, что так. Но это лишь для того, чтобы быть ближе к первому, и как можно дальше от второго.
«Тень несозданных созданий»
Долгие годы этот дом встречал и провожал поезда. Он повелительно нависал над платформами высоченным брандмауэром, убеждая оказавшихся здесь, что Питер, это, прежде всего, город угрюмых стен, устремлённых в бесцветное небо, тесных дворов-колодцев, соединённых тяжёлыми арками, и проржавелых железных крыш, усеянных частоколами закопчённых труб.