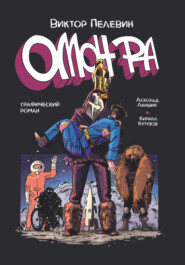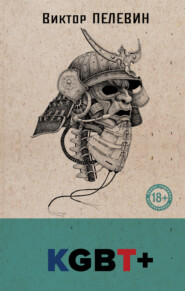По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Все повести и эссе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А, – сказал Затворник, – понятно. Он, наверно, с каждым часом все отчетливей и отчетливей? А контуры все зримей?
– Точно, – удивился Шестипалый. – А откуда ты знаешь?
– Да я их уже штук пять видел, этих решительных этапов. Только называются по-разному.
– Да ну, – сказал Шестипалый. – Он же впервые происходит.
– Еще бы. Даже интересно было бы посмотреть, как он будет во второй раз происходить. Но мы немного о разном.
Затворник тихо засмеялся, сделал несколько шагов по направлению к далекому социуму, повернулся к нему задом и стал с силой шаркать ногами, так, что за его спиной вскоре повисло целое облако, состоящее из остатков еды, опилок и пыли. При этом он оглядывался, махал руками и что-то бормотал.
– Чего это ты? – с некоторым испугом спросил Шестипалый, когда Затворник, тяжело дыша, вернулся.
– Это жест, – ответил Затворник. – Такая форма искусства. Читаешь стихотворение и производишь соответствующее ему действие.
– А какое ты сейчас прочел стихотворение?
– Такое, – сказал Затворник.
Иногда я грущу,
глядя на тех, кого я покинул.
Иногда я смеюсь,
и тогда между нами
вздымается желтый туман.
– Какое ж это стихотворение, – сказал Шестипалый. – Я, слава Богу, все стихи знаю. Ну, то есть не наизусть, конечно, но все двадцать пять слышал. Такого нет, точно.
Затворник поглядел на него с недоумением, а потом, видно, понял.
– А ты хоть одно помнишь? – спросил он. – Прочти-ка.
– Сейчас. Близнецы… Близнецы… Ну, короче, там мы говорим одно, а подразумеваем другое. А потом опять говорим одно, а подразумеваем другое, только как бы наоборот. Получается очень красиво. В конце концов поднимаем глаза на стену, а там…
– Хватит, – сказал Затворник.
Наступило молчание.
– Слушай, а тебя тоже прогнали? – нарушил его Шестипалый.
– Нет. Это я их всех прогнал.
– Так разве бывает?
– По-всякому бывает, – сказал Затворник, поглядел на один из небесных объектов и добавил тоном перехода от болтовни к серьезному разговору: – Скоро темно станет.
– Да брось ты, – сказал Шестипалый, – никто не знает, когда темно станет.
– А я вот знаю. Хочешь спать спокойно – делай как я. – И Затворник принялся сгребать кучи разного валяющегося под ногами хлама, опилок и кусков торфа. Постепенно у него получилась огораживающая небольшое пустое пространство стена, довольно высокая, примерно в его рост. Затворник отошел от законченного сооружения, с любовью поглядел на него и сказал: – Вот. Я это называю убежищем души.
– Почему? – спросил Шестипалый.
– Так. Красиво звучит. Ты себе-то будешь строить?
Шестипалый начал ковыряться. У него ничего не выходило – стена обваливалась. По правде сказать, он и не особо старался, потому что ничуть не поверил Затворнику насчет наступления тьмы, – и, когда небесные огни дрогнули и стали медленно гаснуть, а со стороны социума донесся похожий на шум ветра в соломе всенародный вздох ужаса, в его сердце возникло одновременно два сильных чувства: обычный страх перед неожиданно надвинувшейся тьмой и незнакомое прежде преклонение перед кем-то, знающим о мире больше, чем он.
– Так и быть, – сказал Затворник, – прыгай внутрь. Я еще построю.
– Я не умею прыгать, – тихо ответил Шестипалый.
– Тогда привет, – сказал Затворник и вдруг, изо всех сил оттолкнувшись от земли, взмыл вверх и исчез за стеной, после чего все сооружение обрушилось на него, покрыв его равномерным слоем опилок и торфа. Образовавшийся холмик некоторое время подрагивал, потом в его стене возникло маленькое отверстие – Шестипалый еще успел увидеть в нем блестящий глаз Затворника – и наступила окончательная тьма.
Разумеется, Шестипалый, сколько себя помнил, знал все необходимое про ночь. «Это естественный процесс», – говорили одни. «Делом надо заниматься», – считали другие, и таких было большинство. Вообще, оттенков мнений было много, но происходило со всеми одно и то же: когда без всяких видимых причин свет гас, после короткой и безнадежной борьбы с судорогами страха все впадали в оцепенение, а придя в себя (когда светила опять загорались), помнили очень мало. То же самое происходило и с Шестипалым, пока он жил в социуме, а сейчас – потому, наверное, что страх перед наступившей тьмой наложился на равный ему по силе страх перед одиночеством и, следовательно, удвоился, – он не впал в обычную спасительную кому. Вот уже стих далекий народный стон, а он все сидел, съежась, возле холмика и тихо плакал. Видно вокруг ничего не было, и, когда в темноте раздался голос Затворника, Шестипалый от испуга нагадил прямо под себя.
– Слушай, кончай долбить, – сказал Затворник, – спать мешаешь.
– Я не долблю, – тихо отозвался Шестипалый. – Это сердце. Ты б со мной поговорил, а?
– О чем? – спросил Затворник.
– О чем хочешь, только подольше.
– Давай о природе страха?
– Ой, не надо! – запищал Шестипалый.
– Тихо ты! – зашипел Затворник. – Сейчас сюда все крысы сбегутся.
– Какие крысы? Что это? – холодея, спросил Шестипалый.
– Это существа ночи. Хотя на самом деле и дня тоже.
– Не повезло мне в жизни, – прошептал Шестипалый. – Было б у меня пальцев сколько положено, спал бы сейчас со всеми. Господи, страх-то какой… Крысы…
– Слушай, – заговорил Затворник, – вот ты все повторяешь – Господи, Господи… у вас там что, в Бога верят?
– Черт его знает. Что-то такое есть, это точно. А что – никому не известно. Вот, например, почему темно становится? Хотя, конечно, можно и естественными причинами объяснить. А если про Бога думать, то ничего в жизни и не сделаешь…
– А что, интересно, можно сделать в жизни? – спросил Затворник.
– Как что? Чего глупые вопросы задавать – будто сам не знаешь. Каждый, как может, лезет к кормушке. Закон жизни.
– Понятно. А зачем тогда все это?
– Что «это»?
– Ну, вселенная, небо, земля, светила – вообще, все.
– Как зачем? Так уж мир устроен.