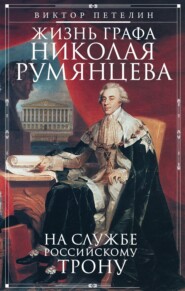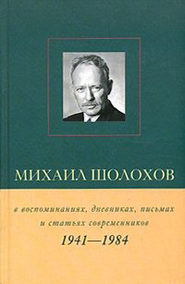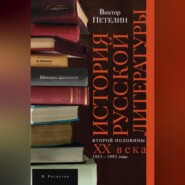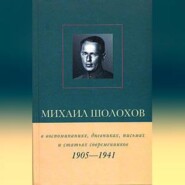По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История русской литературы второй половины XX века. Том II. 1953–1993. В авторской редакции
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Если б только Ан. Тарасенков так писал, то это не сильно повлияло бы на творческое настроение писателей. А вот выступление А. Фадеева было воспринято как команда, как приговор тем литературным явлениям, которые, на свою беду, не укладывались в прокрустово ложе теории социалистического реализма. В «Новом мире», «Знамени», «Октябре», «Звезде», в выступлениях на писательских собраниях – повсюду находились литераторы, обвинявшие своих коллег в тех или иных «грехах», словно отовсюду на живое тело литературы сбегались пауки и опутывали его своей отвратительной паутиной. Обстановка складывалась тяжкая, но не безнадёжная.
Остро был поставлен вопрос и об использовании так называемых архаизмов в литературном языке.
Принципиальное значение в этом споре имела публикация редакционной статьи в грузинской партийной газете «Коммунист» «Против искажения грузинского литературного языка», в частности в творчестве К. Гамсахурдиа (Коммунисти. 1950. 28 мая).
Тут же появляется статья Анны Антоновской под характерным для того времени названием – «Эпоха в кривом зеркале (о романе К. Гамсахурдиа «Давид Строитель»)» (Новый мир. 1950. № 7).
Высказав ряд справедливых и общеизвестных мыслей, А. Антоновская обвинила К. Гамсахурдиа в том, что он создал произведение, в котором «трудно обнаружить исторически схожий портрет «царя-героя» и сколько-нибудь удовлетворительное изображение его деятельности» (Там же. С. 232).
Этот вопрос об архаической стилизации был остро поставлен Ан. Тарасенковым в статье «За богатство и чистоту русского литературного языка!», написанную в связи с публикацией работы И.В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания».
«Среди немалого числа литераторов, выступивших за последнее время на страницах печати и на различных дискуссионных собраниях по вопросам языка советской литературы, особую и, я бы сказал, странную позицию занял Алексей Югов» (Тарасенков Ан. О советской литературе. С. 204).
Искажение правильных положений заключается в том, по мнению критика, что А. Югов, утверждая, что язык имеет долговечность, исчисляемую столетиями, тем не менее делает вывод: «вечный океан общенародного языка». Ан. Тарасенков возмущён тем, что А. Югов как бы полемизирует с товарищем Сталиным, чётко и прямо сказавшим, что «…язык, собственно его словарный состав, находится в состоянии почти непрерывного изменения» (Сталин И. Марксизм и вопросы языкознания // Правда. 1950. С. 8—9). И. Сталин утверждал, что язык действительно создан «усилиями сотен поколений» (Там же. С. 5), но это вовсе не значит, что язык категория вечная.
Ан. Тарасенков разыскал в литературной периодике старую статью А. Югова и постарался уличить оппонента в порочности его взглядов.
В статье «Архаизмы в поэтике Маяковского» А. Югов писал, что страсть Маяковского «к просторечию вызвана желаньем, чтобы стихия народного и древнерусского возобладала в литературном языке…», что «поэтика Маяковского, даже при беглом сопоставлении, обнаруживает много словарного и синтаксического сходства с поэтикой Древней Руси» (Литературное творчество. 1946. № 1), что в прилагательных, которые употребляет Маяковский, заметна «древнерусская простота», сопоставляя при этом цитаты Маяковского с цитатами из Остромирова Евангелия и Ипатьевской летописи. Это и подтверждает, что язык современного поэта питается из «вечного океана общенародного языка», что ничуть не умаляет достоинств поэтики Маяковского, не умаляет его новаторства. Но Ан. Тарасенков упорно продолжает полемику с превосходным знатоком древнерусского языка и его памятников:
«…А. Югов предлагает современным советским писателям использовать любые слова, существующие в том или ином старом литературном памятнике, любые речения, которые есть в словаре Даля, любые грамматические формы, если они сохранились в той или иной фольклорной записи.
Поза борца против педантов-грамматистов, против редакторов и корректоров, которые якобы уродуют живую и ничем не стеснённую речь писателя, – ничего не скажешь, поза «красивая» и «благородная». Но что на деле кроется за этим у А. Югова, как не проповедь анархизма в языке, проповедь языкового произвола и своеволия? Достаточно для А. Югова сослаться на какой-либо древний источник, чтобы слово или грамматическая форма сразу получили в его глазах полные права современного гражданства…»
Резкой критике подверг Ан. Тарасенков поэтический цикл Александра Прокофьева под общим названием «Сад» (Звезда. 1948. № 4), усмотрев и здесь «лубочный примитив и пасторальную идиллию, глубоко чуждую советскому человеку», «на редкость старомодные и неестественные поэтические обороты», а такие, как «ладони, на которых порох в порах, простри над головой!», относит к «церковнославянскому словарю». «Если прибавить, что о советской стране поэт говорит: «Как крыла – её вежды», если в другом месте и по другому поводу он утверждает, что она «поднялась, осиянная днесь», то станет ясно, что талантливый советский поэт пользуется совершенно чуждыми мировоззрению и эстетике советского человека псалтырными источниками» (Тарасенков Ан. Идеи и образы советской литературы. М.: Советский писатель, 1949).
Ан. Тарасенков неудержим, подвергает критике талантливые стихи Н. Тряпкина (Октябрь. 1947) за подражание Клюеву, за плохое знание деревенского быта. И в заключение, приводя ряд примеров, пишет: «Речь своих героев Тряпкин уснащает такими словами, как «дивуюсь», «требу совершим», «триединство творца-человека». Откуда у молодого поэта этот псалтырный словарь?» (Там же. С. 209).
Использование «псалтырных источников», «псалтырного словаря», как видим, критик относит к порочной архаизации языка, к оживлению омертвевших языковых и поэтических форм, вредных для развития советской литературы. Особенно яростно критик обрушивается на авторов исторических романов. «Некоторые русские советские писатели, пишущие на исторические темы, наивно полагают, что чем больше они употребят старинных выражений, тем их произведение точнее и ярче передаст характер описываемой эпохи. Один из примеров подобного рода – многотомный роман В. Язвицкого «Иван III, государь всея Руси». Автор основательно изучил эпоху, проштудировал огромное количество документов. В его романе немало добротного материала… Но, увлёкшись стариной, Язвицкий начал искусственно стилизовать язык. Он заставил своих героев говорить на наречии, переполненном устаревшими, книжно-церковными словами и выражениями.
«Велигласен вельми», «сиречь, на ково нать опиратися нам», «в окупе», «таймичищ», «сей часец яз», «наиборзе» – такими и подобными им словесными изощрениями пестрит и речь героев романа, и речь автора, до крайности затрудняя чтение.
Всё это искажает представление о языке наших предков. Между тем, изображая давние исторические времена, писателю вовсе нет нужды прибегать к такому изобилию книжно-церковных речений и к такому произвольному обращению с русской грамотой, как это делает В. Язвицкий» (Тарасенков Ан. О советской литературе. С. 200).
За книжно-архаический строй речи исторических лиц и вымышленных персонажей Ан. Тарасенков критикует не только В. Язвицкого, но и О. Форш, С. Марича и других исторических писателей.
На критику своих сочинений остро ответил К. Гамсахурдиа в «Ответе рецензенту», в котором резко возражал В. Шкловскому (Знамя. 1945), обвинившему писателя в том, что в X—XI веках он не показал взаимоотношений между Россией и Грузией: их не было.
«…И здесь не решился я «улучшать историю», ибо не занимаюсь фальсификацией истории.
Я не мог показать, как народ управлял страной, так как в это время простонародье не пускали за пределы хлебопекарни, бойни и кустарных маслобойных фабрик.
В обоих романах довольно детально отображены мною процессы труда и борьбы народа, показано, как воины царя Давида дрессировали лошадей, как делали барьеры и рвы для конницы, как строили подвижные деревянные башни и осадные сооружения, как боролись и страдали… Очень занятно то обстоятельство, что Шкловский меня учит любви к моему же народу» (Гамсахурдиа К. Ответ рецензенту // Новый мир. 1946. № 4—5. С. 173).
Гамсахурдиа воздерживается от оценки рецензии Шкловского, ссылаясь лишь на своего коллегу Н. Замошкина, давшего по другому поводу квалификацию маститого критика: «Сочинения Шкловского – свидетельство умственного беспорядка, отвращения к труду как организованному занятию и одновременно намеренной жажды оригинальничания, но его, как видно, не обучали составлять план сочинения» (Замошкин Н. Неверная полуправда // Новый мир. 1944. № 11—12).
Многие критики и литературоведы упрекали исторических писателей за увлечение архаической лексикой, устаревшими словами, старинными формами языка, якобы не передающими колорита эпохи, своеобразия действующих лиц, а прежде всего затрудняющими восприятие происходящего в романе или историческом повествовании.
«При знакомстве с нашей исторической прозой часто обращаешь внимание на чересполосицу языка, образуемую, с одной стороны, его народными разговорными формами, с другой – летописно-книжными образцами, – писал И. Эвентов. – Далеко не всегда нашим писателям удается найти тот прозрачный и чистый сплав живого и письменного языка, который отражает колорит прошлой эпохи, не нарушая сложившихся в течение столетий словесных и грамматических форм… Более тяжёлую картину представляет собою выпущенный издательством «Московский рабочий» трёхтомный роман В. Язвицкого «Иван III, государь всея Руси». Крючковатая, древнеславянская вязь, какою начертаны на обложке не только название романа, но и фамилия автора, во многом соответствует словесному колориту этого произведения. Оно изобилует таким чудовищным количеством мёртвых, древних, давно вышедших из употребления слов, что сам автор вынужден был выступить перед читателями переводчиком и комментатором своего произведения: на многих страницах он раскрывает смысл употребляемых им слов в специальных сносках, а в конце третьей книги даёт, кроме того, примечания к каждой главе.
Но так ли уж необходимо было употреблять в романе такие слова, как витень, саунч, израда, тавлеи, лепота, кипчаки, огничавый, перевезеся, гомозиться, инде, тайбола, – или целую серию слов церковно-ритуального обихода: паремии, кукулъ, лжица, канон и другие? (Выписки сделаны нами из одного лишь второго тома романа.)
Недоволен критик и языком авторской речи: «За две седьмицы до нового года… в день Онисима-овчарника, служил сам митрополит Иона обедню в соборе у Михаила-архангела.
Окончив служение, владыка Иона, не снимая облачения церковного, взошёл на амвон и, обращаясь к молящимся, возгласил…» (Эвентов И. О новаторах и стилизаторах // Звезда. 1950. № 11. С. 174).
Критик ссылается на вышедший в 1946 году в издательстве «Московский рабочий» роман В.И. Язвицкого «Иван III, государь всея Руси», задуманный как широкая и объёмная картина о русской жизни XV века, в которой принимают участие все слои русского общества.
Сохранилось не так уж много источников и ещё менее попыток показать это время в художественной литературе, поэтому трудности перед писателем были огромные.
«Княжич» (Язвицкий В. Иван III, государь всея Руси: Исторический роман: В 4 кн. Московский рабочий, 1951. Цитаты даются по этому изданию) – так называлась первая книга В. Язвицкого, в которой автор начинает изображение своего героя с пятилетнего возраста, как раз с того времени, когда его отцу Василию Васильевичу, великому князю Московскому, пришлось вступить в длительную борьбу за своё право на великокняжеский престол.
Н.М. Карамзин и С.М. Соловьёв подробно, ссылаясь на летописи и другие документальные свидетельства, описывают время жестоких испытаний после счастливой победы Дмитрия Донского на Куликовом поле. Начались новые распри между князьями, особенно после того, как Василий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского, завещал быть великим князем Московским и Владимирским своему старшему сыну Василию, а не своим родным братьям, которые, по обычаю, должны были наследовать великокняжеский стол один за другим по старшинству. И вот полноправный наследник Дмитрия Донского, звенигородский князь Юрий Дмитриевич, права которого по заведённому веками порядку наследования были бесспорны, отказывается признать законность нового порядка наследования. Возникла трагическая ситуация, когда обе стороны, вступившие в непримиримый конфликт, отстаивали свою правоту: князь Юрий отстаивал старый порядок престолонаследия, а малолетний Василий Васильевич со своими ближними утвердился на московском и владимирском престоле по завещанию отца. Борьба была длительной и кровопролитной, то сходились в стычке их войска, то возникало перемирие, менялись обстоятельства, менялись великие князья на Москве и Владимире. Непримиримая борьба между дядей и племянником за великокняжеский стол много лет шла с переменным успехом. Борьба в особенности ожесточилась после того, как Василий Васильевич, одержав верх в одной из битв, ослепил старшего сына князя Юрия, Василия Косого, своего двоюродного брата. Затем в одном из столкновений одержали верх братья Юрьевичи – Василий Косой и Дмитрий Шемяка – и ослепили князя Василия Васильевича, прозванного после этого Тёмным.
В эти годы гражданской войны родился Иван Васильевич, будущий Иван III, государь всея Руси. На его глазах происходили бурные события, не раз ему вместе с матерью и младшим братом приходилось в спешке покидать Москву и убегать в дальние от отчины земли. Не раз он видел отца в затруднительных обстоятельствах, видел его поражения и неудачи, возникшие как следствие его вспыльчивого характера, не раз он видел, как отец принимал решения в состоянии гнева и смятения, и не раз он давал себе зарок не поступать так, как отец. Он видел, что отец в конце концов одержал победу, восторжествовал новый порядок престолонаследия от отца к старшему сыну, но какой ценой достался этот новый порядок… Об этом не раз задумывался юный Иван Васильевич, в отроческом возрасте ставший соправителем Великого княжества Владимирского и Московского, постоянно присутствовавший при всех заседаниях высшей власти в государстве, а в 1462 году ставший полновластным правителем обширного государства Российского.
О раннем взрослении Ивана писал ещё Н.М. Карамзин, ссылаясь на документы времени. С 1462 года, как только Иван вступил на престол, начинается настоящая государственная история России, «деяния царства, приобретающего независимость и величие», «образуется держава сильная, как бы новая для Европы и Азии, которые, видя оную с удивлением, предлагают ей знаменитое место в их системе политической». Много великих дел совершил Иван III, укрепил государственную власть, объединил многие русские города, во всех европейских государствах присутствовали его послы, а в Москву зачастили послы европейские, и во всех его деяниях просматривалась единая главная мысль, «устремлённая ко благу отечества». Содержание истории этого времени Н.М. Карамзин назвал «блестящей», Иван III «имел редкое счастие властвовать сорок три года и был достоин оного, властвуя для величия и славы россиян». Обратив внимание на раннее повзросление Ивана III, который «на двенадцатом году жизни сочетался браком», «на осьмнадцатом имел сына», Н.М. Карамзин далее даёт весьма существенную характеристику деятельности Ивана III: «Но в лета пылкого юношества он изъявлял осторожность, свойственную умам зрелым, опытным, а ему природную: ни в начале, ни после не любил дерзкой отважности; ждал случая, избирал время; не быстро устремлялся к цели, но двигался к ней размеренными шагами, опасаясь равно и легкомысленной горячности и несправедливости, уважая общее мнение и правила века. Назначенный судьбою восстановить единодержавие в России, он не вдруг предпринял сие великое дело и не считал всех средств дозволенными» (Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. VI. Гл. 1 // Москва. 1989. № 1. С. 105—106).
Подводя итоги «блестящей истории» Ивана III, Карамзин писал: «Иоанн III принадлежит к числу весьма немногих государей, избираемых провидением решить надолго судьбу народов: он есть герой не только российской, но и всемирной истории… Россия около трёх веков находилась вне круга европейской политической деятельности, не участвуя в важных изменениях гражданской жизни народов… Россия при Иоанне III как бы вышла из сумрака теней, где ещё не имела ни твёрдого образа, ни полного бытия государственного» (Там же // Москва. 1989. № 3. С. 136—137). Иоанн «сделался одним из знаменитейших государей в Европе, чтимый, ласкаемый от Рима до Царяграда, Вены и Копенгагена, не уступая первенства ни императорам, ни гордым султанам; без учения, без наставлений, руководствуемый только природным умом, дал себе мудрые правила в политике внешней и внутренней; силою и хитростию восстановляя свободу и целость России, губя царство Батаева, тесня, обрывая Литву, сокрушая вольность новгородскую, захватывая уделы, расширяя владения московские до пустынь сибирских и норвежской Лапландии, изобрёл благоразумнейшую, на дальновидной умеренности основанную для нас систему войны и мира, которой его преемники долженствовали единственно следовать постоянно, чтобы утвердить величие государства. Бракосочетанием с Софиею обратив на себя внимание держав, раздрав завесу между Европою и нами, с любопытством обозревая престолы и царства, не хотел мешаться в дела чуждые; принимал союзы, но с условием ясной пользы для России; искал орудий для собственных замыслов и не служил никому орудием, действуя всегда как свойственно великому, хитрому монарху, не имеющему никаких страстей в политике, кроме добродетельной любви к прочному благу своего народа. Следствием было то, что Россия, как держава независимая, величественно возвысила главу свою на пределах Азии и Европы, спокойная внутри и не боясь врагов внешних» (Там же. С. 138).
И, по мнению С.М. Соловьёва, Иван III, продолжая политику своих предков и пользуясь счастливыми историческими обстоятельствами, «доканчивает старое и вместе с тем необходимо начинает новое»: это новое не есть следствие его одной деятельности; но Иоанну III принадлежит почётное место среди собирателей Русской земли, среди образователей Московского государства; Иоанну принадлежат заслуги в том, что он умел пользоваться своими средствами и счастливыми обстоятельствами, в которых находился во всё продолжение жизни.
«При пользовании своими средствами и своим положением Иоанн явился истым потомком Всеволода III и Калиты, истым князем Северной Руси: расчётливость, медленность, осторожность, сильное отвращение от мер решительных, которыми было много можно выиграть, но и потерять, и при этом стойкость в доведении до конца раз начатого, хладнокровие – вот отличительные черты деятельности Иоанна III. Благодаря известиям венецианца Контарини мы можем иметь некоторое понятие и о физических свойствах Иоанна: он был высокий, худощавый, красивый мужчина; из прозвища Горбатый, которое встречается в некоторых летописях, должно заключать, что он при высоком росте был сутуловат…» (Соловьёв С.М. История России с древнейших времен. М.: Голос, 1993. Т. 5).
Современные историки также выделяют правление Ивана III в череде исторических событий: «Московия стала ведущим русским государством, а авторитет её великого князя усилился неимоверно. Новый облик Московии и её международный рост внезапно поразили мир во время правления Ивана III (1462—1505)», – писал Георгий Вернадский (Вернадский Г. Русская история. М.: Аграф, 1997. С. 90).
Новаторство Валерия Язвицкого в том, что он впервые создал художественный образ великого князя Ивана III, во многом соответствующий летописным и историческим свидетельствам. В. Язвицкий задумал показать процесс формирования характера Ивана III; он хорошо знал конечный результат этого процесса, а потому уже с первых страниц романа воссоздаёт такие детали и подробности княжеского быта, которые питают впечатлительную душу гениального ребёнка, необычного и по рождению, и по воспитанию его драматическими обстоятельствами. То, что приобретается годами детства, гениальный ребёнок схватывает мгновенно, опережая в своём развитии своих сверстников. Таким и показывает его автор.
Вот почему Иван III с младенческих лет начал вникать в государственные дела, он «памятлив очень», выглядывая из окна, смотрит, как от Кремля веером расходятся дороги, и думает о войне, о татаpax, об отце, который ушёл на войну с татарами. «Смутные думы сами идут к Ивану со всех сторон, и тяжко ему на душе стало…» (Язвицкий В. Иван III – государь всея Руси. С. 36). Он видит, как переживает его мать, великая княгиня Мария Ярославна, как она в молитве просит Бога побить царя Махмета, защитить и помиловать князя Василия и всё христианское войско, ушедшее с ним, просит спасти великого князя ради младенцев Ивана да Юрия. И всё это каждодневно увиденное и запечатлённое в его восприимчивой душе формирует в нём рано взрослеющего княжича, будущего правителя и вождя. Отсюда и портретная характеристика: «Стройный и высокий не по годам, он в задумчивости гладил рукой угол изразцовой печки с голубой росписью и, хмуря брови, о чём-то усиленно думал. На вид ему было лет восемь, но большие, тёмные и строгие, как у матери, глаза смотрели так умно и остро, что казался он ещё старше» (Там же. С. 38).
И в грамоте он силён не по годам, «умной головушкой» называет своего любимца старая бабка Софья Витовтовна. Мир и согласие царят в семье, любовь и почтение к старшим, молиться, «как подобает», – внушают ему мать и бабушка. Отец Александр внимательно следит за его учением, радуется тому, что «Господь вразумляет» его грамоте: «…на шестом году токмо азбуку учат, а ты упредил и тех, что на седьмом году учат: и часовник, и псалтырь прошёл» (Там же. С. 42).
В. Язвицкий хорошо познал быт и нравы великняжеского двора, подробно описывает он одежду, постройки, обеды, моления, трапезы, обряды, взаимоотношения повелителей и слуг дворцовых, – во всём чувствуются основательные познания и доброе отношение к давно ушедшему миру, независимо от того, кого описывает он в данный миг – слуг или повелителей.
Софья Витовтовна, дочь великого князя Литовского, оставшаяся вдовой после смерти старшего сына Дмитрия Донского – Василия Дмитриевича, высказывает и главную идею своего времени, и отношение к удельным князьям Дмитрию Шемяке и Василию Косому: «…враги-то наши тово не мыслят, што они – токмо краешки, а се редка-то всему – Москва, всё под Москву само придёт. Всех их Москва съест, а без Москвы Руси не стоять…» (Там же. С. 46).
С десяти лет великий князь Василий Васильевич остался без отца, и Софья Витовтовна с детства его «государствованию вразумляла» и многое из своего опыта внушала и Ивану Васильевичу, будущему Ивану III.
Отец Александр, мамка Ульяна, Данилка, сын дворецкого Константина Иваныча, сам дворецкий, старый Илейка, воины Яшка Ростопча и Фёдорец, татарский сотник Ачисан, бояре – все эти персонажи действуют в первой главе и надолго остаются в памяти читателей, прямо или косвенно оказывая на княжича Ивана своё влияние, внушая ему ненависть к татарам, взявшим в плен его отца, и вызывая неподдельный страх у жителей Москвы в ожидании нового нашествия губительной силы татарской.
При всех драматических событиях присутствует княжич Иван, бурно переживает услышанное о поражении отца. После Куликовской битвы татары нападают на Русь… И в душу княжича естественно вошла дума: как только вырастет, всех татар побьёт, не даст никого в обиду.
В неполные десять лет Иван стал соправителем отца, вместе с ним участвовал во всех советах, слушал, внимал умным речам. Снова Шемяка нарушил крестное целование, собрал великую силу, подошёл к Костроме. А тут снова татары оказались под Москвой. Как бороться с татарами, если войско великого князя пошло усмирять «гада змею подколодную» Шемяку. Отец внушает Ивану, чтобы он помнил главное, что стоит перед государем Московским: «Перво-наперво Шемяку совсем порешить, а потом Новгород проклятый совсем сломать, хребет ему переломить, только тогда наступит долгожданная тишина на Руси», только тогда, скопив силы, можно не бояться татар. Новгород и Шемяка опаснее татар, «крест целуют, а нож за пазухой держат». А главное – сбывается одна из самых затаённых глубоких мыслей – бить татар силами других татар. Так войско царевича Касима прогнало от Москвы татар Ахмата.
В самый разгар работы над романом стали появляться первые отзывы в печати. Ф. Александрова, отметив, что в романе верно отражена борьба между реакционными и прогрессивными силами в складывающемся национальном государстве, что автор, опираясь на данные исторической науки, правдиво освещает прогрессивную роль церкви, выступавшей против междоусобной борьбы удельных князей с великим князем Московским, вместе с тем писала, что «в первой книге романа автор не сумел отвести народу то место, которое он занимал в истории борьбы за государственное единство. Внимание писателя слишком пристально приковано к событиям вокруг великокняжеского двора» (Знамя. 1947. № 9. С. 177).
Совершенно справедливо критик говорит и о том, что автор тщательно проработал все известные источники об этом времени, внимательно изучил его предметные стороны, архитектуру старой Москвы, костюмы, одежду, домашнюю утварь, меню великокняжеского двора и монастырей, церковный календарь, а главное – язык того времени.
И казалось бы, это все положительно характеризует писателя и его сочинение, пронизанное правдой. Но критик делает совершенно неверный, в угоду времени, вывод: «Эта кропотливая подготовительная работа достаточна для придания роману видимого правдоподобия и внешней убедительности, но она не может заменить подлинного проникновения в дух и характер эпохи. Это проникновение, достигаемое прежде всего верным изображением чувств, представлений и отношений людей, в романе Язвицкого подменяется натуралистическим копированием языка и преувеличенно подробным описанием материальной обстановки» (Там же).