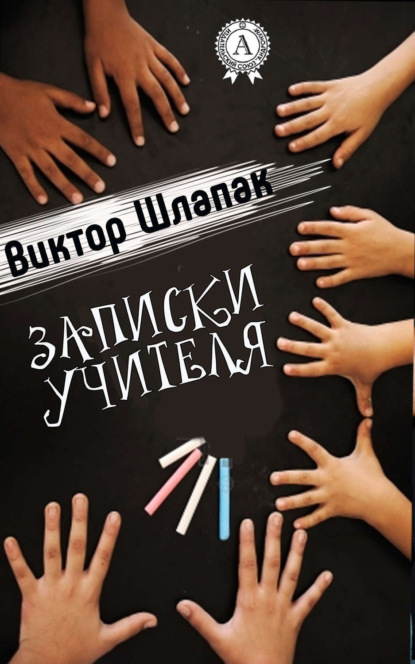По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Записки учителя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Экзамены сданы, оценки поставлены: двадцать четыре тройки, шесть четверок, пятерок нет и в помине.
Я заполняю ведомость и заношу к директору на подпись. Он смотрит сразу на итоги. Работает цветной телевизор, с ним в кабинете бывшая ученица, ныне царствующая председатель угкома.
– Сколько процентов качества знаний?
– Семнадцать! – говорю я и показываю пальцем цифру, на которую она смотрит.
– Маловато. Управление требует где-то в регионе тридцати, сорока.
«Регион» – модное слово – свидетельствует о наличии эрудиции, подкованности, деловитости… вставляется в каждую строку.
Я улыбаюсь.
– Это еще хорошо для них, за год было четыре четверки, сейчас шесть.
– Маловато, – отвечает он, улыбаясь. – Вы плохо понимаете политику…
Я смотрю на него и вижу совсем другое: как он идет мимо преподавателей и мастеров, сидящих в обеденной комнатке, идет в отдельный кабинет к директору столовой; с отдельным прибором обедать… А за ним…
Откуда это, почему? Что это: настоящее или прошлое? И зачем сдавать экзамены?
4. Все тихо.
Я забыл, когда это было, год или два назад, может быть, три, но это было.
Я помню эту девушку, сидевшую на первой парте, ее огромные карие глаза под черными дугами бровей. Она много молчала, но тогда я еще не знал, что она много думала.
В училище установили дежурство преподавателей в общежитии. Дежурный оставался, отмечался и уходил.
Утром, когда я пришел на работу, узнал, что эта девушка погибла, бросившись с девятого этажа.
А день шел как обычно, ученики кричали, шумели, я был поражен, удивлен, словно я чего-то ждал, и мне казалось, что все должно идти не так, как шло, как идет. Я мысленно представляю ее, смотрю на нее в своем воображении, заглядываю в ее глаза и спрашиваю… Зачем? Почему? Не верится, но это было!
«Все виноваты», – заявил директор. Что он имел в виду?
– Дежурный преподаватель ушел в девять, – а должен был уйти в десять.
– Это случилось в одиннадцать, – отвечали ему.
От этой мысли делается неприятно, но эти мысли тоже есть, может быть, потому, что не причину будут искать, а виновных. Неужели Катерина? Протест? Но против чего? Пошли комиссии.
Попугали и ушли, все тихо, ничего не изменилось. Боль не проходит!
5. Об эпиграфах вообще и в частности.
«А тем, кто ненавидит войну, надо бы прежде всего ненавидеть бесчисленные уродства человеческого общества».
/Э.Золя/.
«…Чтобы стать… /человеком/, надо уметь разобраться в тех ходячих фразах и всевозможных софизмах, которыми прикрывает каждый класс /человек/ свои эгоистические поползновения и свое настоящее нутро» /Ленин/.
Вот правда, истина. Но она печальна! Почему? Так должно быть, но не всегда так делается, как должно быть.
Вот эпиграфы. К чему? К правде, о правде? Может быть, это эпиграфы к сочинениям учеников, а может быть, это эпиграфы к моей десятилетней деятельности учителем, а может быть, они относятся ко всей жизни человека на земле?
Человек тот, кто живет как человек; а те, кто живет иначе, это уже не люди, даже если они внешне похожи на людей. Как же быть? Неужели эгоизм неизбежен? Эгоизм неизбежен, как и неизбежна борьба с ним.
Как жить: без него или с ним? Человек мыслит так, как живет, или живет так, как мыслит? Если он мыслит так, как живет, то кто же тогда становится человеком? И как им стать, как жить так, как мыслить?
Эпиграфы, очевидно, надо не только писать, употреблять, но и выполнять.
6. Секрет фирмы, или Как и чему учат учителей.
В училищах экзамены начинаются в марте-апреле. Я принимал экзамены впервые. Сочинение по русской литературе. Когда я собрал сочинения и начал проверять, то растерялся: много ошибок.
– Что же делать? Не меньше трех двоек, – сказал я завучу.
– Шутишь? Не знаешь? – спросил он, улыбаясь и оглядываясь.
– Нет!
– Исправь!
– Как?
– Сам.
– Где?
– В сочинении. Как маленький, ей богу. Секрет фирмы, – он смеялся. Он бывший директор, к нам перешел по переводу.
Когда я думал о нем, я всегда вспоминал урок, который я посетил по собственной инициативе, ради интереса. Ученики поговаривали, что он ест на уроках, спит…
Он очень толст, как я понял сейчас, физические недостатки постепенно заполняют разум, и разум становится похож на свое тело.
Я никогда не видел подобного урока.
Он не говорил, не объяснял, а кричал, при этом не сам, а по учебнику, история в его исполнении была только учебником, а не жизнью; как бы в опровержение этому ученики жили даже на его уроках: несмотря на боязнь, каждый занимался своим делом, впрочем, как и он сам. Он спрашивал, они, дрожа всем телом, вставали, молча, он говорил, что надо было им сказать, они повторяли, и он ставил четверки, пятерки, они садились, чтобы забыть, чтобы заниматься каждому своим делом…
Ведь история, которую он преподавал, не имела и не хотела иметь с «тупицами, невежами» ни малейшего дела.
Я слушаю, и вдруг мне становится страшно, я почувствовал себя учеником, мне показалось, что он меня сейчас спросит, а я ничего не понял и ничего не могу ответить и получу лишь «тупицу», в лучшем случае – «невежу», и ничего не смогу вразумительно произнести, как когда-то, когда я был сам учеником и слушал подобные уроки.
Оживал он только тогда, когда получал деньги.
Я однажды видел, как пробуждалось его полное, неподвижное тело, как быстро задвигались его пухлые пальцы, открылись шире его постоянно сонные глаза, когда он сгребал со стола сложенные кучкой деньги.
А теперь он мне раскрывает секрет фирмы, учит…