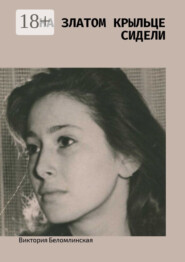По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
СКЛАД
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я буду – Никто. Вослед за Цветаевой хочется сказать:
«На твой безумный мир, ответ один – отказ».
Я лучше буду – Голем, Джин, Привидение.
Я полечу на метле, а другой метлой буду колотить по головам всех, кто не дает чистому и честному голосу моей мамы прорваться к читателю, всех, кто за эти годы обидел и оскорбил ее – пренебрежением.
Я принесу маме связку вражеских скальпов.
А потом мы с мамой уйдем в партизаны.
В леса Большой Паутины.
За нами Русская Литература.
Видишь, мама, Гоголь протягивает тебе свою Шинель.
Вот он – наш главный дом – Шинель.
Из Шинели, все мы – из Шинели…
Не плачь мама, бедная девушка.
Возьми шинель – пошли домой.
Построим себе сайт-шалаш в Большой Паутине.
Крыльцо у нас будет не золотое – простое.
Вход – свободный.
Юлия Беломлинская
2005 Питер
ВСТРЕЧИ
ОБ АЛЕКСАНДРЕ ГАЛИЧЕ И ЮРИИ НАГИБИНЕ
БУЛАТ ОКУЛЖАВА (из блокнота)
ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ
Понятие женской – красоты – это такое многообразие, вы же сами знаете, делю не в том, что у мужчин разные вкусы – этому нравится толстая, а тому худая, но каждая эпоха, каждая культура создает свой эталон красоты. Потом они могут перемешиваться, в самой своей сути сублимируя время, отражая его то романтический, то демонический образ, образ расцвета или упадка, тонкую подоплеку вселенских предчувствий и надежд.
Но существует одно незыблемое, влекущее нечто – тот божественный дар женственности, что во веки веков одерживает победы над мужскими сердцами.
Порой этот дар вовсе не связан никакими узами с установленными канонами красоты – он лишь убедительно создает ее иллюзию.
И тут уж ничего не поделаешь – настолько убедительно. Вот, к примеру, я работаю с рыжеволосой толстушкой. Я вижу: у нее короткие ноги, довольно низкая попа, спереди выступает жирный животик, даже более чем грудь выступает. Но так обворожительны ее бело-розовая шея, мягкие влекущие к объятию плечи, копна солнечно-рыжих, легких завитков так нежно обрамляет и эту, в детских поперечинках шейку, и лицо необыкновенной заманчивости: как на дорогом фарфоре разложенные сласти, лежат голубые глаза, темнеющие временами под сенью длинных, тщательно изогнутых умелым прикосновением щеточки ресниц; так умилителен, точно для этого овала, для этого места между двух веселых щек вылепленный нос, и эта родинка справа над губой, и так неожиданно звонко губы растягиваются в улыбку тотчас на щеках образуя милые ямочки – и невозможно не понять, что эту женщину мужчина не то, что может хотеть трахнуть, но должно быть, он хотел бы съесть ее, облизать ее всю, всю ее солнечно-медово-пушистую сладость впитать в себя, всосать, ну, хоть как-то растворить в себе…
Впрочем, мне трудно представить, какой она будет лет через двадцать. А я и посейчас слыву красавицей. Это в мои-то годы! И надо сказать, что так же как моя сослуживица – ее, между прочим, зовут Апрель – в век длинноногих высоченных манекенщиц, имею не слишком много данных носить этот, всякой женщине льстящий, титул. И ноги ни к чорту не годятся и то не так, и это не эдак. Я как-то, размечтавшись о выигранных в лотерею миллионах, представила себя в кабинете пластической хирургии, и тотчас в отчаянии сбежала оттуда. Оказалось, что я хотела бы перекроить почти все, – тс есть попросту пропеть: «перекроите все иначе, сулит мне новые удачи искусство кройки и шитья…»
А в возрасте Апрельки я была полной ее противоположностью.
Моя худоба – «ножки тонкие, ручки тонкие», длинная шея, острые плечи,
разбегающиеся от висков голубые жилки под прозрачной кожей – все это превращало мою уже вполне вызревшую женственность во что-то щемящее, примешивало к ней впечатление невозможной детскости. Так вот смотришь на каплю только что пролившегося дождя, видишь, как она подрагивает на карнизе, как отражается в ней, играет солнечный свет и сердце замирает от ужаса: сейчас она сорвется и разлетится в прах… Это, должно быть, очень чувствовали художники – они любили меня своей профессиональней любовью, их увлекали эти переливы света, игра теней, что-то еще такое, специальное. Я позировала до замужества в Академии художеств и замуж вышла за художника, и привыкла выслушивать о себе профессиональные восторги.
Наверно поэтому, когда Булат Шалвович Окуджава, увидев меня впервые, произнес тост, посвященный моей хрупкой красоте, сказал замечательные, очень искусные слова – я слушала их так, как будто они не ко мне относились, а были лишь прекрасным актом творчества. И оказалась права: он не узнал меня, когда через неделю мы с мужем провожали Сашу в Москву, и столкнулись с Окуджавой в проходе вагона.
Мы поздоровались, и он кивнул так подозрительно небрежно, что можно было понять, что не узнал. Тогда подумалось вполне справедливо: как же такому знаменитому человеку упомнить всех, кто случайно сказался в орбите его зрения. Но прекрасные его слова запомнились. Среди них была благодарственная фраза в адрес Саши. За то, что это он привел меня к их пиршественному столу.
В номере-люксе гостиницы «Астория», где первая комната была как бы лишней и необитаемой, во второй – за круглым столом, уставленным едой и питьем, сидели Окуджава, Белла Ахмадулина и мои давние приятели: Володя Венгеров с женой Галей, Гиппиусы, Володя Шредель.
А меня, действительно, привел с собой Галич.
В тот вечер я могла впервые увидеть Юрия Марковича Нагибина. Но не увидела.
Он лежал больной, в третьей комнате, должно быть, ему хорошо был слышен гул нашего застолья. Время от времени то Шредель, то Гиппиус уходили проведать его. Возвращаясь, сокрушенно покачивая головой, сообщали: «Юрка совсем плох…»
Но как-то это не омрачало общего веселия. Никто из его соратников по бегству из Москвы из-за стола ни разу не поднялся, жена Белла, давно уже пьяненькая, тонким с трещинкой голоском произносила бесконечный монолог – вслушавшись в него, можно было уловить, что это трогательно-выспренное объяснение в любви к «Булатику».
А мое маленькое женское тщеславие пело внутри меня победные гимны: я пришла сюда с Галичем, он, наконец-то, сидел рядом со мной – и это было самым главным!
Гиппиус заговорщически нашептал мне, что вся эта «великолепная четверка» бежала из Москвы, дабы избегнуть принуждения подписывать какую-то очередную гадость, но я-то знала: Саша приехал меня ради – он писал мне о своем желании увидеть меня, каждое письмо начиная словами: «Моя прекрасная дама!» Это обращение мне не нравилось, вот уж не похожа я была на «даму», да и мне неловко было называть его «Сашей» – таким немолодым, одышливым казался он мне с высоты птичьего полета моей молодости. Теперь, когда я стала старше его, мне естественнее называть его по имени, а тогда я множество раз обижала его этим упорным «Александр Аркадьевич».
Так же как потом обижался на меня за «Юрия Марковича» Нагибин, приглашением к амикошонству, пытаясь попридержать отлетающее время…
В один из приездов Галича в Ленинград наши друзья Гарик и Жанна Ковенчуки устроили званный вечер, Жанна попросила меня придти пораньше, помочь с приготовлением стола. Я никогда ни до, ни после на высоких каблуках не ходила, не умею, а тут подвернулись мне туфли на высоченных шпильках под цвет платью. Но долго я не смогла выдержать и, бегая из кухни в комнату, сбросила их.
Распаренная жаром духовки, ушла в Жаннину спальню привести себя в порядок, и как раз – звонок. В квартиру влились возбужденные с мороза голоса, среди них эдакий барственный баритон – он сразу выделился – по всей квартире разлилось очарование первых мгновений, предшествующих началу застолья…
А туфли остались где-то в прихожей – я так и вышла к гостям босиком. И это было все! Он увидел мои разутые ноги – он потом множество раз повторял: «Ты была босая! Среди этих разряженных дам – ты была босая!» – ему достаточно было одного мига этой рискованной незащищенности…
А я увидела перед собой вальяжного господина, так же сильно похожего на модного гинеколога или преуспевающего адвоката – будь поплоше одет, сошел бы и за бухгалтера – как мало походил внешне на поэта, автора тех песен, что уже разнесла по свету магнитофонная слава. И вошедшая вместе с ним гитара некоторое время казалась случайной гостьей.
Но пришло время, Саша взял ее в руки и – когда-то потом Юрий Маркович говорил мне: «Знаете, так было всегда: я знакомился с бабой, покупал цветы, вел ее в ресторан, тратил на нее кучу денег и времени, и вдруг появлялся Саша, брал в руки гитару и через час уводил мою женщину с собой. И чаще всего я еще почему-то давал ей деньги на аборт…»
В тот вечер он пел для меня. Для меня одной – это было очень заметно.
И, конечно, прибавляло к моему восхищению словами его песен, их сильным смыслом, абсолютным артистизмом исполнения, восторг ликующего женского тщеславия, упоения без всяких усилий одержанной победой. Куда же денешься – так оно было…
Потом нас развозил по домам какой-то заблудившийся в морозной ночи автобус: кого-то везли на Васильевский, потом к Александро-Невской Лавре – «Мимо белых берез и по белой дороге и прочь. Прямо в белую ночь, в Петроградскую белую ночь…»
И снова возвращались к центру, чтобы высадить Сашу возле «Астории». И я уже знала, что утром следующего дня приду в вестибюль этой гостиницы и назову портье записанный помадой на ладони в темноте автобуса Сашин номер.
А в сутолоке заполнивших автобус голосов еще не остывших от гостевания мужчин и женщин, мы с Сашей говорили об очень важных, очень серьезных вещах – недаром в первом же письме из Москвы он написал мне: «Вчера выступал в Центральном клубе работников искусств и пел черт знает что – имел успех! Вообще, тот наш странный разговор вдохновил меня на полную отчаянность!»