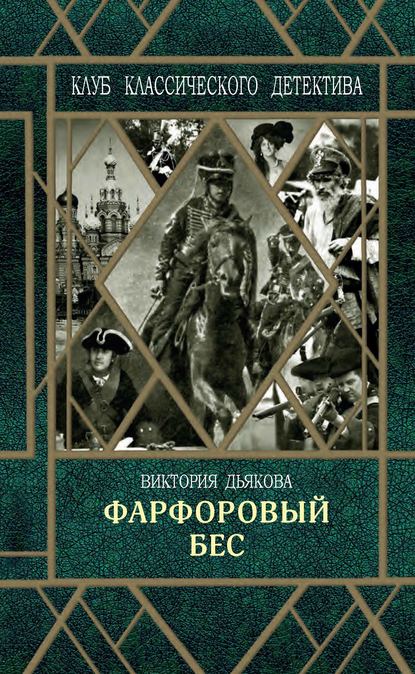По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Фарфоровый бес
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Садитесь же, садитесь, – настаивала служанка.
– Вы позволите, мадемуазель? – осведомился Денис с прежней сухостью.
– Прошу вас, – откликнулась Алиса едва слышно.
Денис сел в карету, Марфа захлопнула за ним дверцу. Теперь он остался с Алисой наедине. Мадемуазель молчала, все так же прижимая пальцы к лицу. Смирив волнение, Денис начал разговор первым.
– Я получил вашу записку, мадемуазель, – проговорил он как можно мягче. – Вы просили меня прийти. Я пришел.
– Где мое письмо? – ответ Алисы прозвучал немного резко, словно распрямилась плотно сжатая пружина. – Пожалуйста, отдайте мне его.
– Конечно, возьмите, вот оно, – Денис протянул девушке аккуратно сложенный лист бумаги, – не нужно так беспокоиться, поверьте, – он истолковал резкость девушки по-своему. – Я никому не обмолвился даже, от кого это письмо. Так что вам не стоит опасаться компрометации. – Она быстро выхватила из его рук бумагу и спрятала ее в рукав шубки.
– Вы даже не можете вообразить себе, как я рискую, – проговорила она дрогнувшим голосом и обратила к Денису бледное, красивое лицо, на котором сверкнули слезами ее ярко-голубые, небесные глаза. Стараясь не выдать своей слабости, она тут же опустила взор, обмахнув краешком шали повлажневшие ресницы. – Анна Александровна намеренно строго следит за мной, не позволяя никакой вольности. Она разгневается, если узнает, что я покинула дом в ее отсутствие, не получив от нее разрешения. Тем более, если ей станет известно, что я направилась сюда, в конногвардейский манеж, где одни мужчины…
– Успокойтесь, мадемуазель, – Денис осторожно взял руку девушки в свою. – Я повторяю, вам не нужно опасаться компрометации. От кого Анна Александровна узнает о вашем отсутствии? Если только Марфа ей расскажет. Вы верите своей горничной?
– Мне не остается ничего другого, – грустно вздохнула Алиса. Она постепенно совладала с собственной робостью и волнением. Теперь она могла слегка распрямиться и смотрела на Дениса ясно и светло. Она едва заметно улыбалась. Ее взгляд выражал восхищение, поклонение, восторг.
– Мне даже не верится, что я вижу вас, – прошептала она, и бледные щеки ее зарделись розовым румянцем. – Я понимаю, что девушке непристойно признаваться в этом, но я тосковала из-за вашего отсутствия. Я считала часы, дни. Но вы больше не появлялись у нас. Скажите, Денис Васильевич, почему? Вам неприятно было видеться со мной?
– Что вы, мадемуазель, напротив, – голубые глаза Алисы пристально смотрели на молодого человека, вопрошая, и теперь пришла очередь смущаться ему: – Я горячо желал увидеть вас, но дела службы удерживали меня. Поверьте, я был бы рад бывать у вас каждый вечер, – он говорил неправду, чтобы не расстраивать ее, и ощущал всю подлую фальшивость своей речи. Но Алиса верила ему с радостью. Она желала услышать, что вовсе не от равнодушия к ней, не от того, что она ему неинтересна, он позабыл о ее существовании. Теперь уж он старался не смотреть ей в лицо и отводил взгляд.
– Я так и думала, – восторженно воскликнула мадемуазель де Лицин. – Князь Петр Иванович не раз описывал мне, сколько разнообразных занятий случается у офицеров в полку. Я верила, что причина ваша только в этом. Знаете, – она снова понизила голос, – я десяток раз, никак не меньше, танцевала во сне заново ту мазурку у Энгельгартов. Я воображала себе, что если бы вас не отозвали в полк, вы бы наверняка отправились после бала к нам на Миллионную, мы бы пили чай и разговаривали, разговаривали… – Алиса мечтательно вскинула глаза и засмеялась светло, радостно, точно колокольчик прозвенел. – Ах, сколько отчаяния, сколько безнадежности пронеслось в моих мыслях, если бы вы только знали! – она с горячностью сжала его руку и приблизила порозовевшее, улыбающееся лицо.
Стараясь воспрепятствовать ее порыву, который мог привести к весьма нежелательным для него осложнениям, Денис напомнил ей:
– Вы уверены, мадемуазель, что вам не пора еще возвращаться домой? Когда обещалась быть назад княгиня Анна Александровна?
– Домой? – переспросила Алиса и сразу как-то потухла, сникла. Она отстранилась от Дениса, прислонившись спиной к стенке кареты. Ее пухлые, совсем еще детские губки обиженно подрагивали: – Да, верно, уж пора, – неохотно согласилась она. – Я вижу, что вы не так уж рады видеть меня? – спросила она как бы между прочим и отвернулась к стеклу, словно ответ совершенно не беспокоил ее. – Я зря торопилась, выдумывала себе встречу…
– Что вы, мадемуазель, я только беспокоюсь о том, чтобы вы не повредили свою репутацию, – ответил Денис, понимая, что она чувствует его натянутость. – Позвольте мне удалиться нынче, а в самом скором будущем я навещу князя Багратиона, и мы обязательно увидимся.
– Вы должны знать, – Алиса порывисто повернулась к нему, – что с тех пор, как вы спасли меня, для меня ничего не существует кроме вас. Мне безразличны все увеселения, разговоры. Мне скучно петь, я не могу петь, – она выпучила глаза, словно желая подчеркнуть весь ужас ситуации. – Меня больше не увлекает музыка. Я думаю только о вас, все мои чувства устремлены только к вам. Вы – мой герой, вы – мой кумир, о, боже! Что я говорю, – она осеклась и в страхе закрыла лицо руками. – Я не должна этого говорить. Простите меня, простите…
Ее тонкие, хрупкие плечики под пышным мехом шубы вздрогнули. Она всхлипнула.
Денис смотрел на нее, сидя неподвижно. Его сердце сжимало сочувствие и даже жалость к этому нежному, юному существу, проникнувшемуся к нему столь теплым чувством. Он боялся даже шевельнуться, чтобы неверным жестом не доставить ей еще большее огорчение или, напротив, неоправданную иллюзию, которая рано или поздно обернется печалью.
Увы, кроме жалости, не высокомерной и оскорбительной, а искренней и даже душевной, он больше ничего не чувствовал к Алисе. Он отчетливо понимал, что юная особа просила у него вовсе не утешения, она ждала от него ответных восторженных чувств, столь же горячих и захватывающих, которые пробудились в ней самой. Но его сердце оставалось безучастно и к ее красоте, и к ее страданию, и к ее мольбе о взаимности. Только чувство долга и уважения к князю Багратиону заставляло его вести себя с Алисой не просто деликатно, как с любой иной дамой, а с крайней почтительностью. Именно это его отношение она и приняла за влюбленность, и ее всколыхнувшееся юное сердечко откликнулось ему. Но он не мог дать ей чувства, которого она так жаждала.
Прекрасно осознавая все обстоятельства, Денис намеренно удерживал себя даже от сочувствия, понимая, что малейшее дуновение нежности с его стороны произведет на впечатлительную девушку такое воздействие, которое только усугубит их положение.
– Простите, мадемуазель, мне надо вернуться в манеж, – произнес он с той же сухостью, с которой и начал разговор. – Я благодарю вас за то, что оказали мне честь свиданием.
Услышав его слова, а еще скорее тон, которым они были произнесены, Алиса вздрогнула и умолкла, ее всхлипы стихли. Она не протянула ему руки для прощального поцелуя, не повернула головы, не обратила даже взгляда. Она снова закуталась в широкий капюшон шубы, и он видел только кончики лазоревой шали, колыхавшиеся от ее дыхания.
Отдавая себе отчет, что все сказано и больше ничего не остается, как уйти, Денис коротко кивнул головой, и вылез из кареты.
В лицо ему дохнул ледяной порыв ветра и посыпался мелкий снег. Марфушка, караулившая экипаж снаружи, притоптывала между двух сбитых проезжающими каретами сугробов.
– Что, месье, никак закончили? – спросила она нетерпеливо, пристукнув рукавицами. – Ехать бы пора. Барыня вернутся раньше нашего, вот уж выволочку устроят…
– Да уж езжайте поскорее, – ответил Денис с грустной улыбкой. – И проследи, чтобы мадемуазель не простудилась. Погода сегодня уж больно сырая.
– Прослежу, месье, не сумлевайтесь, – бодро откликнулась Марфушка. – Натру водочкой, заверну в одеялко верблюжье. Ничего с ней не станется. Эй, трогай, – она толкнула посапывавшего кучера и залезла в карету. Остановившись в нескольких шагах, Денис видел, как Марфушка елозила перед оконцем экипажа, то приподнимая занавеску, то опуская ее. Но Алиса не выглянула ни разу.
Громко прокашлявшись, кучер тронул застоявшихся лошадей. Довольно резко дернувшись с места, они повернули карету и покатили ее мимо манежа на Малую Морскую улицу.
Поправив треуголку, Денис медленно пошел по Конногвардейскому проезду. Он не торопился вернуться к ожидавшим его внутри манежа товарищам. Отчаянный порыв Алисы, ее готовность пренебречь условностями, готовность даже пожертвовать собой ради одной только встречи не оставили его равнодушным. В какое-то мгновение он испытал в себе неожиданную тягу к ней, даже желание единства душевного и телесного.
Он почти готов был согласиться с бабушкой. Ведь если не Анна, забывшая, оттолкнувшая его чувства, то почему не Алиса, кто, если не Алиса? Кто может быть лучше? Кто станет любить его больше, сильнее, нежнее, преданнее?
Как всякий, кто испытал разочарование и отказ возлюбленной, он теперь больше стремился не к тому, чтобы любить сам, а к тому, чтобы его любили. Он желал, чтобы любовь Алисы утешила его. Он вовсе не заботился о том, сможет ли сам возвратить ей хотя бы немного радости или безжалостно разобьет сердце, подаренное ему столь бескорыстно. Ведь грубо, жестоко говорить о любви, не любя, клясться в верности, вовсе не намереваясь соблюдать ее, убеждать в пылкости своей страсти, оставаясь холодным и рассудочным. Все это вполне могло бы оказаться сносным для мадемуазель Фелис, испытавшей в жизни немало радостей и разочарований, изведавшей любовь французских генералов, испанских тореадоров, русских придворных франтов. Но для Алисы, этого наивного, чистого, доверчивого и почти неземного создания подобный обман мог оказаться сокрушительным. Имеет ли он право разрушать ее жизнь только по той причине, что его собственную наивность и доверчивость однажды отбросили как ненужную вещицу, а он, подобрав их, затоптанные в грязи, вовсе не торопился снова натягивать на себя.
Он хорошо помнил, как больно узнать, что цена клятвам – грош, а чувствам – полгроша. И только одна встреча, одна ночь, только сверкание золота на синем маршальском мундире и немного романтических рассказов о шествии легионов при Монтебелло могут перечеркнуть всю жизнь, и все, что было высоким, вдруг становится оглушительно низким, отвратительным и тошнотворным. И все-таки предательски в глубине души теплилась надежда, что она скоро приедет, и все изменится, все вернется к прежнему, ведь он знал теперь наверняка, что Анна вот-вот вернется в Петербург.
Когда он вошел в манеж, Митьку уже увели с арены. Он стоял поодаль, привязанный конюхом, и с нетерпением перебирал ногами на соломе. Денис издалека увидел сухую голову любимого дружка с выпуклыми блестящими, веселыми глазами и влажными, подрагивающими ноздрями. Как только Митька заметил хозяина, он глубоко втянул воздух, и мускулы под его блестящей кожей взволнованно задвигались.
– Потерял меня? Здесь я, здесь, – подойдя к коню, Денис погладил его крепкую шею, поправил спутанные на загривке пряди гривы и прижался лбом к тонкому, теплому лошадиному носу, чувствуя горячее Митькино дыхание. Ему вдруг вспомнилось детство в Карголе и волнения по поводу отъезда отца в Петербург, где его ожидал суд за растрату полковой казны и неизбежная ссылка. Вспомнились долгие разговоры с бабушкой об Анне, заочная, безоблачная влюбленность в Анну, без всякой надежды на взаимность и даже не встречу. И маленький орловский жеребенок Митька, неразлучный спутник всей его жизни, боевой товарищ.
– Мы с тобой вдвоем, – проговорил Денис, ласково поглаживая бархатистую морду лошади. – Мы с тобой всегда вдвоем. В бою, на параде, дома. Ты и я. Кто еще нам нужен?
– А вот и мы, – услышал он за спиной голос неунывающего Бурцева. – Свидание окончилось? Или еще только… только предстоит? – осведомился он шутливо. – А мы со Львом уже посетили клуб и даже пропустили по стаканчику перцовки. В такую погоду в самый раз. А мадмуазель «инконю», – он переделал расхожее французское словечко на русский лад, – не замерзла? Надеюсь, ты ей не дал замерзнуть? Почему она так быстро уехала? Признаться, Лев, я крайне удивлен, – он обратился к Каховскому. – Я полагал, что мы уже сегодня не увидим месье Дениса. Он умчится в карете с незнакомкой, а нам останется только опекать его жеребца и пускать от зависти слюнки.
– Мадемуазель уехала, – ответил Денис громко, стараясь поддержать веселость товарищей. – К тому же это была вовсе не мадемуазель, а весьма почтенная мадам, – он решил утаить визит Алисы и даже не дать сообразительным друзьям повода для догадок. – Дальняя родственница княгини Анны Александровны по ее супругу… Она привезла мне письмо княгини с благодарностью за участие в бале адолесанток у Энгельгарта.
– И скомкала это письмо так, как будто прожевала его, – закончил за него Бурцев с нескрываемой иронией. – Ты не крути, Олтуфьев, не хочешь говорить, так и не надо, – он скептически пожал плечами, – подумаешь, какой секрет выискал! А уж с фантазией своей не морочь нам голову. Какая матрона будет поджидать битый час у манежа, когда всех забот для нее – заехать к нам на квартиру на Галерной да оставить записочку казачку Андрюшке. Если уж такая нужда ее одолела. А так и вовсе чепуха какая-то. Двух дней не проходит, чтобы ты не видался с князем Петром Ивановичем. Зачем посылать какую-то родственницу, когда он вполне может передать, что Анна Александровна желает тебе сказать.
– Ладно, какая разница, кто приезжал, – одернул Бурцева Каховский. – Матрона или не матрона… Нам-то что? Ты мне лучше скажи, Денис, обедаешь ты у Бориса Четвертинского или опять отправишься на посиделки к какой-нибудь госпоже Хвостовой?
– Нет уж, увольте, – Денис с усмешкой отмахнулся от его предположения. – Я больше на Адмиралтейский ни ногой. Сегодня же скажу бабушке, пусть попросит папеньку привозить ей гардероб в Мраморный. Он-то будет только рад лишний раз из-под матушкиной опеки вырваться. Что же до Бориса, он меня не приглашал сегодня, – заметил он с сомнением.
– Это только потому, что ты Акулине Игнатьевне в лапы угодил, – съязвил Каховский. – Какие разговоры, ты же знаешь, у Бориса без церемоний.
– Верно, верно, – поддержал его Бурцев, – хватит лясы точить. Перцовки проглотили, теперь и закусить не грех. А про матрону, Денис Васильевич, – он подмигнул Олтуфьеву. – Рано или поздно само собой все наружу выйдет, как ни скрывай.
В небольшой столовой, стены которой были отделаны темно-зелеными гобеленами с изображением пиршеств древнегреческих богов, набилось человек тридцать офицеров – все завсегдатаи кружка кавалергарда Бориса Четвертинского, родного брата Марьи Антоновны Нарышкиной.
Обед подавали по-русски, с обильной закуской, состоявшей из трех полноценных блюд, после которых о самом обеде думать уже не хотелось, но он был неизбежен. Пока лакеи расставляли на покрытом белоснежной скатертью столе крутобокие фарфоровые супницы с домашними щами, неизменным атрибутом приемов у Бориса, общество поедало икру осетра, предложенную в вазочках, запивало ее шампанским и увлеченно обсуждало последние новости.
Главной же интригой политической жизни оставался все тот же вопрос: заключит государь мир с Бонапартом или же война продолжится. А если войны не избежать, кто будет назначен главнокомандующим армией. С тех пор, как Кутузов был удален из Петербурга и назначен генерал-губернатором в Киев, вопрос этот не казался праздным, особенно для военной молодежи.
– Готов спорить, что назначат какого-нибудь иностранца, – горячился хозяин дома. – Возможно, Кнорринга, Майендорфа или Сухтелена…
– Пардон, позвольте осведомиться, Борис, а кто это такие? – насмешливо возражал ему Бурцев, развалившись на бархатном диванчике перед окном. – Ты их на поле сражения когда-нибудь видал? Нет, я уверен, наш государь не просто умен, он прозорлив, и если бы не дурные австрийские советчики, которые совершенно запутали его накануне его сражения, аустерлицкая баталия сложилась бы для нас куда более успешно. Из иностранцев, если уж на то пошло, больше всего подходит Беннегсен, – заключил он и пыхнул трубкой. – Да и какой же он иностранец? Леонтий Леонтиевич, самый что ни на есть русак…Ты как считаешь, Олтуфьев? – обратился он за поддержкой к Денису. Тот неопределенно пожал плечами:
– Я полагаю, его императорскому величеству виднее, кого ставить над армией нынче, – заметил он, – по мне так лучше Михайлы Илларионовича не сыщешь, а так бы князь Петр Иванович Багратион – кого ж, кроме него?
– Вы позволите, мадемуазель? – осведомился Денис с прежней сухостью.
– Прошу вас, – откликнулась Алиса едва слышно.
Денис сел в карету, Марфа захлопнула за ним дверцу. Теперь он остался с Алисой наедине. Мадемуазель молчала, все так же прижимая пальцы к лицу. Смирив волнение, Денис начал разговор первым.
– Я получил вашу записку, мадемуазель, – проговорил он как можно мягче. – Вы просили меня прийти. Я пришел.
– Где мое письмо? – ответ Алисы прозвучал немного резко, словно распрямилась плотно сжатая пружина. – Пожалуйста, отдайте мне его.
– Конечно, возьмите, вот оно, – Денис протянул девушке аккуратно сложенный лист бумаги, – не нужно так беспокоиться, поверьте, – он истолковал резкость девушки по-своему. – Я никому не обмолвился даже, от кого это письмо. Так что вам не стоит опасаться компрометации. – Она быстро выхватила из его рук бумагу и спрятала ее в рукав шубки.
– Вы даже не можете вообразить себе, как я рискую, – проговорила она дрогнувшим голосом и обратила к Денису бледное, красивое лицо, на котором сверкнули слезами ее ярко-голубые, небесные глаза. Стараясь не выдать своей слабости, она тут же опустила взор, обмахнув краешком шали повлажневшие ресницы. – Анна Александровна намеренно строго следит за мной, не позволяя никакой вольности. Она разгневается, если узнает, что я покинула дом в ее отсутствие, не получив от нее разрешения. Тем более, если ей станет известно, что я направилась сюда, в конногвардейский манеж, где одни мужчины…
– Успокойтесь, мадемуазель, – Денис осторожно взял руку девушки в свою. – Я повторяю, вам не нужно опасаться компрометации. От кого Анна Александровна узнает о вашем отсутствии? Если только Марфа ей расскажет. Вы верите своей горничной?
– Мне не остается ничего другого, – грустно вздохнула Алиса. Она постепенно совладала с собственной робостью и волнением. Теперь она могла слегка распрямиться и смотрела на Дениса ясно и светло. Она едва заметно улыбалась. Ее взгляд выражал восхищение, поклонение, восторг.
– Мне даже не верится, что я вижу вас, – прошептала она, и бледные щеки ее зарделись розовым румянцем. – Я понимаю, что девушке непристойно признаваться в этом, но я тосковала из-за вашего отсутствия. Я считала часы, дни. Но вы больше не появлялись у нас. Скажите, Денис Васильевич, почему? Вам неприятно было видеться со мной?
– Что вы, мадемуазель, напротив, – голубые глаза Алисы пристально смотрели на молодого человека, вопрошая, и теперь пришла очередь смущаться ему: – Я горячо желал увидеть вас, но дела службы удерживали меня. Поверьте, я был бы рад бывать у вас каждый вечер, – он говорил неправду, чтобы не расстраивать ее, и ощущал всю подлую фальшивость своей речи. Но Алиса верила ему с радостью. Она желала услышать, что вовсе не от равнодушия к ней, не от того, что она ему неинтересна, он позабыл о ее существовании. Теперь уж он старался не смотреть ей в лицо и отводил взгляд.
– Я так и думала, – восторженно воскликнула мадемуазель де Лицин. – Князь Петр Иванович не раз описывал мне, сколько разнообразных занятий случается у офицеров в полку. Я верила, что причина ваша только в этом. Знаете, – она снова понизила голос, – я десяток раз, никак не меньше, танцевала во сне заново ту мазурку у Энгельгартов. Я воображала себе, что если бы вас не отозвали в полк, вы бы наверняка отправились после бала к нам на Миллионную, мы бы пили чай и разговаривали, разговаривали… – Алиса мечтательно вскинула глаза и засмеялась светло, радостно, точно колокольчик прозвенел. – Ах, сколько отчаяния, сколько безнадежности пронеслось в моих мыслях, если бы вы только знали! – она с горячностью сжала его руку и приблизила порозовевшее, улыбающееся лицо.
Стараясь воспрепятствовать ее порыву, который мог привести к весьма нежелательным для него осложнениям, Денис напомнил ей:
– Вы уверены, мадемуазель, что вам не пора еще возвращаться домой? Когда обещалась быть назад княгиня Анна Александровна?
– Домой? – переспросила Алиса и сразу как-то потухла, сникла. Она отстранилась от Дениса, прислонившись спиной к стенке кареты. Ее пухлые, совсем еще детские губки обиженно подрагивали: – Да, верно, уж пора, – неохотно согласилась она. – Я вижу, что вы не так уж рады видеть меня? – спросила она как бы между прочим и отвернулась к стеклу, словно ответ совершенно не беспокоил ее. – Я зря торопилась, выдумывала себе встречу…
– Что вы, мадемуазель, я только беспокоюсь о том, чтобы вы не повредили свою репутацию, – ответил Денис, понимая, что она чувствует его натянутость. – Позвольте мне удалиться нынче, а в самом скором будущем я навещу князя Багратиона, и мы обязательно увидимся.
– Вы должны знать, – Алиса порывисто повернулась к нему, – что с тех пор, как вы спасли меня, для меня ничего не существует кроме вас. Мне безразличны все увеселения, разговоры. Мне скучно петь, я не могу петь, – она выпучила глаза, словно желая подчеркнуть весь ужас ситуации. – Меня больше не увлекает музыка. Я думаю только о вас, все мои чувства устремлены только к вам. Вы – мой герой, вы – мой кумир, о, боже! Что я говорю, – она осеклась и в страхе закрыла лицо руками. – Я не должна этого говорить. Простите меня, простите…
Ее тонкие, хрупкие плечики под пышным мехом шубы вздрогнули. Она всхлипнула.
Денис смотрел на нее, сидя неподвижно. Его сердце сжимало сочувствие и даже жалость к этому нежному, юному существу, проникнувшемуся к нему столь теплым чувством. Он боялся даже шевельнуться, чтобы неверным жестом не доставить ей еще большее огорчение или, напротив, неоправданную иллюзию, которая рано или поздно обернется печалью.
Увы, кроме жалости, не высокомерной и оскорбительной, а искренней и даже душевной, он больше ничего не чувствовал к Алисе. Он отчетливо понимал, что юная особа просила у него вовсе не утешения, она ждала от него ответных восторженных чувств, столь же горячих и захватывающих, которые пробудились в ней самой. Но его сердце оставалось безучастно и к ее красоте, и к ее страданию, и к ее мольбе о взаимности. Только чувство долга и уважения к князю Багратиону заставляло его вести себя с Алисой не просто деликатно, как с любой иной дамой, а с крайней почтительностью. Именно это его отношение она и приняла за влюбленность, и ее всколыхнувшееся юное сердечко откликнулось ему. Но он не мог дать ей чувства, которого она так жаждала.
Прекрасно осознавая все обстоятельства, Денис намеренно удерживал себя даже от сочувствия, понимая, что малейшее дуновение нежности с его стороны произведет на впечатлительную девушку такое воздействие, которое только усугубит их положение.
– Простите, мадемуазель, мне надо вернуться в манеж, – произнес он с той же сухостью, с которой и начал разговор. – Я благодарю вас за то, что оказали мне честь свиданием.
Услышав его слова, а еще скорее тон, которым они были произнесены, Алиса вздрогнула и умолкла, ее всхлипы стихли. Она не протянула ему руки для прощального поцелуя, не повернула головы, не обратила даже взгляда. Она снова закуталась в широкий капюшон шубы, и он видел только кончики лазоревой шали, колыхавшиеся от ее дыхания.
Отдавая себе отчет, что все сказано и больше ничего не остается, как уйти, Денис коротко кивнул головой, и вылез из кареты.
В лицо ему дохнул ледяной порыв ветра и посыпался мелкий снег. Марфушка, караулившая экипаж снаружи, притоптывала между двух сбитых проезжающими каретами сугробов.
– Что, месье, никак закончили? – спросила она нетерпеливо, пристукнув рукавицами. – Ехать бы пора. Барыня вернутся раньше нашего, вот уж выволочку устроят…
– Да уж езжайте поскорее, – ответил Денис с грустной улыбкой. – И проследи, чтобы мадемуазель не простудилась. Погода сегодня уж больно сырая.
– Прослежу, месье, не сумлевайтесь, – бодро откликнулась Марфушка. – Натру водочкой, заверну в одеялко верблюжье. Ничего с ней не станется. Эй, трогай, – она толкнула посапывавшего кучера и залезла в карету. Остановившись в нескольких шагах, Денис видел, как Марфушка елозила перед оконцем экипажа, то приподнимая занавеску, то опуская ее. Но Алиса не выглянула ни разу.
Громко прокашлявшись, кучер тронул застоявшихся лошадей. Довольно резко дернувшись с места, они повернули карету и покатили ее мимо манежа на Малую Морскую улицу.
Поправив треуголку, Денис медленно пошел по Конногвардейскому проезду. Он не торопился вернуться к ожидавшим его внутри манежа товарищам. Отчаянный порыв Алисы, ее готовность пренебречь условностями, готовность даже пожертвовать собой ради одной только встречи не оставили его равнодушным. В какое-то мгновение он испытал в себе неожиданную тягу к ней, даже желание единства душевного и телесного.
Он почти готов был согласиться с бабушкой. Ведь если не Анна, забывшая, оттолкнувшая его чувства, то почему не Алиса, кто, если не Алиса? Кто может быть лучше? Кто станет любить его больше, сильнее, нежнее, преданнее?
Как всякий, кто испытал разочарование и отказ возлюбленной, он теперь больше стремился не к тому, чтобы любить сам, а к тому, чтобы его любили. Он желал, чтобы любовь Алисы утешила его. Он вовсе не заботился о том, сможет ли сам возвратить ей хотя бы немного радости или безжалостно разобьет сердце, подаренное ему столь бескорыстно. Ведь грубо, жестоко говорить о любви, не любя, клясться в верности, вовсе не намереваясь соблюдать ее, убеждать в пылкости своей страсти, оставаясь холодным и рассудочным. Все это вполне могло бы оказаться сносным для мадемуазель Фелис, испытавшей в жизни немало радостей и разочарований, изведавшей любовь французских генералов, испанских тореадоров, русских придворных франтов. Но для Алисы, этого наивного, чистого, доверчивого и почти неземного создания подобный обман мог оказаться сокрушительным. Имеет ли он право разрушать ее жизнь только по той причине, что его собственную наивность и доверчивость однажды отбросили как ненужную вещицу, а он, подобрав их, затоптанные в грязи, вовсе не торопился снова натягивать на себя.
Он хорошо помнил, как больно узнать, что цена клятвам – грош, а чувствам – полгроша. И только одна встреча, одна ночь, только сверкание золота на синем маршальском мундире и немного романтических рассказов о шествии легионов при Монтебелло могут перечеркнуть всю жизнь, и все, что было высоким, вдруг становится оглушительно низким, отвратительным и тошнотворным. И все-таки предательски в глубине души теплилась надежда, что она скоро приедет, и все изменится, все вернется к прежнему, ведь он знал теперь наверняка, что Анна вот-вот вернется в Петербург.
Когда он вошел в манеж, Митьку уже увели с арены. Он стоял поодаль, привязанный конюхом, и с нетерпением перебирал ногами на соломе. Денис издалека увидел сухую голову любимого дружка с выпуклыми блестящими, веселыми глазами и влажными, подрагивающими ноздрями. Как только Митька заметил хозяина, он глубоко втянул воздух, и мускулы под его блестящей кожей взволнованно задвигались.
– Потерял меня? Здесь я, здесь, – подойдя к коню, Денис погладил его крепкую шею, поправил спутанные на загривке пряди гривы и прижался лбом к тонкому, теплому лошадиному носу, чувствуя горячее Митькино дыхание. Ему вдруг вспомнилось детство в Карголе и волнения по поводу отъезда отца в Петербург, где его ожидал суд за растрату полковой казны и неизбежная ссылка. Вспомнились долгие разговоры с бабушкой об Анне, заочная, безоблачная влюбленность в Анну, без всякой надежды на взаимность и даже не встречу. И маленький орловский жеребенок Митька, неразлучный спутник всей его жизни, боевой товарищ.
– Мы с тобой вдвоем, – проговорил Денис, ласково поглаживая бархатистую морду лошади. – Мы с тобой всегда вдвоем. В бою, на параде, дома. Ты и я. Кто еще нам нужен?
– А вот и мы, – услышал он за спиной голос неунывающего Бурцева. – Свидание окончилось? Или еще только… только предстоит? – осведомился он шутливо. – А мы со Львом уже посетили клуб и даже пропустили по стаканчику перцовки. В такую погоду в самый раз. А мадмуазель «инконю», – он переделал расхожее французское словечко на русский лад, – не замерзла? Надеюсь, ты ей не дал замерзнуть? Почему она так быстро уехала? Признаться, Лев, я крайне удивлен, – он обратился к Каховскому. – Я полагал, что мы уже сегодня не увидим месье Дениса. Он умчится в карете с незнакомкой, а нам останется только опекать его жеребца и пускать от зависти слюнки.
– Мадемуазель уехала, – ответил Денис громко, стараясь поддержать веселость товарищей. – К тому же это была вовсе не мадемуазель, а весьма почтенная мадам, – он решил утаить визит Алисы и даже не дать сообразительным друзьям повода для догадок. – Дальняя родственница княгини Анны Александровны по ее супругу… Она привезла мне письмо княгини с благодарностью за участие в бале адолесанток у Энгельгарта.
– И скомкала это письмо так, как будто прожевала его, – закончил за него Бурцев с нескрываемой иронией. – Ты не крути, Олтуфьев, не хочешь говорить, так и не надо, – он скептически пожал плечами, – подумаешь, какой секрет выискал! А уж с фантазией своей не морочь нам голову. Какая матрона будет поджидать битый час у манежа, когда всех забот для нее – заехать к нам на квартиру на Галерной да оставить записочку казачку Андрюшке. Если уж такая нужда ее одолела. А так и вовсе чепуха какая-то. Двух дней не проходит, чтобы ты не видался с князем Петром Ивановичем. Зачем посылать какую-то родственницу, когда он вполне может передать, что Анна Александровна желает тебе сказать.
– Ладно, какая разница, кто приезжал, – одернул Бурцева Каховский. – Матрона или не матрона… Нам-то что? Ты мне лучше скажи, Денис, обедаешь ты у Бориса Четвертинского или опять отправишься на посиделки к какой-нибудь госпоже Хвостовой?
– Нет уж, увольте, – Денис с усмешкой отмахнулся от его предположения. – Я больше на Адмиралтейский ни ногой. Сегодня же скажу бабушке, пусть попросит папеньку привозить ей гардероб в Мраморный. Он-то будет только рад лишний раз из-под матушкиной опеки вырваться. Что же до Бориса, он меня не приглашал сегодня, – заметил он с сомнением.
– Это только потому, что ты Акулине Игнатьевне в лапы угодил, – съязвил Каховский. – Какие разговоры, ты же знаешь, у Бориса без церемоний.
– Верно, верно, – поддержал его Бурцев, – хватит лясы точить. Перцовки проглотили, теперь и закусить не грех. А про матрону, Денис Васильевич, – он подмигнул Олтуфьеву. – Рано или поздно само собой все наружу выйдет, как ни скрывай.
В небольшой столовой, стены которой были отделаны темно-зелеными гобеленами с изображением пиршеств древнегреческих богов, набилось человек тридцать офицеров – все завсегдатаи кружка кавалергарда Бориса Четвертинского, родного брата Марьи Антоновны Нарышкиной.
Обед подавали по-русски, с обильной закуской, состоявшей из трех полноценных блюд, после которых о самом обеде думать уже не хотелось, но он был неизбежен. Пока лакеи расставляли на покрытом белоснежной скатертью столе крутобокие фарфоровые супницы с домашними щами, неизменным атрибутом приемов у Бориса, общество поедало икру осетра, предложенную в вазочках, запивало ее шампанским и увлеченно обсуждало последние новости.
Главной же интригой политической жизни оставался все тот же вопрос: заключит государь мир с Бонапартом или же война продолжится. А если войны не избежать, кто будет назначен главнокомандующим армией. С тех пор, как Кутузов был удален из Петербурга и назначен генерал-губернатором в Киев, вопрос этот не казался праздным, особенно для военной молодежи.
– Готов спорить, что назначат какого-нибудь иностранца, – горячился хозяин дома. – Возможно, Кнорринга, Майендорфа или Сухтелена…
– Пардон, позвольте осведомиться, Борис, а кто это такие? – насмешливо возражал ему Бурцев, развалившись на бархатном диванчике перед окном. – Ты их на поле сражения когда-нибудь видал? Нет, я уверен, наш государь не просто умен, он прозорлив, и если бы не дурные австрийские советчики, которые совершенно запутали его накануне его сражения, аустерлицкая баталия сложилась бы для нас куда более успешно. Из иностранцев, если уж на то пошло, больше всего подходит Беннегсен, – заключил он и пыхнул трубкой. – Да и какой же он иностранец? Леонтий Леонтиевич, самый что ни на есть русак…Ты как считаешь, Олтуфьев? – обратился он за поддержкой к Денису. Тот неопределенно пожал плечами:
– Я полагаю, его императорскому величеству виднее, кого ставить над армией нынче, – заметил он, – по мне так лучше Михайлы Илларионовича не сыщешь, а так бы князь Петр Иванович Багратион – кого ж, кроме него?
Другие электронные книги автора Виктория Борисовна Дьякова
Госпожа камергер




 4.5
4.5
Доктор Смерть




 3.67
3.67