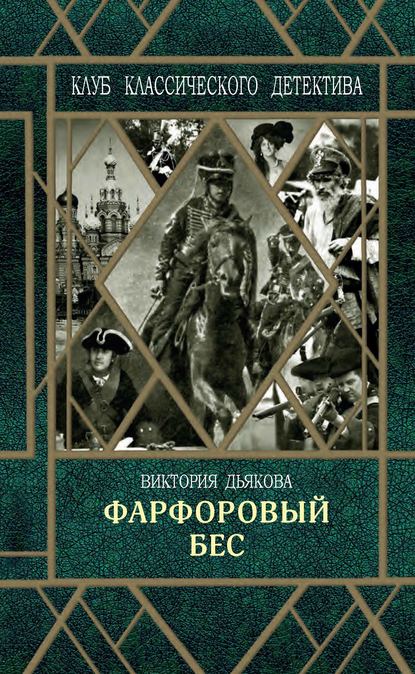По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Фарфоровый бес
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кошка соскочила с лавки и опрокинула пустую деревянную бадью. Та свалилась на крытый циновкой пол и глухо ударилась об него. Кошка с шипением спряталась за печку.
– Ах ты, недотепа, ах ты, уродина! – хозяйка дома, вздыхая и поругивая кошку, прошаркала башмаками, сплетенными из прутьев к скамье, наклонилась, подняла бадью и поставила ее на прежнее место. Потом распрямилась, поправив черный вдовий платок, закрывавший до бровей ее сухое, морщинистое лицо. – Вот побудишь барыню, а она и так намаялась, – упрекнула она кошку. Но та свернулась клубком, прижавшись спиной к теплой печной стенке, и уже мурлыкала во сне.
Анна открыла глаза. Она слышала, как упала бадья, но у нее не было сил даже пошевелиться. Она лежала на полатях, завернутая в толстый овечий тулуп. События предыдущей ночи вспоминались ей с трудом, обрывками. И нужно было приложить усилие, чтобы расположить их последовательно. Анна хорошо помнила, что вечером подъехала на санях к местечку Сизовражье, где сначала намеревалась остановиться на ночь. Но все помыслы Анны уже были сосредоточены на Петербурге, до него – рукой подать, ведь от Сизовражья, русского поселения недалеко от старинного ливонского городка Кюльта до столицы российской империи по хорошей морозной погоде меньше одного дня пути. В дороге она не раз воображала себе, как встретит ее Петербург. Ей почему-то очень хотелось въехать в родной город на рассвете, чтобы он был пустынным и тихим, каким она всегда любила его. По всем расчетам Анны, если бы она заночевала в Сизовражье, то такое ее желание трудно было бы осуществить. Тогда она приезжала в Петербург вечером. Потому она попросила кучера не останавливаться в Сизовражье, а ехать за двойную плату ночью. Тот нехотя согласился.
Передохнув на постоялом дворе с час, поменяли лошадей и двинулись в путь.
– Вы, княгиня, осторожны будьте, – предупредил Анну почтовый смотритель. – Здесь в лесах и зверя дикого полно, и народ блудный водится. Да и бураны ночные – не редкость. Сами понимаете, море близко. Ветры вольно гуляют. Куда вздумается – туда и дуют.
Анна согласно кивнула на предупреждение смотрителя, но значения его словам не придала. Петербург был совсем рядом, тоска и тревога об отце подгоняли ее вперед. Она очень надеялась, что все обойдется, и старалась не думать об опасности.
Сытые, отдохнувшие лошади несли весело. Погода стояла морозная, шлях был хорошо утоптан, ничто не предвещало беды. Анна дремала, завернувшись в медвежью шкуру, ямщик заунывно тянул себе под нос песню, позвякивали размеренно бубенцы.
Но уже через несколько часов стало заметно холоднее, надвинулись тучи, погода поменялась. Словно вырвавшись из-под земли, ураганный ветер согнул верхушки деревьев, ограждавших шлях. Он принесся с моря и сопровождался снежным бураном. Белые ледяные вихри завились над дорогой, полностью заслонив ее. Лошади не могли двигаться, они задыхались, и сани пришлось остановить. Конечно, теперь Анна понимала, что повела себя опрометчиво, приказав кучеру ехать ночью. Но она пережила столько опасностей в Берлине, что даже не представляла себе, что на территории России, всего в нескольких часах езды от Петербурга с ней может случиться несчастье.
Анна вышла из повозки, чтобы оглядеться вокруг, и ее мгновенно закружил снежный вихрь. Уже через мгновение она не видела ни саней, ни кучера, ни деревьев рядом с дорогой. Она шла, сама не ведая куда, проваливаясь по колено в снег. Ей казалось, что она идет по направлению к саням, на самом деле она уходила от них все дальше и дальше. Борьба с ледяным ветром изнурила ее. Снежная пыль набивалась в глаза, в ноздри. Анне было трудно дышать, ей не хватало воздуха. Голова кружилась, она теряла равновесие. Снег становился все глубже. С трудом преодолев несколько обледенелых насыпей, Анна упала без сил в огромный снежный сугроб и потеряла сознание.
Когда Анна очнулась, было уже утро. Она лежала в незнакомом ей крестьянском доме на лавке, совершенно нагая, прикрытая лишь холщовой простыней. Рядом с ней хлопотала пожилая женщина в черном вдовьем платке и длинной овечьей телогрее навыворот, надетой поверх черного суконного опашня с длинным рядом пуговичек от самого ворота, покрашенных киноварью. В комнате пахло травами. Анна ощутила терпкий запах репейника, жимолости, еще каких-то растений.
– Сейчас натру тебя, болезная, сейчас, – приговаривала женщина. Она придвинула к Анне еще одну лавку, поменьше, застелила ее цветастым платком. Потом прошаркала лаптями, надетыми поверх толстых вязаных ноговиц, к печке, вытащила из нее чугунок и, перехватив цветастым вышитым полотенцем, поднесла его к Анне. Поставила чугунок на лавку, сняла крышку. Терпкий запах трав стал ощутимее. Женщина обмакнула полотенце в травяном настое, потрясла его, чтобы остудить, и, откинув простыню, принялась растирать настоем замерзшее тело Анны. Анна почувствовала, как почти сразу внутри у нее потеплело, судороги отступили, она расслабилась.
– Кто же ходит по лесам в такое-то ненастье, – упрекнула ее женщина, – ведь засыпать могло с головой. Так бы и замерзла, никто бы не нашел. Хорошо, поехала я поутру до деревни, увидала тебя. А я ведь не каждый день езжу. Вот как Господь надоумил, сподобил сегодня пораньше сдвинуться. Дай, думаю, отправлюсь к своячнице своей за моченой брусникой да клюквой к пирогу. А то ведь и отложить могла, почитай цельную неделю к ней собираюся…
– Так вы нашли меня в лесу? – Анна с трудом разомкнула губы, чтобы задать вопрос. Язык еще плохо слушался ее, зубы ломило от боли, а голос выходил хрипловатым. – Как же я оказалась в лесу? – недоуменно пожала она плечами.
– А мне ж откудова знать? – усмехнулась женщина беззубым ртом, – я уж вижу, что ты не из здешних. Если по одеже судить, то вовсе из богатых ты, из благородных, – она прицокнула языком, – только если не хочешь мне говорить, то и не говори, – она снова принялась растирать Анну настоем, – мое дело-то какое, вот поправлю тебя малость, а там ступай, куда знаешь.
– Скажите, а далеко ли я теперь от Сизовражья? – спросила Анна обеспокоенно.
– Да почитай верст с двадцать, если прямиком через лес идти, – ответила ей женщина. – А в обход все тридцать будет.
– А где же мои сани, мой багаж? – продолжала спрашивать Анна, и тревога ее нарастала. Она приподнялась на локте и смотрела на женщину сверкающими от внутреннего жара синими глазами.
– Сани? Багаж? – женщина пожала плечами. – Ничего не видела я. Об одеже своей не беспокойся, – быстро добавила она. – Я платье твое просушить положила на печку и шубку туда же. Ничего не пропало, вот высохнет, и наденешь все. А уж до багажа, милая, – она развела руками, – тут уж от кучера зависит. Ты на своих санях ехала али нанимала почтовые? – осведомилась она, отжимая полотенце на чугунком.
– Нанимала почтовые, – вздохнула Анна, прекрасно понимая, что осталась ни с чем.
– Ну, тогда пиши пропало, – заключила женщина, подтвердив ее догадку. – Кучер, как тебя потерял, небось и не охнул. Либо дальше поехал, либо вовсе назад вернулся, а то и сбежал быстренько. Вещиц-то много было при тебе?
– Да нет, один саквояж, – ответила Анна растерянно, – ценного особо ничего. Одежда, украшения. Ведь если на то пошло, то мне и за приют вам теперь заплатить нечем, – добавила она грустно. «Хорошо, что брошь графини Фосс положила не в саквояж, а на платье пристегнула, – похвалила она себя мысленно, но без особой радости. – Но ее в оплату не отдашь, и кольцо Жана тоже». Выходило, что только брошь да кольцо и остались у нее, а еще соболиное манто и крест с образком на шее.
– У меня есть иконка с изумрудами, – проговорила она и приложила руку к груди, показывая на крест святого Пантелеймона-целителя. – Изумрудов в ней с десяток. Так что вы не сомневайтесь, – убеждала она женщину. – Я оставлю его вам в оплату, хлеб даром есть не стану.
– Ух ты, честная какая! Да уж, разве можно божеским расплачиваться, – упрекнула ее женщина. – Ничего мне от тебя, девочка, не нужно. Оправишься, просохнешь, отвезу тебя до деревни, там, может, и о кучере своем что разузнаешь.
– А до Петербурга можно ли будет нанять лошадь? – спросила Анна. – Мне в Петербург нужно. Меня там папенька ждет. Он болен очень.
– Ну, люди добрые кругом найдутся, – покачала головой женщина. – Попросишь, так и свезут. Особливо, если оплату пообещаешь. А я уж старая, с меня проку в том не будет, – предупредила она. – Вижу плохо, глаза попортила от долгой работы, да от слез выплакала все. Сколь уж лет одна на белом свете маюсь, – женщина накрыла Анну простыней, сверху постелила тулуп, – и давно бы уж помереть пора, а все не идет смерть. Смеется надо мной люд честной. Пора уж тебе, Матрена, говорят, отправляться вслед за муженьком своим да сынами. Никому ты не нужна, даже Бог тебя не берет. А уж сколько годов прошло, я и со счета сбилась, как проводила Ивана своего на царскую службу. Осталась одна с тремя сынами малыми. Не вернулся ко мне Иван. Попал служить он на флот и в баталии какой-то с нехристями, с басурманами этими сгинул, – она всхлипнула и закрыла лицо краем черного платка. – Ушел на дно, даже и мертвого его не повидала я напоследок. Мне ж за него только рубль серебряный прислали, как бы за храбрость отблагодарить. А что мне рубль? Мужа не заменит, сынов – тоже. Только память о них. – Она замолчала, потом продолжила, голос ее дрожал: – Как надела я по Ивану черный платок, так уж и не снимаю с той поры. Я все царицу-матушку спросить желала, что же муж-то мой, коль храбрецом был, не заслужил большего, только рубль? Отчего после гибели его и сынов не пощадили, всех троих забрали в солдаты, как подросли. Я уж к губернатору ходила, в ноги падала. Супружницу его поджидала у театра во Пскове, ее молила пощадить меня, заступиться. «Хоть младшенького оставьте, на кого ж мне, сирой, опереться, – плакала перед ней на коленях. – Холостыми сыновья мои от меня уходят, внуков не оставили мне, родители уж давно в могиле. Куда податься? Как хозяйство вести». Никто не пожелал говорить со мной. Позвала губернаторша Салтыкова солдата, чтобы оттащил меня прочь от кареты. Так и ушли сынки мои один за другим. И все сгинули, – по морщинистой щеке женщины пробежала слеза. – Всех под басурмана положили. Так за них мне даже и рубля не прислали. А уж как местечки те, где сыновья мои лежат, прозываются, я не знаю, – она пожала плечами. – Все не нашенские какие-то названия, одно вроде Измаил. Это где младшенький погиб, а иные и еще раньше…
– Козлуджи, Фокшаны, Рымник, – произнесла Анна названия мест, у которых происходили сражения с турками.
– Да, вот верно ты сказала, как-то так оне и прозывались, – оживилась женщина. – Только мне ж вовек туда не добраться, чтоб на их могилки хоть одним глазом посмотреть. Осталась одна-одинешенька солдатка Матрена, людям на забаву, – она вздохнула, потом встала со скамьи и направилась в красный угол, где висели иконы, тускло освещенные лампадой. – Я тебе рубль серебряный сейчас покажу, – объяснила она. – Он единственное мое богатство и об сынках память. Помирать стану, попрошу, чтоб в гроб со мной положили.
Матрена покрестилась на икону, поклонилась, потом встала на цыпочки и сняла с образа потемневшую от времени монету, обвязанную красной ленточкой. Держа перед собой на ладони, как великую ценность, поднесла ее Анне. Взглянув на монету, Анна увидела изображение императрицы Екатерины Алексеевны, а внизу надпись по латыни – «Чесма». И год сражения – 1773. Больше тридцати лет назад.
– Так ваш супруг погиб под Чесмой? – Анна не на шутку разволновалась. Прижав тулуп к груди, она привстала на лавке и отбросила спутанные волосы с лица. – В сражении при Чесме? – переспросила она.
– Верно и так, – Матрена пожала плечами. – Я грамоте не обучена, читать не умею. Тута написано на монетке, где, мне так поп в церкви сказывал.
– При Чесме, – Анна покачала головой, – вот как бы подумать такое? Я тут у вас, а ваш муж был матросом при Чесме и погиб там?! – воскликнула она.
– Ну да, – Матрена в недоумении пожала плечами. – А что с того? – спросила она обеспокоенно. – Там что-то дурное было, при Чесме-то, что ж, не герой мой Иван? – теперь уж разволновалась она. – Ничего мне поп о том не говорил.
– Нет, нет, – поспешила успокоить ее Анна. – Все, кто дрались при Чесме, – герои, а кто погиб – вдвойне. Это было великое сражение. Только я еще не сказала вам, кто я такая, – она виновато улыбнулась. – Я Анна Орлова-Чесменская, дочь адмирала Алексея Орлова, который тогда командовал русской эскадрой. И папенька мой, который ждет меня в Петербурге, он и есть Алексей Орлов.
– Вот как! – женщина всплеснула руками, чесменский рубль выскользнул у нее и упал на пол. Наклонившись, она поспешно подняла его. – Дочка адмирала? Как же тебя занесло-то к нам? – она взяла огарок сальной свечки, горевший в медной подставке, и поднесла его ближе, чтобы рассмотреть Анну. – Верно говоришь, чудно, – согласилась она. – Сколько раз ходила я в церковь, ставила за упокой Ивановой души свечку, все просила, чтоб какую весточку подал мне ненаглядный мой, что, мол, помнит обо мне. Может, и заберет меня к себе, зажилась совсем, опостылело все мне на земле. А он все молчал. Даже во сне ни разочка мне не явился. Я уж думала, осерчал за что. А тут, на тебе. Ниспослал господь встречу, адмиральская дочка появилась. Мне теперь и помереть можно. Так и верю я, сам Иван тебя ко мне прислал. Вот для чего так долго он меня на земле держал, чтоб я дочери его адмирала помогла.
– Вы мне помогли, а я вам помогу, – Анна взяла из рук женщины Чесменскую монету и долго смотрела на нее. – Когда мой отец разгромил турок под Чесмой, – произнесла она задумчиво, – меня еще на свете не было. Что же вы Салтыковым кланялись, – бросила она на женщину взгляд. – Надо было адмирала Орлова просить о заступничестве. Батюшка мой многих матросов своих помнит поименно. Я помню, к нам в Кузьминки, имение под Москвой, приходили женщины, которые потеряли мужей и сыновей при Чесме, молили о помощи князя. Били их помещики, обирали шибко. Малолетних детей отбирали от матерей. Так князь Орлов никогда в стороне не оставался. За большие деньги выкупал такие семьи и селил у себя на землях, где уж им жилось добро.
– Знала бы, попросила бы попа написать князю челобитную, – вздохнула Матрена. – Так я даже и имени его не ведала. А кто ж подскажет мне? Я же в молодости, веришь ли, по деревне первой красавицей была. И Иван, завидный жених, мне достался. Собой красив, меня любил, не бил, ласкал только. Сколько баб мне завидовало. Так я думаю, навели они на меня порчу. А как разрушилась вся жизнь моя, обозвали невезухой и спровадили на отшиб деревни, чтоб глаза не мозолила.
– Кто же помещик здесь у вас? – спросила Анна, возвращая Чесменский рубль хозяйке.
– Бывший государев секунд-майор Полянский с супружницей, – ответила Матрена, вытирая платком влажные от слез щеки, – я в былые времена у него при доме убиралась. Так секунд-майор как напьется вина, все начинал приставать ко мне в сенях. Я же, как об Иване горькую весть получила, зареклась, ни на кого не взгляну, всю жизнь верность ему сохраню. Еще надеялась, что сыновья мне опорой станут. А секунд-майор отказа моего терпеть не стал. Приказал сечь немилосердно, вот оттого хромаю я теперь, что всю спину мне отбили на порке его. Знать уж не могу наверняка, – Матрена всхлипнула. – Куда мне, но чует мое сердце, постарался барин наш, чтоб моих сынов без разбора забирали. Ездил к Салтыкову, обозвал Ивана моего разбойником. Чего ж не наклевещешь, коли управы не боишься, – она вздохнула. – А от бабы слабосильной какая управа. Вот и погубил всех, а меня прогнал из дома. Теперь уж сам старый, как и я. Говорят, с постели не встает, всем его молодая женка правит. Да я уж ее не видала. Обо мне она не помнит, мне ж и легче.
– Не помнит, так вспомнит, – пообещала Анна, – как супружника вашего фамилия была? – спросила она у Матрены.
– Лопатин. Иван Ловатин, – ответила та настороженно. – Я, стало быть, Лопатина Матрена, Михайловна по батюшке.
– А если я вас, Матрена Михайловна, из здешних мест заберу и с собой в Петербург позову, поедете? – спросила Анна как можно мягче. – Или жаль оставлять родные места?
– Какие же они мне родные? – грустно улыбнулась Матрена. – Давно уж хуже вражьих стали. Только не поверю я, что охота вам, барыня, нянькаться со мной. Что вам до горя моего? Только одна забота лишняя. Посочувствовали – и на том спасибо. Да и не отпустит меня секунд-майор, а уж женка его молодая тем более. Хоть и старая я, проку с меня нет, а цену заломят, из вредности.
– Меня цена не пугает, – откликнулась Анна, – более того, я и долго разговаривать с ними не стану. Сколько за детей и стариков помещики просят, меня не проведешь. Отпишу полицмейстеру записку, чтоб не разыскивал, да заберу даром. Супротив князя Орлова полицмейстер не пойдет. А у меня в Петербурге для вас, Матрена Михайловна, дружок имеется, – добавила она загадочно. – Вы ж, наверное, желаете узнать, как погиб Иван ваш, каков он был на службе. Неужто не желаете? – спросила она лукаво.
– Больше всего иного желаю, – старуха даже привстала со скамьи. – Но кто ж мне расскажет?
– Камердинер моего отца Егор Кузьмич, – ответила Анна с улыбкой, – он на эскадре при папеньке посыльным служил. На всех кораблях бывал, всех матросов знал наперечет. Я уверена, что знает он и Ивана Лопатина. Вот расскажет вам, как они время коротали перед сражением.
– Анна Алексеевна, благодетельница моя, – старуха рухнула на колени перед Анной и прижала руку ее к губам. – Вот услышал господь мою молитву, прислал заступницу. Да я хоть босиком по снегу, на край света за тобой пойду…
– Ну для того нужды у нас не приспеет, – Анна ласково подняла ее и усадила рядом с собой, – вот просохнет одежда моя, так сразу отправлюсь я в деревню, поищу там добровольца, кто за меховое манто мое из соболя мне повозку с лошадью уступит, чтоб до Петербурга добраться. Поеду в вашем тулупе, Матрена Михайловна, уж не обессудьте, – усмехнулась она. – А пока собирайтесь вы. Долго ли собираться станете?
– В чем одета, в том и тронусь, – уверила ее старуха, – только скарб кое-какой возьму, да кошку Машку, если можно. А добро все свое оставлю своячнице. Одна она меня жалела, всем супротив, пусть даром и берет. Может, она взамен лошаденку и даст с санями крытыми. Хотя очень сумлеваюсь я, – Матрена покачала головой, – в крестьянской жизни лошаденка – первое богатство. А на моей лошадке далеко не уедешь, старая она да слепая, как и я. Да и сани развалюха, на них только дрова и возить.
– Так я же родственнице вашей манто оставлю, – напомнила Анна. – Она за такое манто себе трех лошадей купит, – и тут же спросила: – А что, сами Полянские далеко ли живут? Может, мне к ним нанести визит, у них экипаж получше найдется, да и о вас, Матрена Михайловна, сразу бы дело решили.
– Полянские далеко, – вздохнула старуха Лопатина, – мы у них самые отсталые, потому они про нас вспоминают, когда часть хлеба да сено надо им нести на двор. Верст с десять до их имения будет, дорога туда полевая летом ведет, а нынче и вовсе позаметало все.
– Ах ты, недотепа, ах ты, уродина! – хозяйка дома, вздыхая и поругивая кошку, прошаркала башмаками, сплетенными из прутьев к скамье, наклонилась, подняла бадью и поставила ее на прежнее место. Потом распрямилась, поправив черный вдовий платок, закрывавший до бровей ее сухое, морщинистое лицо. – Вот побудишь барыню, а она и так намаялась, – упрекнула она кошку. Но та свернулась клубком, прижавшись спиной к теплой печной стенке, и уже мурлыкала во сне.
Анна открыла глаза. Она слышала, как упала бадья, но у нее не было сил даже пошевелиться. Она лежала на полатях, завернутая в толстый овечий тулуп. События предыдущей ночи вспоминались ей с трудом, обрывками. И нужно было приложить усилие, чтобы расположить их последовательно. Анна хорошо помнила, что вечером подъехала на санях к местечку Сизовражье, где сначала намеревалась остановиться на ночь. Но все помыслы Анны уже были сосредоточены на Петербурге, до него – рукой подать, ведь от Сизовражья, русского поселения недалеко от старинного ливонского городка Кюльта до столицы российской империи по хорошей морозной погоде меньше одного дня пути. В дороге она не раз воображала себе, как встретит ее Петербург. Ей почему-то очень хотелось въехать в родной город на рассвете, чтобы он был пустынным и тихим, каким она всегда любила его. По всем расчетам Анны, если бы она заночевала в Сизовражье, то такое ее желание трудно было бы осуществить. Тогда она приезжала в Петербург вечером. Потому она попросила кучера не останавливаться в Сизовражье, а ехать за двойную плату ночью. Тот нехотя согласился.
Передохнув на постоялом дворе с час, поменяли лошадей и двинулись в путь.
– Вы, княгиня, осторожны будьте, – предупредил Анну почтовый смотритель. – Здесь в лесах и зверя дикого полно, и народ блудный водится. Да и бураны ночные – не редкость. Сами понимаете, море близко. Ветры вольно гуляют. Куда вздумается – туда и дуют.
Анна согласно кивнула на предупреждение смотрителя, но значения его словам не придала. Петербург был совсем рядом, тоска и тревога об отце подгоняли ее вперед. Она очень надеялась, что все обойдется, и старалась не думать об опасности.
Сытые, отдохнувшие лошади несли весело. Погода стояла морозная, шлях был хорошо утоптан, ничто не предвещало беды. Анна дремала, завернувшись в медвежью шкуру, ямщик заунывно тянул себе под нос песню, позвякивали размеренно бубенцы.
Но уже через несколько часов стало заметно холоднее, надвинулись тучи, погода поменялась. Словно вырвавшись из-под земли, ураганный ветер согнул верхушки деревьев, ограждавших шлях. Он принесся с моря и сопровождался снежным бураном. Белые ледяные вихри завились над дорогой, полностью заслонив ее. Лошади не могли двигаться, они задыхались, и сани пришлось остановить. Конечно, теперь Анна понимала, что повела себя опрометчиво, приказав кучеру ехать ночью. Но она пережила столько опасностей в Берлине, что даже не представляла себе, что на территории России, всего в нескольких часах езды от Петербурга с ней может случиться несчастье.
Анна вышла из повозки, чтобы оглядеться вокруг, и ее мгновенно закружил снежный вихрь. Уже через мгновение она не видела ни саней, ни кучера, ни деревьев рядом с дорогой. Она шла, сама не ведая куда, проваливаясь по колено в снег. Ей казалось, что она идет по направлению к саням, на самом деле она уходила от них все дальше и дальше. Борьба с ледяным ветром изнурила ее. Снежная пыль набивалась в глаза, в ноздри. Анне было трудно дышать, ей не хватало воздуха. Голова кружилась, она теряла равновесие. Снег становился все глубже. С трудом преодолев несколько обледенелых насыпей, Анна упала без сил в огромный снежный сугроб и потеряла сознание.
Когда Анна очнулась, было уже утро. Она лежала в незнакомом ей крестьянском доме на лавке, совершенно нагая, прикрытая лишь холщовой простыней. Рядом с ней хлопотала пожилая женщина в черном вдовьем платке и длинной овечьей телогрее навыворот, надетой поверх черного суконного опашня с длинным рядом пуговичек от самого ворота, покрашенных киноварью. В комнате пахло травами. Анна ощутила терпкий запах репейника, жимолости, еще каких-то растений.
– Сейчас натру тебя, болезная, сейчас, – приговаривала женщина. Она придвинула к Анне еще одну лавку, поменьше, застелила ее цветастым платком. Потом прошаркала лаптями, надетыми поверх толстых вязаных ноговиц, к печке, вытащила из нее чугунок и, перехватив цветастым вышитым полотенцем, поднесла его к Анне. Поставила чугунок на лавку, сняла крышку. Терпкий запах трав стал ощутимее. Женщина обмакнула полотенце в травяном настое, потрясла его, чтобы остудить, и, откинув простыню, принялась растирать настоем замерзшее тело Анны. Анна почувствовала, как почти сразу внутри у нее потеплело, судороги отступили, она расслабилась.
– Кто же ходит по лесам в такое-то ненастье, – упрекнула ее женщина, – ведь засыпать могло с головой. Так бы и замерзла, никто бы не нашел. Хорошо, поехала я поутру до деревни, увидала тебя. А я ведь не каждый день езжу. Вот как Господь надоумил, сподобил сегодня пораньше сдвинуться. Дай, думаю, отправлюсь к своячнице своей за моченой брусникой да клюквой к пирогу. А то ведь и отложить могла, почитай цельную неделю к ней собираюся…
– Так вы нашли меня в лесу? – Анна с трудом разомкнула губы, чтобы задать вопрос. Язык еще плохо слушался ее, зубы ломило от боли, а голос выходил хрипловатым. – Как же я оказалась в лесу? – недоуменно пожала она плечами.
– А мне ж откудова знать? – усмехнулась женщина беззубым ртом, – я уж вижу, что ты не из здешних. Если по одеже судить, то вовсе из богатых ты, из благородных, – она прицокнула языком, – только если не хочешь мне говорить, то и не говори, – она снова принялась растирать Анну настоем, – мое дело-то какое, вот поправлю тебя малость, а там ступай, куда знаешь.
– Скажите, а далеко ли я теперь от Сизовражья? – спросила Анна обеспокоенно.
– Да почитай верст с двадцать, если прямиком через лес идти, – ответила ей женщина. – А в обход все тридцать будет.
– А где же мои сани, мой багаж? – продолжала спрашивать Анна, и тревога ее нарастала. Она приподнялась на локте и смотрела на женщину сверкающими от внутреннего жара синими глазами.
– Сани? Багаж? – женщина пожала плечами. – Ничего не видела я. Об одеже своей не беспокойся, – быстро добавила она. – Я платье твое просушить положила на печку и шубку туда же. Ничего не пропало, вот высохнет, и наденешь все. А уж до багажа, милая, – она развела руками, – тут уж от кучера зависит. Ты на своих санях ехала али нанимала почтовые? – осведомилась она, отжимая полотенце на чугунком.
– Нанимала почтовые, – вздохнула Анна, прекрасно понимая, что осталась ни с чем.
– Ну, тогда пиши пропало, – заключила женщина, подтвердив ее догадку. – Кучер, как тебя потерял, небось и не охнул. Либо дальше поехал, либо вовсе назад вернулся, а то и сбежал быстренько. Вещиц-то много было при тебе?
– Да нет, один саквояж, – ответила Анна растерянно, – ценного особо ничего. Одежда, украшения. Ведь если на то пошло, то мне и за приют вам теперь заплатить нечем, – добавила она грустно. «Хорошо, что брошь графини Фосс положила не в саквояж, а на платье пристегнула, – похвалила она себя мысленно, но без особой радости. – Но ее в оплату не отдашь, и кольцо Жана тоже». Выходило, что только брошь да кольцо и остались у нее, а еще соболиное манто и крест с образком на шее.
– У меня есть иконка с изумрудами, – проговорила она и приложила руку к груди, показывая на крест святого Пантелеймона-целителя. – Изумрудов в ней с десяток. Так что вы не сомневайтесь, – убеждала она женщину. – Я оставлю его вам в оплату, хлеб даром есть не стану.
– Ух ты, честная какая! Да уж, разве можно божеским расплачиваться, – упрекнула ее женщина. – Ничего мне от тебя, девочка, не нужно. Оправишься, просохнешь, отвезу тебя до деревни, там, может, и о кучере своем что разузнаешь.
– А до Петербурга можно ли будет нанять лошадь? – спросила Анна. – Мне в Петербург нужно. Меня там папенька ждет. Он болен очень.
– Ну, люди добрые кругом найдутся, – покачала головой женщина. – Попросишь, так и свезут. Особливо, если оплату пообещаешь. А я уж старая, с меня проку в том не будет, – предупредила она. – Вижу плохо, глаза попортила от долгой работы, да от слез выплакала все. Сколь уж лет одна на белом свете маюсь, – женщина накрыла Анну простыней, сверху постелила тулуп, – и давно бы уж помереть пора, а все не идет смерть. Смеется надо мной люд честной. Пора уж тебе, Матрена, говорят, отправляться вслед за муженьком своим да сынами. Никому ты не нужна, даже Бог тебя не берет. А уж сколько годов прошло, я и со счета сбилась, как проводила Ивана своего на царскую службу. Осталась одна с тремя сынами малыми. Не вернулся ко мне Иван. Попал служить он на флот и в баталии какой-то с нехристями, с басурманами этими сгинул, – она всхлипнула и закрыла лицо краем черного платка. – Ушел на дно, даже и мертвого его не повидала я напоследок. Мне ж за него только рубль серебряный прислали, как бы за храбрость отблагодарить. А что мне рубль? Мужа не заменит, сынов – тоже. Только память о них. – Она замолчала, потом продолжила, голос ее дрожал: – Как надела я по Ивану черный платок, так уж и не снимаю с той поры. Я все царицу-матушку спросить желала, что же муж-то мой, коль храбрецом был, не заслужил большего, только рубль? Отчего после гибели его и сынов не пощадили, всех троих забрали в солдаты, как подросли. Я уж к губернатору ходила, в ноги падала. Супружницу его поджидала у театра во Пскове, ее молила пощадить меня, заступиться. «Хоть младшенького оставьте, на кого ж мне, сирой, опереться, – плакала перед ней на коленях. – Холостыми сыновья мои от меня уходят, внуков не оставили мне, родители уж давно в могиле. Куда податься? Как хозяйство вести». Никто не пожелал говорить со мной. Позвала губернаторша Салтыкова солдата, чтобы оттащил меня прочь от кареты. Так и ушли сынки мои один за другим. И все сгинули, – по морщинистой щеке женщины пробежала слеза. – Всех под басурмана положили. Так за них мне даже и рубля не прислали. А уж как местечки те, где сыновья мои лежат, прозываются, я не знаю, – она пожала плечами. – Все не нашенские какие-то названия, одно вроде Измаил. Это где младшенький погиб, а иные и еще раньше…
– Козлуджи, Фокшаны, Рымник, – произнесла Анна названия мест, у которых происходили сражения с турками.
– Да, вот верно ты сказала, как-то так оне и прозывались, – оживилась женщина. – Только мне ж вовек туда не добраться, чтоб на их могилки хоть одним глазом посмотреть. Осталась одна-одинешенька солдатка Матрена, людям на забаву, – она вздохнула, потом встала со скамьи и направилась в красный угол, где висели иконы, тускло освещенные лампадой. – Я тебе рубль серебряный сейчас покажу, – объяснила она. – Он единственное мое богатство и об сынках память. Помирать стану, попрошу, чтоб в гроб со мной положили.
Матрена покрестилась на икону, поклонилась, потом встала на цыпочки и сняла с образа потемневшую от времени монету, обвязанную красной ленточкой. Держа перед собой на ладони, как великую ценность, поднесла ее Анне. Взглянув на монету, Анна увидела изображение императрицы Екатерины Алексеевны, а внизу надпись по латыни – «Чесма». И год сражения – 1773. Больше тридцати лет назад.
– Так ваш супруг погиб под Чесмой? – Анна не на шутку разволновалась. Прижав тулуп к груди, она привстала на лавке и отбросила спутанные волосы с лица. – В сражении при Чесме? – переспросила она.
– Верно и так, – Матрена пожала плечами. – Я грамоте не обучена, читать не умею. Тута написано на монетке, где, мне так поп в церкви сказывал.
– При Чесме, – Анна покачала головой, – вот как бы подумать такое? Я тут у вас, а ваш муж был матросом при Чесме и погиб там?! – воскликнула она.
– Ну да, – Матрена в недоумении пожала плечами. – А что с того? – спросила она обеспокоенно. – Там что-то дурное было, при Чесме-то, что ж, не герой мой Иван? – теперь уж разволновалась она. – Ничего мне поп о том не говорил.
– Нет, нет, – поспешила успокоить ее Анна. – Все, кто дрались при Чесме, – герои, а кто погиб – вдвойне. Это было великое сражение. Только я еще не сказала вам, кто я такая, – она виновато улыбнулась. – Я Анна Орлова-Чесменская, дочь адмирала Алексея Орлова, который тогда командовал русской эскадрой. И папенька мой, который ждет меня в Петербурге, он и есть Алексей Орлов.
– Вот как! – женщина всплеснула руками, чесменский рубль выскользнул у нее и упал на пол. Наклонившись, она поспешно подняла его. – Дочка адмирала? Как же тебя занесло-то к нам? – она взяла огарок сальной свечки, горевший в медной подставке, и поднесла его ближе, чтобы рассмотреть Анну. – Верно говоришь, чудно, – согласилась она. – Сколько раз ходила я в церковь, ставила за упокой Ивановой души свечку, все просила, чтоб какую весточку подал мне ненаглядный мой, что, мол, помнит обо мне. Может, и заберет меня к себе, зажилась совсем, опостылело все мне на земле. А он все молчал. Даже во сне ни разочка мне не явился. Я уж думала, осерчал за что. А тут, на тебе. Ниспослал господь встречу, адмиральская дочка появилась. Мне теперь и помереть можно. Так и верю я, сам Иван тебя ко мне прислал. Вот для чего так долго он меня на земле держал, чтоб я дочери его адмирала помогла.
– Вы мне помогли, а я вам помогу, – Анна взяла из рук женщины Чесменскую монету и долго смотрела на нее. – Когда мой отец разгромил турок под Чесмой, – произнесла она задумчиво, – меня еще на свете не было. Что же вы Салтыковым кланялись, – бросила она на женщину взгляд. – Надо было адмирала Орлова просить о заступничестве. Батюшка мой многих матросов своих помнит поименно. Я помню, к нам в Кузьминки, имение под Москвой, приходили женщины, которые потеряли мужей и сыновей при Чесме, молили о помощи князя. Били их помещики, обирали шибко. Малолетних детей отбирали от матерей. Так князь Орлов никогда в стороне не оставался. За большие деньги выкупал такие семьи и селил у себя на землях, где уж им жилось добро.
– Знала бы, попросила бы попа написать князю челобитную, – вздохнула Матрена. – Так я даже и имени его не ведала. А кто ж подскажет мне? Я же в молодости, веришь ли, по деревне первой красавицей была. И Иван, завидный жених, мне достался. Собой красив, меня любил, не бил, ласкал только. Сколько баб мне завидовало. Так я думаю, навели они на меня порчу. А как разрушилась вся жизнь моя, обозвали невезухой и спровадили на отшиб деревни, чтоб глаза не мозолила.
– Кто же помещик здесь у вас? – спросила Анна, возвращая Чесменский рубль хозяйке.
– Бывший государев секунд-майор Полянский с супружницей, – ответила Матрена, вытирая платком влажные от слез щеки, – я в былые времена у него при доме убиралась. Так секунд-майор как напьется вина, все начинал приставать ко мне в сенях. Я же, как об Иване горькую весть получила, зареклась, ни на кого не взгляну, всю жизнь верность ему сохраню. Еще надеялась, что сыновья мне опорой станут. А секунд-майор отказа моего терпеть не стал. Приказал сечь немилосердно, вот оттого хромаю я теперь, что всю спину мне отбили на порке его. Знать уж не могу наверняка, – Матрена всхлипнула. – Куда мне, но чует мое сердце, постарался барин наш, чтоб моих сынов без разбора забирали. Ездил к Салтыкову, обозвал Ивана моего разбойником. Чего ж не наклевещешь, коли управы не боишься, – она вздохнула. – А от бабы слабосильной какая управа. Вот и погубил всех, а меня прогнал из дома. Теперь уж сам старый, как и я. Говорят, с постели не встает, всем его молодая женка правит. Да я уж ее не видала. Обо мне она не помнит, мне ж и легче.
– Не помнит, так вспомнит, – пообещала Анна, – как супружника вашего фамилия была? – спросила она у Матрены.
– Лопатин. Иван Ловатин, – ответила та настороженно. – Я, стало быть, Лопатина Матрена, Михайловна по батюшке.
– А если я вас, Матрена Михайловна, из здешних мест заберу и с собой в Петербург позову, поедете? – спросила Анна как можно мягче. – Или жаль оставлять родные места?
– Какие же они мне родные? – грустно улыбнулась Матрена. – Давно уж хуже вражьих стали. Только не поверю я, что охота вам, барыня, нянькаться со мной. Что вам до горя моего? Только одна забота лишняя. Посочувствовали – и на том спасибо. Да и не отпустит меня секунд-майор, а уж женка его молодая тем более. Хоть и старая я, проку с меня нет, а цену заломят, из вредности.
– Меня цена не пугает, – откликнулась Анна, – более того, я и долго разговаривать с ними не стану. Сколько за детей и стариков помещики просят, меня не проведешь. Отпишу полицмейстеру записку, чтоб не разыскивал, да заберу даром. Супротив князя Орлова полицмейстер не пойдет. А у меня в Петербурге для вас, Матрена Михайловна, дружок имеется, – добавила она загадочно. – Вы ж, наверное, желаете узнать, как погиб Иван ваш, каков он был на службе. Неужто не желаете? – спросила она лукаво.
– Больше всего иного желаю, – старуха даже привстала со скамьи. – Но кто ж мне расскажет?
– Камердинер моего отца Егор Кузьмич, – ответила Анна с улыбкой, – он на эскадре при папеньке посыльным служил. На всех кораблях бывал, всех матросов знал наперечет. Я уверена, что знает он и Ивана Лопатина. Вот расскажет вам, как они время коротали перед сражением.
– Анна Алексеевна, благодетельница моя, – старуха рухнула на колени перед Анной и прижала руку ее к губам. – Вот услышал господь мою молитву, прислал заступницу. Да я хоть босиком по снегу, на край света за тобой пойду…
– Ну для того нужды у нас не приспеет, – Анна ласково подняла ее и усадила рядом с собой, – вот просохнет одежда моя, так сразу отправлюсь я в деревню, поищу там добровольца, кто за меховое манто мое из соболя мне повозку с лошадью уступит, чтоб до Петербурга добраться. Поеду в вашем тулупе, Матрена Михайловна, уж не обессудьте, – усмехнулась она. – А пока собирайтесь вы. Долго ли собираться станете?
– В чем одета, в том и тронусь, – уверила ее старуха, – только скарб кое-какой возьму, да кошку Машку, если можно. А добро все свое оставлю своячнице. Одна она меня жалела, всем супротив, пусть даром и берет. Может, она взамен лошаденку и даст с санями крытыми. Хотя очень сумлеваюсь я, – Матрена покачала головой, – в крестьянской жизни лошаденка – первое богатство. А на моей лошадке далеко не уедешь, старая она да слепая, как и я. Да и сани развалюха, на них только дрова и возить.
– Так я же родственнице вашей манто оставлю, – напомнила Анна. – Она за такое манто себе трех лошадей купит, – и тут же спросила: – А что, сами Полянские далеко ли живут? Может, мне к ним нанести визит, у них экипаж получше найдется, да и о вас, Матрена Михайловна, сразу бы дело решили.
– Полянские далеко, – вздохнула старуха Лопатина, – мы у них самые отсталые, потому они про нас вспоминают, когда часть хлеба да сено надо им нести на двор. Верст с десять до их имения будет, дорога туда полевая летом ведет, а нынче и вовсе позаметало все.
Другие электронные книги автора Виктория Борисовна Дьякова
Госпожа камергер




 4.5
4.5
Доктор Смерть




 3.67
3.67