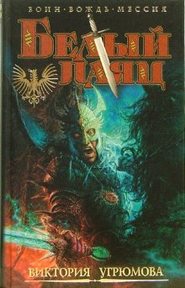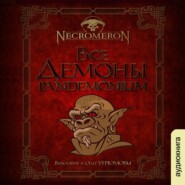По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мужчина ее мечты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конечно, она красавица. Невероятная красавица, и даже странно, что он только сейчас полностью это осознал. Ника относилась к редкому типу женщин, которые кажутся тем привлекательнее, чем дольше с ними знаком. Такие женщины не приедаются, не надоедают, но не перестают удивлять. И мужчины от них сходят с ума. Еще одним невероятным свойством подобного типа является то, что с годами они молодеют. Игорь разглядывал фотографии, сделанные не меньше восьми лет назад, и не мог не признать, что теперешняя Ника выглядит гораздо лучше, эффектнее и свежее. Будто живет в обратном направлении.
Ее окружали незаурядные люди.
Разумовский ласково провел ладонью по силуэту женщины. Теперь, имея в руках эти фотографии, зная одного из ее спутников достаточно хорошо, чтобы навести справки и об остальных, он должен был немедленно заняться этой работой. Но у Игоря рука не поднималась снять телефонную трубку. Что-то удерживало его от действий. Он подсознательно боялся узнать о Нике нечто такое, что не позволило бы ему испытывать к ней прежние чувства.
Он прекрасно понимал причины своей нерешительности и корил себя за малодушие и подозрительность. Разве он не говорил с Никой, не смотрел ей в глаза? Разве это не он с первого взгляда понял, что седой мужчина, которого велели отыскать клиенты, человек во всех отношениях достойный и порядочный?
И разве не являлся для него некогда мерилом всех лучших качеств тот, кто здесь, на снимке, обнимает Нику за плечи и смотрит на нее восторженными глазами?
Но никакие увещевания не действовали. Он просто не хотел знать. Разве не сказано, что «умножающий свои познания, умножает и свою скорбь»?
Словом, Игорь облегченно вздохнул, когда дверной звонок стал вызванивать «Хабанеру». Эта увертюра всегда предшествовала появлению Макса. И именно Макс был сейчас самым желанным гостем в этом доме и самым нужным собеседником. Потому что он являлся единственным человеком, на которого можно полностью положиться, с которым Разумовский мог говорить предельно откровенно и выложить все карты.
* * *
Макс накопал слишком много разрозненных сведений. Все они представлялись ему чрезвычайно важными, имеющими непосредственное отношение к той истории, которая закрутилась вокруг его лучшего друга, но связать их воедино у него не получалось. Целостная картина оставалась недоступной, а распадалась на десятки фрагментов. Но и фрагменты эти не могли оставить его равнодушным.
Слишком многое удивило и насторожило Макса, когда он внимательно вчитался в добытые бумаги и когда обнаружил, сколько бесценных материалов было уничтожено кем-то восемь лет назад. В интересующих его делах зияли огромные дыры; на многие запросы архив отвечал отказом, а документы, находящиеся в Москве, в большинстве своем также оказались недоступны. В некоторых папках откровенно не хватало страниц, и максимум, что можно в этой ситуации сделать, – это вынести выговор стрелочнику, то есть архивариусу.
Однако изъятые, уничтоженные, переписанные документы говорили ему о многом. Как в любом научном опыте отрицательный результат – это тоже результат.
Во многих отчетах на первый взгляд все нормально. И только Макс, исполненный решимости копать до конца, сумел обнаружить некие несоответствия. Может, он смог этого добиться, потому что оставался единственным живым свидетелем, единственным выжившим членом экспериментальной группы «Фудо-мёо» и последним из простых смертных, кто еще что-то помнил.
– Привет, полуночник, – широко улыбнулся Игорь, распахивая дверь.
– Привет, – ответил Макс, заходя в квартиру и предусмотрительно прислоняясь к стене.
Зевс радостно приветствовал его, встав на задние лапы и положив передние на плечи своего старинного приятеля. После обожаемого хозяина Макс был вторым по важности человеком в его жизни. Огромный пес нависал над старинным другом и облизывал его лицо длинным красным языком.
– Ну здравствуй, зверь, здравствуй, – рассмеялся Макс и обратился к Игорю: – Накормишь-напоишь?
– И спать уложу, – утешил Разумовский.
– Это вряд ли. Ни тебе, ни мне нынче ночью спать не придется.
– Многообещающе звучит, – сказал Игорь. И внезапно добавил: – Ты, Макс, даже представить себе не можешь, как вовремя ты пришел.
– Это за мной водится, – скромно потупился тот. – Чайник ставь на плиту и коньяк добывай из заначки. Будем много пить и много говорить. Ты, Игореш, наверное, станешь смеяться, но твоя история каким-то образом пересекается с делом «Фудо-мёо», а значит, и меня касается. Потому как на мне висит обязательство спросить кое с кого старинный должок. И это, может, моя единственная и последняя возможность узнать, что с нами на самом деле тогда случилось. Так что считай, я в работе.
Игорь слушал старого друга и не верил своим ушам.
* * *
Они с Максом были знакомы почти всю жизнь. Еще в третьем классе веселый кареглазый крепыш Одинцов – головная боль учителей младших классов – обстоятельно накидал по ушам Игореше Разумовскому. Но и тот в долгу не остался, и Макс недели две щеголял с существенным фингалом под правым глазом, после чего проникся к Игорю симпатией и предложил ему крепкую мужскую дружбу.
Крепкая мужская дружба в том же году была освящена одним побегом «в пираты» и двумя серьезными столкновениями с дворовой шпаной. И окончательно закалилась, как сталь, в кабинете разгневанного директора школы.
Несмотря на репутацию сорвиголов, занимались оба вовсе не плохо, и к десятому классу Разумовскому удалось даже заработать золотую медаль, что для него самого явилось неожиданностью и даже некоторым потрясением.
Макс же сказал, что подобных чудачеств не признает, и удовлетворился нормальным аттестатом без троек. Они пошли в армию в один и тот же год, и им посчастливилось служить в одной части, где друзья быстро навели порядок и установили свои правила. После армии оба поступили на юрфак МГУ, а вот дальше их пути разошлись.
Уже на третьем курсе способного и толкового студента Одинцова пригласили на собеседование к проректору, но самого проректора в кабинете не оказалось, а обнаружился там куратор из соответствующего ведомства, у которого были самые серьезные намерения. Как потом рассказывал Макс своему лучшему другу, кагэбист был такой торжественный, словно собирался на нем, Максе, жениться. Затем все случилось так стремительно, словно жизнь прокрутили как при ускоренной съемке: экстернат, окончание университета и первое задание, полученное на новой работе, важнее и достойнее которой – казалось тогда обоим – не сыскать. Спустя два года Максим Одинцов получил звание старшего лейтенанта и был назначен в экспериментальный отряд специального назначения с экзотическим названием «Фудо-мёо». За толкованием незнакомого словечка Макс обратился к Игорю, в то время буквально помешанному на Японии, и получил исчерпывающее объяснение. Фудо-мёо – это бог непоколебимости. Он воплощает идею вечного покоя и внутренней готовности к борьбе и является одним из самых почитаемых самураями богов.
Разумовского, конечно, заинтересовало, отчего это советские органы госбезопасности обратились к японской мифологии, однако долгое время Макс ему ничего вразумительного не отвечал. И уже много позже рассказал под большим секретом, что, пользуясь перестройкой и гласностью, для подготовки высококлассных бойцов инструктором по рукопашному бою пригласили взаправдашнего японца. И не простого японца, а потомка старинного самурайского рода, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Японец показывает такие приемчики, что уши – не то что волосы – дыбом становятся, и откалывает фокусы один похлеще другого. Ученики в нем души не чают.
Преподает он многим, но большую часть времени проводит с ними, бойцами отряда «Фудо-мёо»; и создается впечатление, что скоро им с другом придется на какое-то время расстаться. Потому что чем дальше, тем упорнее ходят слухи о возможной отправке в одну из горячих точек планеты.
Насчет отправки Макс как в воду глядел.
Он исчез почти на полтора года, и о нем ничего не было слышно. За это время успела умереть в Киеве его мать, и Игорь сам хоронил ее. Затем Разумовский вернулся в родной город и устроился на работу в МВД. Он уже мысленно попрощался с другом и смирился с его гибелью в каком-то чужом и далеком краю (а сплошные газетные публикации со скандальными фактами и разоблачениями только укрепляли его в этом мнении), когда ему позвонили.
Макса он нашел в подмосковной ведомственной больнице. Худущий как смерть, старый друг лежал в отдельной палате, весь опутанный проводами, словно змеями. Бесконечные аппараты поддерживали его жизнь. Он был желтый, восковой, с полупрозрачной кожей. Милая очкастая докторица, волнуясь, сказала Игорю, что друг его очень плох, но все-таки возникла надежда. Макс ведь долгое время вообще ничего не мог вспомнить – лежал истукан истуканом. И вдруг отчетливо и внятно выговорил телефон, попросил, чтобы позвонили его лучшему другу. И в этом она, как лечащий врач больного, видит огромный прогресс и свет в конце тоннеля. Ведь до сих пор Одинцова навещали только сотрудники, а они потеряли всякий интерес к нему, когда выяснилось, что у больного частичная амнезия. Уход здесь, конечно, хороший, но ничто не заменит любовь и поддержку близких людей. Игорь провел у постели друга несколько месяцев. Взял оптом все неиспользованные отпуска, потом – за свой счет. И даже диссертацию дописывал на коленях, сидя рядом с Максом. Такое не забывается.
И когда Максим Одинцов выздоровел и вернулся на работу, его направили на Украину с повышением по службе, присовокупив звание майора и боевой орден. К тому времени они с Игорем стали самыми дорогими и близкими друг другу людьми. За последние несколько лет оба успели неудачно жениться и с облегчением развестись; Разумовский обзавелся собственным детективным агентством и Зевсом, а Макс – многими недостающими воспоминаниями и чином подполковника СБУ. В их жизни случалось всякое, но отношения если и менялись, то исключительно к лучшему.
Была у них только одна запретная тема: никогда Игорь не спрашивал, а Макс по собственному почину не рассказывал, что же привело его на больничную койку, что сделало инвалидом и вызвало частичную потерю памяти.
Разумовскому было не важно, куда отправили группу «Фудо-мёо» и какое задание она должна была выполнить. Совершенно ясным представлялось, что Макс выжил чудом. О том времени почти что и не говорили по молчаливому соглашению обеих сторон. Изредка, правда, с восторгом и невероятным почтением вспоминали они инструктора-японца. Поинтересоваться его судьбой по официальным каналам было невозможно, потому что Макс не имел допуска такого уровня. Во всяком случае, о японце инструкторе никто из нынешних сотрудников не слышал, и друзья решили, что тот просто вернулся на родину, вдоволь нахлебавшись российской экзотики. Ничего удивительного в том никто не усмотрел.
Однажды подполковник Одинцов обронил странную фразу о том, что состав сотрудников в нескольких отделах, где ему приходилось работать прежде, поменялся настолько, что абсолютно не с кем словом перемолвиться о прежних временах, и события пяти – восьмилетней давности отошли в область преданий и легенд. Даже не у кого узнать, забрал ли иэмото (учитель) с собой в Японию свою женщину. Он порывался разыскать учителя, благо теперь это не считалось преступлением, но его попытка не увенчалась успехом. Обращаться же в детективное агентство в самой Японии слишком накладно – украинские спецслужбы не платят своим агентам так, как западные…
– Чайник, говорю, ставь, – потребовал Макс, заходя на кухню.
Тут взгляд его упал на разложенные пасьянсом снимки, и он тяжело привалился к подоконнику.
– Откуда это у тебя? – И голос его был бесцветный и сухой, как когда-то в больнице.
* * *
На второй год обучения произошли одновременно несколько событий, потрясших все основы нашего бытия.
Во-первых и главных, отменили коммунистическую партию.
Для Жоржа это стало ударом ниже пояса – я ведь уже упоминала о том, как истово и преданно он служил советской власти, как грезил тем, что когда-нибудь очередное поколение советских людей станет жить при коммунизме. Он отчаянно делал вид, что ничего особенного не происходит, и только с головой уходил в работу, стараясь успеть одновременно всюду, что, следует признать, выходило у него только наполовину. Я имею в виду, что простой человек не мог выкладываться так, как Жорж, но быть одновременно в нескольких местах у него не получалось, хотя, видит бог, к чему-то подобному он и стремился. А значительная часть его коллег вовсю пользовалась начавшейся неразберихой.
В «конторе» работали разные товарищи: и такие одержимые, как Георгий Александрович, и немного авантюристы в душе, и карьеристы, и бог знает кто еще, но дураков в процентном отношении выходило очень мало. Заведение было не то, и недалекие люди в нем надолго не задерживались, – вот уж где естественный отбор порадовал бы даже придирчивого Дарвина.
Словом, растерялись немногие. Перед большинством людей, облеченных такой властью, какую давали высокие посты в нашем ведомстве, открывались невероятные перспективы. Деньги текли в карманы сами – нужно было только чуть-чуть подсуетиться. И суетились. И даже не чуть-чуть, а вертелись, как вьюн на сковородке, и обеспечивали себе достойную старость, до которой многим оставалось еще ох как далеко. В этой ситуации подобные Жоржу стали неугодны. Они слишком много знали, слишком много могли, но не желали участвовать в начавшемся балагане, более того, еще и других пытались остановить. Бедняги, они не желали понимать, что старый мир рушится, что его гибель уже не остановить – это очередной колосс на глиняных ногах с грохотом разваливается на части. Это страшно, и дико, и невыносимо, но неизбежно, а неизбежное следует переживать, а не подставлять плечи под падающее небо. Потому что мир помнит историю о том, как Геракл пытался удержать небесный свод, – это не под силу даже величайшему, даже полубогу.
А Жорж и иже с ним всего только люди. На него было больно смотреть. Он пытался преградить путь всесокрушающей машине – былинка, вырастающая перед танком, чтобы остановить его. И становилось ясно, что гусеницы раздавят, сомнут, сотрут в порошок, и я шептала об этом каждую ночь, плакала, просила и даже встала однажды на колени. Но Жорж только пугался моих слез. И я поняла, что старую собаку новым штукам не научишь. И смирилась.
А сейчас думаю, что кривлю душой, рассуждая подобным образом. Да, не мог Жорж воспрепятствовать тому, что можно без преувеличений назвать разбоем: слишком уж яростно делили власть и деньги все, кому было не лень, в то смутное время. Но если бы не такие, как он, все закончилось бы значительно хуже. И дело не в той идее, которая для меня лично неприемлема, – дело в порядочности и принципах. Мудрые китайцы говорили, что если хороший человек защищает плохое дело, то оно становится хорошим. А если плохой человек отстаивает хорошее дело, то дело становится плохим. В этом утверждении есть большая доля условности и еще большая доля истины. Может, Гераклу и не под силу удерживать на себе небеса, но земля наверняка держится на плечах порядочных и кристально честных людей.
* * *
Жоржа стали посылать в командировки все чаще. До некоторой степени это противоречило неписаным правилам: человек его положения да и возраста редко принимал участие в операциях лично. Обычно такие кадры берегли как зеницу ока, но теперь все переменилось. Его слишком сильно боялись и уважали, им восхищались, а потому и ненависть к нему была такой же сильной.
Я думаю, как ему жилось, каждый день ожидая пули в спину, ножа в сердце, а то и чего-нибудь похитрее, вроде микроскопической дозы вещества в обязательный утренний кофе, после которого случается инфаркт – событие печальное, но совсем не удивительное, если принять во внимание годы больного и его напряженную работу. И я никогда не могла и уже не смогу винить Жоржа за то, что он так охотно выезжал за пределы страны. Это давало ему не только и не столько иллюзию безопасности – не так уж он был наивен, и сам не раз проводил операции по ликвидации проштрафившихся сотрудников, – сколько утверждало в мысли, что он все еще нужен Родине. Он работал на износ. А Родина тем временем разваливалась на запчасти, и население то радовалось, то печалилось, но в любом случае пребывало в замешательстве.