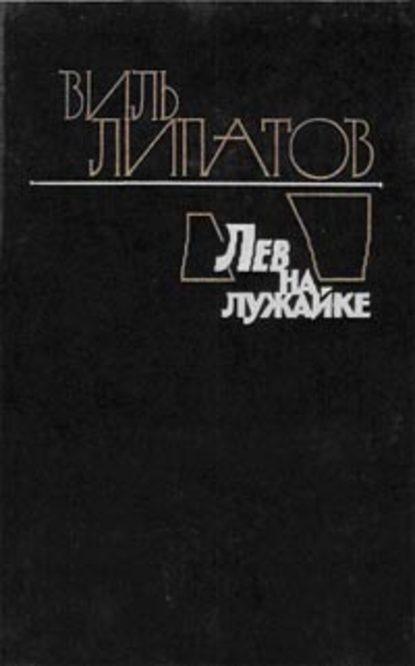По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лев на лужайке
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Боб Гришков ответил:
– Витька Калинченко, актер… Славный парень.
– Талантливый?
– Очень. Готовит царя Федора. Я видел куски – ах!
Никита Ваганов увлеченно сказал:
– А нельзя соединиться с этим Калинченко! Вот было бы весело.
Боб Гришков сказал:
– Запросто! Витька будет рад с тобой познакомиться, Никита. Он как-то даже просил об этом. И знаешь почему?
Никита Ваганов шутливо надулся и пробасил:
– Кому не лестно познакомиться с гением.
– Примерно правильно. Но дело проще. Витьке нужна союзная слава, и он ее достоин, можешь поверить толстому Бобу Гришкову. А ведь тебя охотно печатает «Заря», и ты шурупишь в драме. Приглядись, Никита, к нему. Лежит хороший очерк… Так я позову его?
– Ой, Бобище, позови! – Никита Ваганов тряхнул головой. – А может быть, я действительно пьян? Мы по скольку выпили? Уже по три стакана? Гм! Ах, где наша не пропадала! Где наше не про-па-да-л-о-о-о! Петь хочется…
Драматический актер Виктор Калинченко был длиннолиц и бледнолик; брови у него были украинские – черные, пышные, изогнутые; подбородок – от лучшего киноковбоя. Он был здорово пьян, но все необходимое проделал с грацией и пониманием того, что делает; обменялся рукопожатием с Никитой Вагановым, похвалил его именно за те два материала, за которые следовало хвалить, встал на нужное место и стакан взял со стола не только верным, но изящным движением. Прежде чем выпить, он пропел: «Две холодных звезды – голубых моих судьбы». Когда выпили по очередному стакану, Боб Гришков спросил:
– Когда показываешь царя, Витька? Учти, придем всем гамузом.
Калинченко ответил:
– Через пять дней. – Он закрыл глаза. – Знаете, что я понял?.. Что царь Федор понял… Самое страшное – ханжество! – Открыв глаза, он больно стиснул кисть вагановской руки. – Дайте мне слово не быть ханжой! Обещаете? Тогда я вам процитирую Евангелие от Луки… «Когда ж услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь… Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную…» Да что Лука? Вся Библия пронизана ханжеством…
Витька Калинченко понравился Никите Ваганову, здорово понравился: типичная актерская внешность, прекрасный голос и еще то, что могло пригодиться именно для царя Федора – нервная энергия, сложность, способность к сосредоточению. Все, кажется, было у этого человека для роли царя Федора, и Никита Ваганов подумал, что, может быть, удача сама плывет в руки. Очень неплохо выступить в «Заре» в роли театрального критика, да и «Заре», наверное, нужна театральная рецензия из обычной области. Не все же писать о столице.
– Я сегодня певчая птичка, – сказал актер Калинченко. – С утра привязались мотивы Окуджавы, и я, честное слово, лопну, если не выпоюсь. – И он запел, на этот раз негромко, из уважения к трем журналистам. – «За что ж вы Ваньку-то Морозова…»
Это было только начало, старт, затем четверо переберутся в грязную и тесную комнату Калинченко, притащат с собой вино и бутылку водки, из которой Никита Ваганов не отопьет и грамма. С него хватило и вина, как выяснится очень скоро. Через пять минут после вселения в комнатушку актера Калинченко произошло неожиданное – уснул мертвым сном виновник торжества Борис Ганин. Сел за стол, с размаху, один, выпил стопку водки, покачнулся, повалился на замызганную кровать и уснул, так сказать, отпал.
– Пусть, пусть! – актер негромко настраивал гитару. – Я его знаю: через полчасика вернется в строй.
Актер демонстрировал чудеса. К их высокому столику он подошел прилично пьяным, выпил два стакана вина, потом еще один – уже перед выходом из погребка – и отрезвел так, что сейчас он оказался самым трезвым в компании, где один из бойцов уже вышел из строя. Настраивая гитару, он задумчиво глядел в темный угол комнатушки, ухо наклонил к гитаре, и брови у него были сладострастно-трагическими: таким бывает лицо у всех гитаристов, настраивающих свой инструмент. Он взял звучный аккорд и начал смотреть в переносицу Никиты Ваганова. Конечно, он это делал не потому, что хотел подладиться под него, платил за будущую хвалебную рецензию, но весь вечер он пел только для Никиты Ваганова и для одного Никиты Ваганова. Может быть, это объяснялось просто: песни Окуджавы он двум Борисам пел давно и часто.
– Спеть, что ли, Таганку? – сам себя спросил Калинченко, уже напевший десяток песен. – Мне нравится мотив, хотя песенка проста, как гвоздь. – Он закрыл глаза, закрыл красивые глаза красными от усталости веками. – Проста, как гвоздь, понимаете ли, товарищ Ваганов?
Борис Ганин безмятежно спал, Боб Гришков допивал и доедал, ненасытный зверюга, за окнами комнатушки неустанно скрежетали трамваи, совершая в этом месте крутой поворот. Спать, читать, думать, просто жить в этой комнате живому человеку было невозможно, и только, наверное, актер, пребывающий вне дома круглыми сутками, мог селиться в квадратном чулане, именуемом комнатой. А ведь, как случайно выяснилось, три месяца назад здесь жили трое – еще жена и ребенок Виктора Калинченко. Жена, конечно, не выдержала, убежала, и убежала не от Виктора, а от актеров и актерства.
– Не буду я петь Таганку! – внезапно ожесточенно прохрипел актер. – Не буду петь вообще! Хочу на воздух, хочу смотреть, как провожают пароходы. Друзья, уйдем отсюда, уйдем отсюда, друзья!
Боб Гришков, икая и покачиваясь, ответил:
– Хорошо! Пойдем смотреть, как провожают пароходы. Водку и вино берем с собой. Эй, ваше скотство, проснитесь! Борька, дело кончится холодной водой. Ты слышишь меня? Я не шучу! Идиот несчастный!
Борис Ганин спал, Боб Гришков мог легко отказаться от выхода из комнаты актера, Никита Ваганов не хотел смотреть, «как провожают пароходы». Короче, не надо было выходить из дома, но не волшебник же Никита Ваганов, не маг, чтобы предвидеть результат прогулки на пристань для наблюдения за тем, «как провожают пароходы». Однако дело кончилось большой или малой – как расценить? – неприятностью для Никиты Ваганова, который к моменту выхода был не пьян, но и не трезв, а только чувствовал громадную усталость. Самым трезвым в их компании по-прежнему был больше всех пивший драматический актер Виктор Калинченко, о котором Никита Ваганов, когда конфликт приглушится, напишет хорошую рецензию для газеты «Заря»… Прелюбопытнейшего царя Федора сыграет актер Калинченко – мудрого, сильного в своей слабости человека, прозревшего до ясновидения. С рецензии в газете «Заря» начнется работа Виктора Калинченко в одном из московских театров, в кино и на телевидении… А сейчас они вышли из дома, по переулку пошли в сторону зарева, что полыхало над Сибирской пристанью. Сначала шли молча, поддерживая приходящего в себя от свежего воздуха Бориса Ганина, потом, когда он пошел относительно твердо, двигались по отдельности и посередине переулка. Актер Калинченко другим, не гитарным голосом запел: «Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он…» И пел он прекрасно, Виктор Калинченко на самом деле был хорошим актером и – это скоро выяснится! – хорошим человеком, а вот Никита Ваганов проявит себя гнусно и будет всю жизнь вспоминать переулок и песню «Вечерний звон», ставшую для него навсегда частью этого переулка.
Неотвратимое приближалось. Старинный романс на стихи Козлова теперь пели все четверо. Боб Гришков вторил актеру прекрасным верным басом, Борис Ганин старательно подпевал, Никита Ваганов мычал и даже – пьяная скотина! – изображал колокольный звон, впрочем, весьма похоже. Они не заметили, как сзади подкатил милицейский «газик» ночной патрульной службы и, опередив их, остановился. Из машины выпрыгнули сразу трое, причем так ловко и согласованно, точно были на одной пружинке, пошли – нет, стали ждать!.. Никита Ваганов действовал автоматически, видит бог, он не хотел делать того, что сделал, не обдумывал свой поступок заранее, но он действовал на диво осмысленно, логично и последовательно. Никита Ваганов, только что изображающий звон колоколов, выпрямился, заложив руки за спину, задрал подбородок, перестал мгновенно качаться, перестал на несколько секунд вообще быть пьяным и похожим на тех троих, с которыми пил водку и пел песни. Чуждый происходящему, важный, начальственный, суровый, он прошел, точно нож масло, приятелей и троих из патрульной службы, причем милиционеры поспешно раздвинулись, чтобы открыть путь такому значительному, явно неподсудному человеку, как Никита Ваганов, не имеющему – это было очевидно милиционерам! – никакого отношения к людям, в двенадцатом часу ночи нарушающим покой означенного переулка и всего города. Никита Ваганов услышал, как за его спиной пророкотал голос начальника патруля:
– Будем садиться, граждане!
Никита Ваганов улыбнулся, и вот эту улыбку, эту проклятую улыбку пьяного, но ловкого предателя, он запомнит на всю жизнь…
… На синтетическом ковре в ожидании приговора он ярко вспомнит и об этом переулке, милицейском патруле, который он разрезал, как нож масло, чтобы остаться беспорочным, как папа римский. Привода в милицию – этого еще не хватало тому Никите Ваганову, каким он уже становился и хотел стать завтра, но ему дорого обойдется финт в переулке: почти всю жизнь время от времени будет лишать его душевного комфорта… Самое забавное, что история в переулке кончилась не только благополучно, но и смешно. Схваченные патрулем, трое не стали оправдываться и уверять, что «это в первый раз», охотно согласились пойти в милицию, но старший патруля узнает актера Виктора Калинченко, расплывется в благодарственной улыбке, спросит: «Вы играли сержанта милиции? Хорошо играли, а вот безобразите, товарищ Калинченко! Стыдно! Нехорошо! Сидели бы себе дома!» И добавит вдруг: «А хорошо пели, душевно!»
II
Дома Никита Ваганов камнем повалится в постель и мертвенно заснет, устав от всего: вина, людей, песен. Он проснется, вспомнит вчерашнее, ничего грешного в своих делах пока не найдет, так как из воспоминаний о вчерашнем вообще улетучился эпизод с милицией. О предательстве ему напомнит телефонный звонок Бориса Ганина – самого крупного максималиста: «А ты ведь подлец, голубчик». Весть распространится с телефонной скоростью… Окажется, что патруль все-таки узнает, кого пропустил сквозь себя, как нож сквозь масло, потешаясь, расскажет приятелям – и пошло-поехало! За утренним кофе Боб Гришков расскажет о случившемся родной жене Рите, та расскажет жене мистера Левэна – и пошло-поехало!
После звонка Бориса Ганина в спальню вошла Ника, горько сказала:
– Ах, как это гадко, Никита! Как ты мог это сделать, Никита? Зачем? Как стыдно! Как стыдно!
Он хрипло – вчерашняя выпивка – ответил:
– Я сам не представляю, как это произошло…
– Ну, как ты мог, как ты мог?! Не дай бог, узнает папа! Не дай бог!.. – Она чуть ли не плакала. – В моей школе об этом знают уже три человека, самых грязных и отвратительных сплетника. Разве ты не понимаешь, Никита, что ты на виду, за тобой следят, тебе завидуют. Как ты мог, как ты мог?
Он вспомнил все, до малейшей подробности: как заложил руки за спину, как задрал подбородок, как приобрел осанку и походку сверхважного начальстве, как гордо посверкивали его властные карающие очки… Он сказал:
– Слушай, Ника, я был предельно пьян. Тебе не приходит в голову, что я не владел собой?..
И сам понял, как смешон и гадок! Предал товарищей, предал себя, предал все и вся – вот ведь что произошло, гражданин Никита Борисович Ваганов, в переулке.
– Я растеряна, Никита, я просто растеряна. Я не знаю, что делать.
Он ответил:
– Работать. Идти на очередной урок, а дело с переулком… Я заглажу вину, Ника.
– Ты понимаешь, что виноват, да, Никита?
– Я не кретин! До вечера!
Никита Ваганов в который уж раз вспомнил Москву, длинную Первомайскую улицу, по которой до сих пор ходит трамвай. Моросил холодный дождь, асфальт был скользок, точно его намылили, грязь и смрад царили на земле, смрад и грязь; мокрые вороны, серые от грязи автомобили, мокрые и злые люди, шум и треск, крики и вопли, звонки и сирены, черные деревья, серые дома-башни. Старушка с короткой вуалеткой на шляпке, старушка в черных перчатках и с черным зонтиком, старушка, похожая на давно потерявшую голос опереточную актрису, старушка с напудренным носиком бежала к трамваю с еще открытыми дверями, стоящему возле красного светофора; бежала она, мелко-мелко передвигая ногами, наклонившись вперед, так как давно не могла разогнуться, бежала изо всех старушечьих сил, задыхаясь, жадно ловя воздух маленьким, но широко открытым ртом. Сквозь стекло на старушку ясно и внимательно смотрела девчонка в берете, водитель трамвая, девчонка с розовым лицом поросенка – детской копилки для медных монет… И вот двери трамвая со скрипом пришли в движение, поползли друг к другу, чтобы закрыться. Старушка закричала, споткнулась и упала на мокрый и скользкий асфальт…
– Фу ты, черт! – выругался Никита Ваганов, редко доводивший до конца воспоминания об упавшей на мокрый асфальт старушке. – А ведь дела-то… Ля-ля-ля и ля-ля-ля!
Он возьмет себя в руки, почистит зубы и примет ледяной душ, зверски разотрется полотенцем, выпьет подряд два больших стакана кофе, хорошо просветлившего больную с похмелья голову. Ах, возьми тебя черт, Борис Ганин, с твоим очерком о хорошем директоре. Идиот и дурак! Безвольная и глупая скотина этот Ваганов: за один только вечер растеряно все то, что нарабатывалось годами, месяцами, днями, часами кропотливой, деятельной, напряженной и бессонной жизни. А еще… Перед тем как бросить трубку, Борис Ганин гадливо проговорил: «Так вот что скрывается за очками!»
– Мне нельзя пить! – вслух сказал Никита Ваганов, и вот с этой минуты и до конца дней своих не возьмет в рот спиртного, не выпьет ни капли алкоголя.