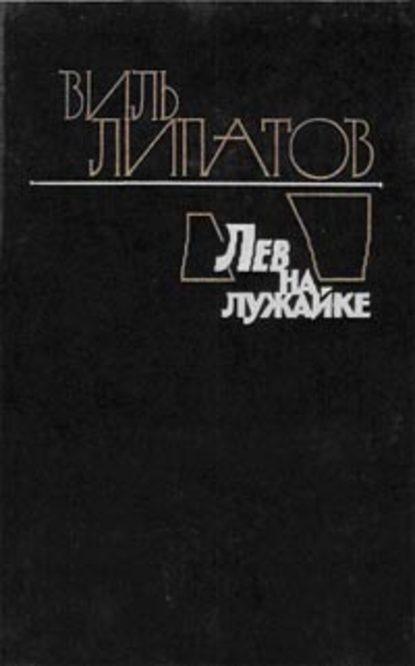По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лев на лужайке
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, рассказывай же, Ника!
Думаю, что если бы я даже побил Нельку, она не перестала бы называть меня Никой, именем моей жены. Ника – это была насмешка и месть за мою женитьбу на Астанговой, хотя Нелька не бросила перспективного «господина ученого профессора» ради того, чтобы выйти за «игрока» Никиту Ваганова. Противная баба, если говорить честно и откровенно. Но я ее люблю, мне она всегда желанна, мне с ней никогда не было скучно, хотя умной, по-настоящему умной Нелли Озерову назвать было нельзя. Женский, житейский, обиходный – таким умом обладала моя Нелька. Если бы мы с ней поженились, стали бы жить в одном доме, видаться ежедневно, спать в одной комнате, есть всегда за одним столом – прошла бы любовь или не прошла? Кто знает, кто знает! По примитивному счету, по мысли первого, поверхностного порядка, наша любовь длиною в жизнь тем и объясняется, что мы не стали мужем и женой, оставаясь всегда и товарищами, и любовниками, но, повторяю, это действительно мысль поверхностного, приблизительного мышления.
– Рассказывать можно в двух словах, а можно и длинно, – сказал я. – Какой вариант подходит?
– Средний. Не ерничай, пожалуйста, Никита. Ей-богу, не люблю!
Она понимала, почему я ерничаю, осознавала характер и качество моего всегдашнего ерничания и гордилась тем, что в отношениях с нею я ерничаю предельно мало. Да, я принимал ее всерьез, эту маленькую, красивенькую Нелли Озерову. Я начал рассказывать о Мазгареве – пять минут, потом перешел на Пермитина, одновременно с рассказом я думал, сравнивал, принимал и отрицал. Нелька слушала по-своему: обмасливала, обкатывала, делила и множила, складывала и отнимала, лелеяла и секла, извлекала корни и брала логарифмы, а сама готовила роскошный обед. Я был голоден. Она тоже.
Когда же я добрался до комбината «Сибирсклес» и стал рассказывать о разговоре с Пермитиным, она стала ходить на цыпочках, чтобы ничего не упустить.
– Понимаешь, Пермитин мне не показался убитым горем человеком, – говорил я. – Это чудовище так глупо, что еще не понимает: капец! Мамонты тоже не понимали, что вымирают. Он, представь, считает газету виноватой перед ним и, похоже, ждет опровержения…
Нелька, ощутив, что пауза неспроста, сказала:
– Не вздумай только сейчас меня хватать. Буду царапаться.
– И не думаю.
– Вижу, вижу, как ты не думаешь! Губы трясутся… Не вздумай до обеда, слышишь? Ниа-а-а-кита, не смей! Ниа-ки-та!
– Не боись! – снисходительно произнес я. – Успеешь набить брюхо. Что позавчера болтала? И откуда взяла, что я могу быть подхалимом при Одинцове. Вольф Мессинг! Ей-богу, не люблю, когда ты пре-дви-дишь!
Вот какое влияние на Никиту Ваганова имеет Нелли Озерова – любовница и друг. Никто другой в жизни меня не посмел бы схватить за уши, кроме нее, маленькой и умной зверушки. Вот! Нашел… Она всегда походила на зверушку, думаю, на ласку, ласку со сладострастно извивающейся спиной, поблескивающей и роскошной, и зубы у нее тоже были маленькие и острые, как у ласки.
– Что дальше, милый? Не надо делать больших перерывов, я теряю видение.
– Дальше ничего не было! – вконец обиделся я и соврал. – Сложил документы в коричневую папку и, как ты советуешь, передал их Тимошину.
– Умочка-разумочка! – обрадовалась Нелли и сказала, что через минуту будет готов обед: выходит, я долго рассказывал, здорово долго, но за оставшуюся минуту Нелька сказала нужные слова:
– Все хорошо и правильно, Никита! Только не бери в голову, что уже подхалимничаешь или собираешься подхалимничать перед Одинцовым. С тебя может статься, этакий ты самокопатель! – Она громко засмеялась. – Тьфу! Такой большой и красивый, и такой глу-у-пый! Правда, за это я тебя люблю.
Тьфу! Маленькая, а такая умная… Я лег на спину, стал глядеть в потолок, весь – от пятки до горла – зашнурованный, кусающий губы, чтобы не расхохотаться. И откуда она взяла, что я боюсь быть подхалимом при Одинцове! Мы будем друзьями. И почему она, почти всегда читающая мои мысли, поверила, что документы и статью об утопе я могу подарить Егору Тимошину?
Туфли на высоких каблуках, короткое платьице, надеваемое только для меня, на юбке фартук с веселым зайцем… Нелька присела на край дивана, на котором обычно спал «господин научный профессор», пахнущая тмином, ласково и длинно посмотрела мне в глаза, потом сказала:
– На твоем месте, Ваганов, я бы чувствовала себя героиней. Неужели не понятно? – Она странно улыбнулась. – Область обворовывал невежественный и тщеславный человек, ты об этом узнал, как журналист и гражданин передал материалы другому журналисту, более сейчас могущественному, чем Ваганов. – Она нежно поцеловала меня, взяв за уши и приблизив к себе. – Милый, смешной дуралей… Ты порядочный человек, Никита!
В этом я сомневаюсь!
– Кому нужны твои комплименты, Нелька? – рассердился я. – И оставь эту манеру – хватать меня за уши.
– Я тебе сделала больно, милый?
– Этого еще недоставало!
– Тогда все о’кэй, милый! Я всегда буду хва-та-ть тебя за уши!
Много было на чаше весов моей Нелли Озеровой, но это вовсе не значило, что я должен был пустить ее в святая святых. Когда Нелли Озеровой показалось, что никаких загадок – я все шучу, я все шучу! – в высоколобном Никите Ваганове для нее не осталось, она уютно повела плечами: «Мы сделали свое дело, пусть другой сделает лучше…» Я спросил:
– На инструментальный не поедешь?
– Нет!
– А как же без курева? Сбесишься.
Собственно говоря, я давно был рабом этой маленькой и волевой женщины, не было области – от постели до оценки нового кинофильма, – где бы я значил больше, и только, пожалуй, газетные полосы «Знамени» и «Зари» предоставлялись в мое полное распоряжение, но вот и этой вольнице, как ей казалось, наступал конец.
Незаметно для меня она оказалась в кокетливом халатике, подумав, сняла и его, аккуратно повесила на спинку стула. Колени у нее были загорелые и круглые.
– Блажишь, Нелька! Сама велела не рыпаться до обеда…
– Подвинься и немножко помолчи!
От диктатора пахло нежными духами, диктатор был синеглаз и нежнокож, диктатор был таким родным и близким, что просилось на губы слово: «Ма-ма!»… Много лет спустя жизнь закроет истинные события прошлого туманом забытья, события смешаются и перекрестятся в такой причудливости, с которой они уже перепутываются под моим пером, и останется в памяти лишь сам главный миг главного события, но и то: «Было вот так!» или «Нет, было не так!».
– Подвинься и немножко помолчи!
– Но я же не остановлюсь!
«Умираю без курева!» – было написано на всем ее облике. – «Полцарства за одну затяжку!» Казалось, найдись сейчас сигарета, Нелька изречет истины первой величины или откроет новую планету, но курева не было, и она маялась, точно от головной боли, – никто не предполагал, что внешне уравновешенная и благоразумная Нелли такая заядлая курильщица и так полно может отдаваться мелочной страсти.
– Дай слово, что не будешь перебивать меня! – страстно проговорила Нелька. – Будешь молчать, что бы я ни говорила.
Такой серьезной, напряженной, думающей я ее никогда не видел. Ну, хмурились брови и стискивались зубки, когда я поступал по-своему, сжимались кулачки, если я халтурно писал за Нелли Озерову материал, наконец, появлялись стеариновые слезы, если я нечаянно обижал подругу, но вот такого… Закованный в стальные латы рыцарь-подросток был передо мной, пошевеливал смертоносным копьем, грозно сверкал шишаком шлема… Нелька сказала:
– Перестань жалеть коричневую папку… Не надо тебе выступать в «Заре» со статьей об утопе. – И немножко помолчала. – Час твоих серьезных критических статей еще придет… Я же просила не перебивать меня. Я раньше всех пронюхала об этой афере с утопом и, знаешь, чем занималась? – Нелька сквозь сталь доспехов улыбнулась. – Старалась скрыть от тебя случившееся… Мне было известно, что Кузичев ополчился на Пермитина, и я еще больше трусила, что в эту историю втянут тебя.
Она сжала кулаки.
– Я беспросветно тщеславна, Никита! Мне плевать, кем станет мой благоверный муж, но я зачахну от тоски, если ты ничего не добьешься в жизни. Ты – мой муж, хоть это-то тебе понятно?
Сентиментальность, отсутствием которой я гордился, плавно покачивала меня; произошла странная аберрация: слова Нельки о том, что мне не надо писать статью об утопе, ушли за горизонт, а наглое в общем-то: «Ты – мой муж!» – рассиялось вполнеба; хотелось забыть об этом чертовом утопе леса, свернуться под одеялом калачиком, ждать, когда приснится зайчишка в клетчатых штанишках – позади пушистый белый хвост.
Нелька, рыцарь-подросток, продолжала:
– Я тебе не позволю сунуть голову в петлю… Кому пришло в голову, что по утопу в «Заре» должен выступать ты, а не собственный корреспондент «Зари» Егор Тимошин? Хотела бы я знать точно, кто решил подставить именно тебя…
– Ты совсем осатанела! Я не буду писать статью…
Это мной по-прежнему двигало желание свернуться клубочком под одеялом; сказать: «Ма-а-ма!» и теперь – уже по собственной воле и желанию – не перебивать маленького рыцаря, а только слушать и слушать его речи, полные правды и только правды, любви и только любви. «Где ты, Никита Ваганов, где ты, родимый?» Не было Никиты Ваганова! Такой растворенности в чужой воле я никогда не испытывал. Лежи, не шевелись, думай, принимай решение вблизи рыцаря, превратившегося в ласку, полную голубого в полумраке электричества. «Западня!» – нежно и ласково думал я, на самом деле сворачиваясь калачиком под одеялом. Пахло зимними каникулами и прудом, заиндевевшими на морозе шнурками от ботинок, коньками. Нелька сказала в потолок:
– Егор Тимошин много опытнее тебя. Вот ты подтруниваешь над его системой фактов и фактиков, а для статьи по утопу годится только эта система. – Она осторожно зевнула. – Твое стремление к обобщающей эмоциональной критике… фу, какое недоразумение для статьи по утопу! – Она фыркнула. – И вообще, зачем ломать копья, если три прекрасных очерка тебе принесут в пять раз больше лавров в «Заре», чем одна рискованная статья…
За меня считали и подсчитывали, за меня давным-давно все продумали и обобщили и даже подвели итоги в смысле «лавровости». «Господь бог все перепутал!» – по-прежнему ласково и нежно думал я, так как на противоположном конце города существовала другая женщина – моя законная жена, – которая с неистовой силой боролась с мужем, по ее разумению, готовящим подлый поступок. Ника еще не знала, что я совершу нечто богопротивное, но была уверена, что ее муж все делает неспроста, коли он предает главное для нее – любовь. А рядом со мной лежала Нелька, женщина, которой было бы естественнее считаться женой Никиты Ваганова, и она считала себя женой, так как, наверное, неимоверным своим женским чутьем предчувствовала, что наша любовь будет любовью на всю жизнь.
Она сказала: