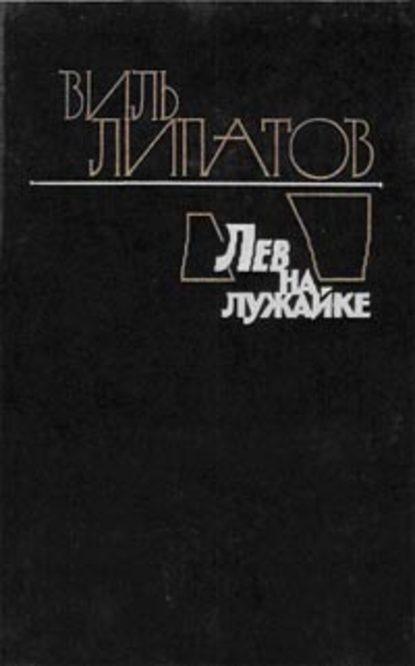По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лев на лужайке
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Хорошо, папа!
Я спросил:
– Ты воруешь у мамы деньги?
– И у тебя, только ты не замечаешь. И у дедушки. А что это вы мне даете ломаные гроши?
– Пять рублей на неделю – ломаные гроши! Он – сумасшедший!
– Так нельзя говорить ребенку, папа! У меня может образоваться комплекс неполноценности. Ты еще набегаешься по больницам.
И это говорил ученик школы, еще и не нюхавший жизнь, но прочитавший груду книг безобразнейшего выбора. Мне не хотелось с ним больше разговаривать, хотелось надавать пощечин и подзатыльников, но великовозрастный ребенок Костя сказал бы, что так нельзя обращаться с детьми, – это меня чрезвычайно связывало, хотя я понимал, что необходимо что-то делать. Ведь мой сын Костя, мой бедный Костя, может превратиться на самом деле в неполноценного человека…
– Уходи, Костя!
– Дай денег – уйду!
Мой бедный Костя! Ни лаской, ни криком, ни упрямством искушенного воспитателя – моей жены Веры – не удастся предотвратить неотвратимое; и фатальность этого я понимал, когда выдавал Косте очередные неправедные рубли. Забегая вперед, скажу, что сам Костя никогда и ни при каких условиях, даже уйдя из дому, не будет считать себя несчастным человеком. Выглядеть он будет оборванцем но здоровым, розовощеким оборванцем и, что странно, будет любить меня и мою жену – такой ласковый теленочек! Особенно он будет дружить со своей сестрой Валентиной. Однажды выяснится, что Костя работает грузчиком в мебельном магазине и зарабатывает побольше академика…
* * *
По-прежнему разозленный хамской беспардонностью Ивана Ивановича, я ринулся в редакцию, позвонил заместителю председателя горсовета. Я равнодушно сказал:
– Обещанного три года ждать, но… Единственный из заместителей главного редактора проживает в двухкомнатной квартире на четырех человек, причем двое разнополых детей. И все это у черта на куличках! Как же так, Михаил Сергеевич?
Он в присущем ему ворчливом и небрежном тоне ответил:
– Никита, все будет сделано! Я готовлю для тебя апартаменты в самом центре. Ты их заработал. Можно встречный вопрос? Какого дьявола ты взялся сам за улучшение жилищных условий? Я проспорил.
– А что?
– Держал пари, что ты никогда не будешь радеть за самого себя.
– Ну, помоги мне, Михаил Сергеевич! С Костей предельно плохо, возможно, центр города окажет благотворное влияние.
– Ни о чем не беспокойся, Никита Борисович! Привет!
Что мне еще оставалось делать после хамского ухода с дачи всемогущего редактора «Зари»? Свирепеть и функционировать – так и произошло: с ходу я зарезал две почти кондиционных статьи на промышленную тему: переписал целиком свою собственную передовую, но и на этом не успокоился, думая, что совсем не понимаю Ивана Ивановича Иванова, когда мне раньше казалось, что я его вижу насквозь и глубже. Я не собирался с ним мириться, чего бы мне это ни стоило. Никита Ваганов умел писать, делал это блестяще – какие еще могут быть вопросы? Четыре сотни в месяц я всегда заработаю, хоть посади меня в зачуханную многотиражку, хоть пошли в шахтную газету Воркуты. Вот уж там я, кстати, развернусь, небу будет жарко…
* * *
Я встретился с Иваном Ивановичем, естественно, на заседании редакционной коллегии, надо было видеть, как робко и искательно ловил он мой взгляд, как дважды и без всякой нужды похвалил освещение в газете вопросов промышленности, как вкусно и звучно произносил мое имя: Никита Борисович. Мой вечный конкурент Валька Грачев ревниво морщился: не понимал, чем я вызвал у главного редактора прилив отеческой любви. Но я принял твердое решение не потрафлять ухаживаниям главного редактора – пусть поищет более важные причины для установления контактов.
… Впоследствии, два-три года спустя, мой конфликт с главным редактором выльется в одну его решающую фразу: «Глубоко принципиальный человек! Бескомпромиссный!», что, конечно, повлияет на назначение Никиты Ваганова главным редактором газеты «Заря»…
Редактор центральной газеты «Заря», заглаживая свою вину, будет делать несколько заходов, неловких заходов, чтобы как-то ублажить меня, но ничего не сделает без участия Никиты Петровича Одинцова. Должен сказать, что к этому времени Никита Петрович поднялся еще выше на одну ступень и никак при этом не изменился – был прост, добр и по-прежнему проигрывал мне в преферансе. Примирение произошло чрезвычайно просто: пришла в редакцию Нина Горбатко, не здороваясь, покрутила пальцем, приставленным к виску, положила ногу на ногу.
Она сказала:
– Или очень хитришь, или играешь дурака! Немедленно мирись с Ивановым! Дядя активно хочет, чтобы ты помирился с Иваном Ивановичем, хотя дядя…
– Что дядя?
– Вот уж кто не умеет рассчитывать… Если быть сверхобъективным, то вы с дядей здорово похожи. Тебе ведь только кажется, что ты умеешь создавать ситуации…
Я сердито сказал:
– Сядь поскромнее…
Отвернувшись друг от друга, мы долго молчали, потом Нина сказала:
– По-моему, дядя видит тебя на месте Иванова. Прямо он не высказывался, но намекал на такую возможность… А ты, дурак, не устанавливаешь контакты с Ивановым! С его мнением при назначении преемника будут здорово считаться. Пойми: здорово считаться! И я уверена, что Иванов вызывал тебя, чтобы хорошенько посмотреть на собственного преемника.
Я, Никита Ваганов, делал карьеру по советам женщины и через женщину: более позорного явления не знаю… Я сказал:
– Плевал, понятно? Не хочу, чтобы ты мной дирижировала.
Неужели Нина Горбатко, такая женщина, не понимала, что эпизод с конфликтом нужно было бы создавать, но Иван Иванович опередил меня. Представляете, подхалим чеховского толка Валентин Грачев и неподкупный Никита Ваганов!
Нина Горбатко ругалась на чем свет стоит, и, если бы не лень, я рассказал бы племяннице, как она не знает жизни и газеты, как далека от повседневности, а еще пыжится, так сказать, «глобулять». Она разорялась необыкновенно долго:
– И эта твоя домашняя рабыня-жена, и эта твоя житейски-сверхмудрая Нелли – дуры одного и того же порядка: они думают, что тебе нужен редакторский пост, а тебе необходимо только и только редакторское состояние. – Она прищурилась. – Ты помолодеешь, покрасивеешь, купишь пару хороших костюмов и… Никита, что мы сделаем еще?
– Купим запонки.
– Ура! Мы купим запонки!
– И носки.
– Боже великий, о носках я не подумала! – Она вскочила. – Мы купим тебе дюжину прекрасных разноцветных и однотонных носков. Причем носки мы будем покупать вместе.
Я развалился в низком кресле, положил ногу на ногу, сделал вид, что изо рта торчит толстая «гавана», рассеянно прищурился. Нина сникла.
– Вот всегда ты так! – сказала она. – Топишь все светлое и прогрессивное. У, прагматик!
… Меня любила, любит и будет любить почти по шариату жена Вероника, меня по-своему любит Нелли Озерова, но такую любовь ко мне – любовь платоническую – я получил только от Нины Горбатко, и незадолго до моей смерти она, наверное, шепнет уже лежачему Никите Ваганову: «Спасибо!» Два человека поверят и поймут, что мы не любовники: моя жена Вера и Никита Петрович Одинцов…
– Сама купишь мне носки, – сказал я. – И не дюжину, а всего две пары… Думаю, на этом твоя покупательная страсть удовлетворится…
Я пошатнулся, схватился за грудь; перед глазами покачивался океан, словно консервная банка, набитый креветками; верхняя часть океана казалась расплавившейся; что-то кричало прямо в мое лицо, но слов в крике не было, и потому это мог быть и волчий вой… Очнулся я на диване с перевернутым надо мной лицом Нины. Я просительно и нежно произнес:
– Нина, милая, об этом нельзя рассказывать никому. Твоему честному слову я поверю! Даешь честное слово?
Бледная и дрожащая, она ответила:
– Даю слово!
* * *