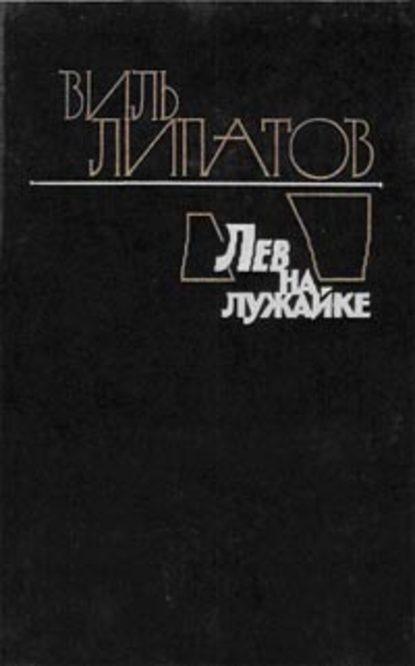По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лев на лужайке
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
… Я должен умереть и умру… Хотя врачи впервые мой диагноз назвали смешным по звучанию словом, им самим, казалось, непонятным. Я немедленно прочел все книги и учебники и теперь приватно знаю о болезни все. Любое мое слово – даже нечаянное – приобретает реальный вес исповеди, и не потому, что мне нечего терять, а потому, что все рассказанные мною истории имеют неизвестный мне конец. Где здесь причины, где следствия – мне и самому не очень понятно, но главное в том, что я все равно не добьюсь даже маломальской степени объективности. Человеку хочется казаться лучше, чем он есть на самом деле, и вот я с прискорбием обнаруживаю, что, умирая, пытаюсь рисовать портрет совсем не того Никиты Ваганова, который существовал на белом свете…
Глава шестая
I
Вы меня спросите, где рассказ о редакционных страстях, где борение направлений в области публицистики или, скажем, очерка, где развертывающиеся под эгидой заместителя редактора по промышленности взрывы, находки, скачки вперед? Вместо всего этого я вас пичкаю амурными похождениями, ссорами, недоразумениями и прочей дребеденью. Неужто, подумаете вы, ему опять скучно до того, что зевота сводит рот клещами и не хочется смотреть на свет белый? Не остановился ли Никита Ваганов в своем стремлении вперед и вверх, не поверил ли в то, что центростремительная сила сама поможет одолеть последнюю ступеньку – стать редактором «Зари»? Вот уж и нет! Более напряженной жизнью, чем в эти дни, я жил только тем весенним утром, когда точно узнал об афере с древесиной в Сибирске. Теперь я ложился спать с мыслью: «Как и что делать?», спал с этой же мыслью, просыпался: «Как и что делать?» С конца сосновой ветки свисали елочными игрушками «Как?».. «Что?», дымок автомобильного выхлопа завивался «Как? и Что?», разноцветные таблички над дверями темного кинотеатра маячили: «Что?» и «Как?», на газетной полосе употреблялось столько этих вопросов, что я сатанел и не мог внимательно читать материал – мне уже деликатно указали на невнимательность, а я словно не слышал, ополоумев и озверев от напряжения. Еще не было никаких признаков ухода Ивана Ивановича, еще газета «Заря» цитировалась на всех углах и перекрестках, но – готов дать голову на отсечение – призрак ближайшего падения витал над фронтоном здания редакции, залегал горькими складками на мордах гранитных львов, и, честное слово, львы казались меньшими, чем были на самом деле.
Очередной ночью я медленно проснулся, открыл глаза так легко, словно и не спал; прижатый к стене Верой, чувствовал себя как бы невесомым, сквозным, до стеклянности прозрачным – это было блаженным состоянии, но, повторяю, не было сном или продолжением сна. Я подумал: «Беда в остановке!» И сразу все сделалось до смешного понятным: такой сложный многообразный организм, как редакция «Зари», пока еще незаметно для других топтался на месте, изобретал изобретенное самим собой, пестовал себя своими прелестями с превеликой нежностью.
– Запеленались и баюкаемся!
Мгновенно проснулась Вера, и это было то самое просыпание, когда при самом легком шевелении ребенка просыпается мать, которую только что не разбудил взвод танков, прогрохотавших под окнами с беспорядочной пальбой. Повернувшись ко мне жарким телом, она спросила:
– Болит голова?
С таким же успехом она могла поинтересоваться, болит ли живот, не ломит ли поясницу, не разболелся ли коренной зуб. Бог мой! Любимый неверный муж, двое детей, еженедельные письма матери: «Слушайся Никитушку…», вечный бедлам московской школы, невозможность добиться правды в школьных коридорах и учительских – образовалась, самовоспиталась образцово-показательная жена, без которой этот мир оказался бы пустым, как луна, но что могло быть скучнее жены, спрашивающей тебя ночью: «Болит голова?» И сколько надо воли, чтобы желчно не шепнуть: «Спи, черт тебя побери!»
– У Никиты Ваганова голова не болит! – сказал я. Теперь мне уже казалось, что торможение газеты я чувствую давно, сам вместе с нею сделался замедленным и стареющим, распухшим от почестей и похвал, как грудь ветерана от орденов; холодок остановки делал сухим сердце… Моя жена Вера снова спала тихо и мирно, как дисциплинированный ребенок в пионерских лагерях: на спине и с руками, сложенными на груди. А я знал, что не усну: в такие ночи не спят; ходят по комнате, курят одну сигарету за другой; чело нахмурено, зубы стиснуты – одним словом, классическое зрелище: человек, принимающий самое ответственное решение в своей жизни. Неплохо также, если позади, шурша шелковыми плащами, при шпагах, разгуливают адъютанты. То ли Аустерлиц? То ли Ватерлоо?.. Я чувствовал неестественность и натянутость собственного юмора: все-таки это нездоровая картина, когда взрослый, рано седеющий мужчина просыпается среди ночи и не то грезит, не то живет более полнокровной жизнью, чем днем.
Прошедши в ванную, сбивая пену для бритья – четвертый час ночи! – я разговорился с зеркалом: еще один признак невменяемости. Малосимпатичный шатен без очков смотрел на меня откровенно-подозрительно, скривив губы и надменно подняв подбородок.
– Ну? – спросил я малосимпатичного шатена. Он ответил распространенно-охотно:
– Пошел – иди! Стоило стоять на сквозном ветру, разговаривать мысленно с Мазгаревым, чтобы потом не знать, отчего тебе не подали руку?
Он продолжил:
– Все началось с той минуты, когда Мазгарев не подал тебе руку!
Зеркальный Никита Ваганов подмигнул:
– Не путай причину и следствие!
… Чем ближе я оказываюсь к «синтетическому ковру», тем меньше иллюзий остается насчет прелестей и радостей этой серой, в сущности, вещи – жизни, тем больше нагнетаются скрытые гнев и неприязнь к земному существованию, и тем более – вот что особенно странно! – томит жажда этой самой презренной жизни… Может быть, это происходит оттого, что растет уверенность: не может же быть в конце-то концов все так серо и буднично, что именно за кажущимися серостью и будничностью скрывается доступный взору не каждого остров с зеленой травой, яркими цветами и голубыми облаками, плывущими так быстро, как вращается ваша карусель. И все небо в алмазах. Как бы все упростилось, знай человек точно, чего он хочет! Убежден, что если человек не амеба, он не может желать просто денег, просто славы, просто власти. Что-то еще скрывается за всем этим, что-то большее – значительное, если хотите – биологическое. «Человек не живет – человек выживает!» – это так старо и банально, однако я откровенно подумал, что биологической системе «Никита Ваганов» на роду было написано выживать именно в такой последовательности, в какой складывалась моя биография и как я сам СОЗИДАЛ себя, повинуясь опять же силам биологического выживания. Биология делала меня, я делал свою биологию, общественные силы корректировали наличием ограничений в человеческом обществе – социальное благостное равновесие…
* * *
Наутро я забрел как бы ненароком в кабинет Вальки Грачева. Он удивленно воззрился на меня, затем многозначительно приподнял левую бровь и звучно щелкнул себя пальцем по горлу. Значит, вид у меня был – краше в гроб кладут. Под глазами синяки, нос заострился и потел под дужкой очков, губы отливали синюшностью, а главное – под стеклами очков – стеклянные же глаза. Типично похоронно-похмельный вид. Валька Грачев сказал:
– Позвонить в поликлинику?
Я ответил словами и тоном родной жены Веры:
– Болит голова?
Против окон кабинета Вальки Грачева вертел глупой страусиной головой башенный кран, здесь второй год строилось еще одно здание редакций, редакций журналов, приложений, путеводителей, реклам, и огни сварочных агрегатов, должно быть, делали мое лицо совсем мертвенным. Сдерживаясь, я сказал:
– Я не поеду в командировку с Главным – это во-первых! Во-вторых, я отказался от содоклада и предложил твою кандидатуру на совещание. А в-третьих, Валька, я кончился раньше, чем начался. Так что тебе я не соперник… Алле гоп!
Он смотрел на меня с беспокойством, сочувствием и легким испугом, рука продолжала лежать на рычаге телефона местной связи, по которой можно было позвонить в ведомственную поликлинику. Чего я ему только не нагородил: командировка, содоклад, сдача на милость победителя! Человек с менее устойчивой нервной системой, чем у Вальки Грачева, давно бил бы во все колокола, а этот все еще приглядывался, принюхивался – темная лошадка Ваганов! Странного в этом ничего не было. Слишком хорошо знал меня Валька Грачев, чтобы по крайней мере не насторожиться, и все-таки он надеялся на праведные синяки под моими глазами и синюшные губы.
– Я провожу тебя в поликлинику, Никита! Встали – пошли!
«Встали – пошли, пожалуйста!» – я внутренне посмеивался тем сомнениям, которые испытывал мой старый заклятый друг. Будьте уверены, я-то уж не пошел бы с Валькой Грачевым в поликлинику, если бы он даже грохнулся в обморок возле моих ног: сто раз подумал бы, для чего это ему, классному теннисисту, понадобилось? Другое дело, когда он подкатывался мне под ноги, чтобы я оказался на собственной футбольной площадке. «Валька, я кончился раньше, чем начался!» – расскажите это вашей маме, всю жизнь проторговавшей билетами…
– Сейчас тебя примут, Никита! Только выйдет больной…
* * *
– Легкий катар верхних дыхательных путей, – сказал пожилой врач и, подумав, неуверенно добавил: – Желательно снять нервное перенапряжение…
Вновь поездка в уютные Сосны, крохотный отдельный коттедж, куда беспрепятственно вхожа Нелька, а главное – думание, думание, думание: предсказать и взвесить, напророчить и рассчитать, разглядеть ближайшую линию фронта и расставить в единственно возможном порядке пушки. Так острил я, изучая дрожащую руку пожилого, неуверенного в себе врача, породы людей, мне непонятных и, как всегда это бывает, неприятных непонятностью. «Желательно снять нервное напряжение!» – стоило для этого коптить шестьдесят лет небо, чтобы все-таки не знать: желательно или нежелательно? Между прочим, количество нерешительных людей плодится, так как двадцатый век с его скоростями и ускорениями заставляет принимать все большее количество непредвиденных решений, и не миллионами исчисляются те люди, кто в полном вооружении встретил век молниеносных решений. Тихая полуулыбка, затуманенные глаза, обмякший рот – знакомая картина на фоне летающих спутников Земли… Было интересно, поджидает ли меня в больничном коридоре Валька Грачев. Врачу я жалобно сказал:
– Нужно снять нервное перенапряжение! Непременно!
И через минуту, размахивая бумажкой в фиолетовых печатях, я вышел в коридор, где меня бдительно ожидал чуткий и отзывчивый товарищ Валентин Иванович Грачев, то бишь Валька Грачев. Он сразу понял и про Сосны, и про то, что я сам атаковал нерешительного врача, и что мне все это зачем-то понадобилось. На лице Вальки я прочел: «Увидел, раскусил, но не ведаю, к чему разыгрывается вся эта комедия?» Я на его месте – Валька менее темпераментен – при виде бюллетеня с сиреневыми печатями вообще объявил бы общую тревогу и, как выражаются пожарники, сбор всех частей. Я подлил масла в огонь, сказав:
– Да и да! Страсти в разгаре, а я… Меншиков в Березове.
Не мог же он, черт возьми, не поверить бюллетеню, которым я размахивал, как флажком! И все-таки считал происходящее игрой, им пока не разгаданной и, значит, тем более опасной, и было видно, как тяжело Вальке Грачеву думается: на лбу набухла и змеилась красная жилка, а мне было легко, очень легко и даже нос под дужкой очков не потел.
– Спасибо, Валюн, за внимание, – тепло проговорил я и обнял товарища за жесткие плечи прирожденного спортсмена. – Без тебя бы я совсем растерялся… Сниму нервное напряжение!
– Тебе известно, Валюн, – прежним тоном произнес я, – что фаворитами не становятся, ими рождаются?
Он откровенно-настороженно следил за мной, и я был вынужден, как это ни забавно, произнести мысленный панегирик в свой адрес: «подающий надежды», «перспективный», «постоянно растущий», «ищущий», «талантливый», «обладающий неповторимым стилем» и все такое прочее, что давным-давно растаяло, как утренняя розовая дымка, сладостная и этим слегка печальная…. И очень скоро на «синтетическом ковре» смертного приговора я подумаю, что только жизнь повинна в рассеивании грустной розовой дымки – она, представляете, движется, эта самая жизнь. Как хорошо быть лейтенантом! Нет, на самом деле, как хорошо быть лейтенантом!.. Тяжелые и большие звезды навешивали на мои погоны… «Крепкий руководитель», «человек действия», «перспективная личность», «общественно полезный ум», «вожак масс» – каких только эпитетов не набросают люди постепенно в мой адрес…
* * *
– Фаворитами не становятся, ими рождаются!
Нет ошибки большей, чем уверенное ожидание непременной удачи; такая же крупная ошибка – постоянная настороженность, когда опасность мнится даже в самом ярко освещенном месте и, как всегда, не там, где может возникнуть. Кажется, это круг, выход из которого один: самому создавать ситуацию.
Искусство создавать ситуацию – это искусство опережать хоть на мизинец события, какими бы они ни были: позитивными или негативными.
Короче, я рвался в бой, предчувствуя, что это последний серьезный бой в моей жизни, что после него кривая круто пойдет вниз…… Так круто, что ниточка ее оборвется возле «синтетического ковра» Центральной клинической больницы…
II
В Сосны я приехал пораньше, чтобы сразу искупаться, а потом поиграть в теннис. Тройка неопасных тучек шлялась по небосклону, солнце освещало деревья по-шишкински; слоями песочного торта залегали земные отложения, камыши важно кивали, хотя ветра не было, по песчаному дну речушки перекатывались энергичные, как шарики ртути, мальки; один из них, побольше, уставился на меня типично рачьими глазами с рачьим же вопросом: «Смотришь?» Было, честное слово, хорошо, как на другой планете, и я, конечно, по первому плану подумал: «Вот где настоящая жизнь!», и тут же устыдился самого себя. «Черт знает что делается!» Мой шофер уже купался и фыркал, как лошадь. Я барахтался в воде бесшумно, нырял до боли в глазах, переплыл туда-обратно реку, ориентируясь по ветлам на берегу. Когда уехал шофер, перегрузивший из машины в мою комнату семь годовых подшивок газеты «Заря», я распаковал вещмешок с теннисными принадлежностями, счастливый тем, что в Соснах никто не знает Никиту Ваганова, небрежной теннисной походкой направился на корт. Мне выпало играть с мужчиной лет на пять старше, однако он внешне был в такой форме, что мог позавидовать сам Валентин Иванович Грачев, то бишь Валька Грачев. Мяч просвистел и гулко ударился о корт…
Я выиграл три сета, изнуренный, трудно дышащий, но безмерно счастливый, сказал партнеру такое, за что десятью минутами позже по-черному ругал себя, но сказанного не вернешь. Сжимая руку партнера, не в силах сдержать улыбки торжества, я проговорил:
– Вы сами не знаете, что сейчас для меня сделали. Я выиграл больше, чем партию. Спасибо!
Никаких суеверий и – полная голова суеверий! Я загадал на выигрыш, выиграл, и теперь уже ничто не могло остановить мою изощрявшуюся годами мыслительную машину. Купание, теннис, прогулки – все побоку, вся жизнь направляется в одно русло обдумывания сегодняшней и дальнейшей судьбы моей любимой газеты «Заря», подшивку которой за целых семь лет я «временно позаимствовал». Все учесть, предусмотреть, проанализировать, ничего – ну абсолютно ничего! – не пропустить.
Я занимался только мартом первого анализируемого года, когда двери в коттедж вкрадчиво открылись, ко мне медленно-медленно подошла Нелли Озерова – моя любовь. Нелли тихо спросила: