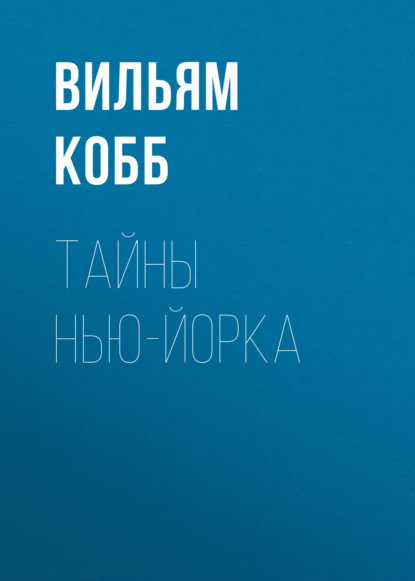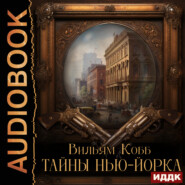По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тайны Нью-Йорка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вошедший не шел по ковру, а скользил, будто его тело было таким легким, что не производило шума при движении. Кто произвел на свет это существо? Какое-нибудь экзотическое семейство, оставившее на льдине ребенка, которого потом течением унесло далеко от Гренландии, Шпицбергена или Камчатки? Или тот сказочный мир, который фантазия Свифта населила лилипутами? Или таинственное племя пигмеев? Или просто сон? Как бы то ни было, но в комнату вошел человек более чем необыкновенный.
Имел ли он четыре фута от пола? Если мы назовем даже три с половиной, то и это будет преувеличением. Но если он так мал ростом, то не компенсирует ли он толщиной этот недостаток? Отнюдь. Он хрупкий и тонкий, как стебель одуванчика. Всмотревшись повнимательнее, нельзя не удивиться гармоничному сочетанию роста и комплекции этого существа.
Как ни странно, его облик в точности соответствовал американскому типу. Это было уменьшенное изображение больших янки, известных по рисункам во всех пяти частях света. Длинное лицо, козлиная бородка, курчавые волосы… Все было на месте.
При этом и типичный костюм: длинный черный сюртук, белая рубашка с отложным воротником, широкий галстук, широкие и неуклюжие панталоны, сапоги на толстых подошвах…
Его прозвали Колоссом как фурий – Евменидами.
Он подошел, улыбаясь во весь рот, с лицом, сиявшим любезностью. Но было еще что-то кроме нее… Большая радость переполняла этого маленького человека.
Мистеру Колоссу было, по всей вероятности, около шестидесяти лет. Борода и волосы были белы как снег.
Надо заметить, что все на нем было чисто, аккуратно, как на куколке, только что полученной из магазина.
– Это я! Здравствуйте, дети мои! – сказал Колосс тонким, но не пронзительным голосом, вполне соответствовавшим его маленькой фигурке.
Мадам Симонс своей толстой рукой дружелюбно потрепала его по щеке, будто ребенка.
– Сэр, – сказала она шутливо, – зачем вы пришли сюда?
– Хе-хе, – ответил Колосс, подходя к Нетти, все еще задумчиво смотревшей на только что полученное письмо, – я имею, кажется, право интересоваться делами своих учеников…
Нетти тепло улыбнулась карлику.
– Здравствуйте, друг мой! Как я счастлива, что вижу вас!
И она протянула ему свою белую ручку, в которой совсем утонула лапка старика.
– Счастлива! – повторил Колосс. – Гм… вот слово, которое доставляет мне большое удовольствие! А вы, Эванс, – прибавил он, обращаясь к доктору, – разве не пожелаете мне доброго утра?
– Непременно, дорогой мой профессор, – широко улыбнулся молодой человек, – извините меня, но я задумался о другом…
Колосс посмотрел на него.
Глаза Колосса достойны описания. Когда он широко раскрывал их, то, говоря без особого преувеличения, все существо маленького человека, так сказать, исчезало. Видны были только серые зрачки, глубокие, как море, в глубине которых волновался целый мир мыслей и чувств.
Наши четыре действующих лица разместились вокруг стола. Начался скромный завтрак.
– Послушайте, дорогой мой Колосс, – сказал Эванс, – позвольте задать вам один вопрос… Вы сегодня сияете радостью. Не будет ли нескромностью пожелать присоединиться к ней?
Заметим мимоходом: прозвище Колосс так утвердилось за ним, хотя настоящее имя старика было Джон Веннерхельд, что никому не приходило в голову называть его иначе, чем мистер Колосс.
– Вы довольно верно угадали, дорогой доктор, – сказал старик. – И иногда я очень сожалею, что у меня такая маленькая фигурка…
– Почему?
– Потому, что мое скромное тело, сегодня, например, кажется мне слишком тесным, чтоб вместить такую беспредельную радость, – да, именно беспредельную, переполняющую мою душу.
Действительно, глаза старика блестели, и весь он готов был лопнуть от распирающего его счастья.
– Расскажите нам, – сказала Нетти, – чтоб и мы порадовались вашему счастью!
– Предположите, – начал Колосс, взгляд которого принял выражение глубокой задумчивости, – предположите, что человек посвятил всю свою жизнь решению какой-нибудь задачи. Представьте себе, что он потратил пятьдесят лет… да, я могу сказать, что именно пятьдесят… на изучение, на усовершенствование идеи… что в свои усилия он вложил все честолюбие, всю волю, все силы своей души… И вдруг, в такую ночь, какая была, например, сегодня, когда дождь бьет в стекла, когда ветер воет… Истина неожиданно открывается во всей своей полноте, почти осуществленная, осязаемая… Как вы думаете, в такую минуту человек не может обезуметь от бесконечной, неизъяснимой радости?
– Но в чем же дело? – воскликнул Эванс, увлеченный энтузиазмом старика.
– Мне нужно три дня… Я назначил себе этот срок… и тогда вы все узнаете… Ах! Их железные дороги, опоясывающие весь свет с одного конца до другого, их сухопутные и трансатлантические телеграфы, их великаны-аэростаты! Как все это будет казаться мелко, мизерно! Мое произведение не имело предшественников, не имеет равных себе! Это бесконечность, взятая с бою, порабощенная… И это так просто на самом деле! И как я не открыл этого раньше? Ну да хватит говорить о себе, сегодняшний день принадлежит Нетти… – И, обращаясь к молодой девушке, он сказал: – Вы помните нашу первую встречу пять лет назад? Вы были, как и сегодня, очаровательны и добры… В вас было чутье, понимание искусства… Я сказал вам: учитесь рисовать… Я еще помню, как вы неправильно проводили линии на бумаге… Терпение, говорил я вам, а главное – старание! Я заставлял вас работать по пять часов в день… в продолжение целого года, начиная всегда в одно и то же время и заканчивая в те же минуты…
– А добрая мадам Симонс кормила меня и не брала денег за квартиру… по вашей просьбе, – перебила его Нетти, смотря на толстую хозяйку, которая из чрезмерной скромности прятала свое лицо в кружке с чаем.
– Вы правы, Нетти! Мы не забудем никогда, что она сделала для нас, – продолжал Колосс взволнованным голосом.
– Я прошу вас, – сказала мадам Симонс глухо, – не вмешивать меня в ваши истории и оставить меня в покое!
У доброй женщины показались слезы на глазах.
Нетти встала, взяла ее голову обеими маленькими руками и поцеловала. Толстая хозяйка вырвалась, шумно высморкалась и воскликнула:
– Я же вам сказала, оставьте меня в покое… Я люблю общество, вот и все!
– Возвращаюсь к Нетти, – сказал Колосс. – Через год она умела рисовать… но ей был знаком только процесс рисования. Тогда я взялся за нее серьезнее, отнял все модели… ей пришлось рисовать по памяти… Она должна была копировать формы, которые возникали в ее воображении. Затем я ей дал в руку кисть… Сегодня пять лет с того дня, как она начала проводить первую линию, и вот через несколько часов достопочтенная Национальная галерея Нью-Йорка откроет двери гудящей толпе… и эта толпа в изумлении остановится перед прекрасным произведением нашей Нетти! Нашей Нетти, которую я сделал живописцем, я, Колосс, посредственный рисовальщик и неумелый пачкун… я, уверяющий, что можно дойти до всего, не следуя никакому другому правилу, кроме того, которое формулируется двумя словами: «Терпение! Старание!»
– Точно так же было и со мной, когда я ощупью искал своего призвания: вы сделали из меня доктора, которым, я надеюсь, вы будете иметь право гордиться, – сказал Эванс, пожимая руку старика.
– Э, боже мой! – воскликнул Колосс. – Да к чему же служили бы живые силы природы и разума, если бы хорошее направление не развивало их во всей полноте?
В эту минуту прозвенел звонок у двери.
– Опять почтальон! – сказала мадам Симонс. – Сегодня какое-то почтовое утро…
Она вернулась с конвертом в руках.
– Письмо мисс Нетти Дэвис. М-да, – прибавила она, грозя пальцем молодой девушке, – у вас слишком большая корреспонденция, моя красавица…
Нетти взяла конверт.
На нем была печать и подпись: «Арнольд Меси и К
. Нью-Йорк, Нассау-стрит, 5».
Она вдруг страшно побледнела и, сделав над собой усилие, отдала письмо Колоссу, который поспешно распечатал его.
– Вот, слушайте!
И он прочел громким голосом:
– «Мистер Арнольд Меси, посетивший вчера, до публичного открытия, выставку Национальной галереи, просит мисс Н. Дэвис пожаловать в два часа в зал конкурса, чтобы переговорить с ним о покупке ее замечательной картины».
Имел ли он четыре фута от пола? Если мы назовем даже три с половиной, то и это будет преувеличением. Но если он так мал ростом, то не компенсирует ли он толщиной этот недостаток? Отнюдь. Он хрупкий и тонкий, как стебель одуванчика. Всмотревшись повнимательнее, нельзя не удивиться гармоничному сочетанию роста и комплекции этого существа.
Как ни странно, его облик в точности соответствовал американскому типу. Это было уменьшенное изображение больших янки, известных по рисункам во всех пяти частях света. Длинное лицо, козлиная бородка, курчавые волосы… Все было на месте.
При этом и типичный костюм: длинный черный сюртук, белая рубашка с отложным воротником, широкий галстук, широкие и неуклюжие панталоны, сапоги на толстых подошвах…
Его прозвали Колоссом как фурий – Евменидами.
Он подошел, улыбаясь во весь рот, с лицом, сиявшим любезностью. Но было еще что-то кроме нее… Большая радость переполняла этого маленького человека.
Мистеру Колоссу было, по всей вероятности, около шестидесяти лет. Борода и волосы были белы как снег.
Надо заметить, что все на нем было чисто, аккуратно, как на куколке, только что полученной из магазина.
– Это я! Здравствуйте, дети мои! – сказал Колосс тонким, но не пронзительным голосом, вполне соответствовавшим его маленькой фигурке.
Мадам Симонс своей толстой рукой дружелюбно потрепала его по щеке, будто ребенка.
– Сэр, – сказала она шутливо, – зачем вы пришли сюда?
– Хе-хе, – ответил Колосс, подходя к Нетти, все еще задумчиво смотревшей на только что полученное письмо, – я имею, кажется, право интересоваться делами своих учеников…
Нетти тепло улыбнулась карлику.
– Здравствуйте, друг мой! Как я счастлива, что вижу вас!
И она протянула ему свою белую ручку, в которой совсем утонула лапка старика.
– Счастлива! – повторил Колосс. – Гм… вот слово, которое доставляет мне большое удовольствие! А вы, Эванс, – прибавил он, обращаясь к доктору, – разве не пожелаете мне доброго утра?
– Непременно, дорогой мой профессор, – широко улыбнулся молодой человек, – извините меня, но я задумался о другом…
Колосс посмотрел на него.
Глаза Колосса достойны описания. Когда он широко раскрывал их, то, говоря без особого преувеличения, все существо маленького человека, так сказать, исчезало. Видны были только серые зрачки, глубокие, как море, в глубине которых волновался целый мир мыслей и чувств.
Наши четыре действующих лица разместились вокруг стола. Начался скромный завтрак.
– Послушайте, дорогой мой Колосс, – сказал Эванс, – позвольте задать вам один вопрос… Вы сегодня сияете радостью. Не будет ли нескромностью пожелать присоединиться к ней?
Заметим мимоходом: прозвище Колосс так утвердилось за ним, хотя настоящее имя старика было Джон Веннерхельд, что никому не приходило в голову называть его иначе, чем мистер Колосс.
– Вы довольно верно угадали, дорогой доктор, – сказал старик. – И иногда я очень сожалею, что у меня такая маленькая фигурка…
– Почему?
– Потому, что мое скромное тело, сегодня, например, кажется мне слишком тесным, чтоб вместить такую беспредельную радость, – да, именно беспредельную, переполняющую мою душу.
Действительно, глаза старика блестели, и весь он готов был лопнуть от распирающего его счастья.
– Расскажите нам, – сказала Нетти, – чтоб и мы порадовались вашему счастью!
– Предположите, – начал Колосс, взгляд которого принял выражение глубокой задумчивости, – предположите, что человек посвятил всю свою жизнь решению какой-нибудь задачи. Представьте себе, что он потратил пятьдесят лет… да, я могу сказать, что именно пятьдесят… на изучение, на усовершенствование идеи… что в свои усилия он вложил все честолюбие, всю волю, все силы своей души… И вдруг, в такую ночь, какая была, например, сегодня, когда дождь бьет в стекла, когда ветер воет… Истина неожиданно открывается во всей своей полноте, почти осуществленная, осязаемая… Как вы думаете, в такую минуту человек не может обезуметь от бесконечной, неизъяснимой радости?
– Но в чем же дело? – воскликнул Эванс, увлеченный энтузиазмом старика.
– Мне нужно три дня… Я назначил себе этот срок… и тогда вы все узнаете… Ах! Их железные дороги, опоясывающие весь свет с одного конца до другого, их сухопутные и трансатлантические телеграфы, их великаны-аэростаты! Как все это будет казаться мелко, мизерно! Мое произведение не имело предшественников, не имеет равных себе! Это бесконечность, взятая с бою, порабощенная… И это так просто на самом деле! И как я не открыл этого раньше? Ну да хватит говорить о себе, сегодняшний день принадлежит Нетти… – И, обращаясь к молодой девушке, он сказал: – Вы помните нашу первую встречу пять лет назад? Вы были, как и сегодня, очаровательны и добры… В вас было чутье, понимание искусства… Я сказал вам: учитесь рисовать… Я еще помню, как вы неправильно проводили линии на бумаге… Терпение, говорил я вам, а главное – старание! Я заставлял вас работать по пять часов в день… в продолжение целого года, начиная всегда в одно и то же время и заканчивая в те же минуты…
– А добрая мадам Симонс кормила меня и не брала денег за квартиру… по вашей просьбе, – перебила его Нетти, смотря на толстую хозяйку, которая из чрезмерной скромности прятала свое лицо в кружке с чаем.
– Вы правы, Нетти! Мы не забудем никогда, что она сделала для нас, – продолжал Колосс взволнованным голосом.
– Я прошу вас, – сказала мадам Симонс глухо, – не вмешивать меня в ваши истории и оставить меня в покое!
У доброй женщины показались слезы на глазах.
Нетти встала, взяла ее голову обеими маленькими руками и поцеловала. Толстая хозяйка вырвалась, шумно высморкалась и воскликнула:
– Я же вам сказала, оставьте меня в покое… Я люблю общество, вот и все!
– Возвращаюсь к Нетти, – сказал Колосс. – Через год она умела рисовать… но ей был знаком только процесс рисования. Тогда я взялся за нее серьезнее, отнял все модели… ей пришлось рисовать по памяти… Она должна была копировать формы, которые возникали в ее воображении. Затем я ей дал в руку кисть… Сегодня пять лет с того дня, как она начала проводить первую линию, и вот через несколько часов достопочтенная Национальная галерея Нью-Йорка откроет двери гудящей толпе… и эта толпа в изумлении остановится перед прекрасным произведением нашей Нетти! Нашей Нетти, которую я сделал живописцем, я, Колосс, посредственный рисовальщик и неумелый пачкун… я, уверяющий, что можно дойти до всего, не следуя никакому другому правилу, кроме того, которое формулируется двумя словами: «Терпение! Старание!»
– Точно так же было и со мной, когда я ощупью искал своего призвания: вы сделали из меня доктора, которым, я надеюсь, вы будете иметь право гордиться, – сказал Эванс, пожимая руку старика.
– Э, боже мой! – воскликнул Колосс. – Да к чему же служили бы живые силы природы и разума, если бы хорошее направление не развивало их во всей полноте?
В эту минуту прозвенел звонок у двери.
– Опять почтальон! – сказала мадам Симонс. – Сегодня какое-то почтовое утро…
Она вернулась с конвертом в руках.
– Письмо мисс Нетти Дэвис. М-да, – прибавила она, грозя пальцем молодой девушке, – у вас слишком большая корреспонденция, моя красавица…
Нетти взяла конверт.
На нем была печать и подпись: «Арнольд Меси и К
. Нью-Йорк, Нассау-стрит, 5».
Она вдруг страшно побледнела и, сделав над собой усилие, отдала письмо Колоссу, который поспешно распечатал его.
– Вот, слушайте!
И он прочел громким голосом:
– «Мистер Арнольд Меси, посетивший вчера, до публичного открытия, выставку Национальной галереи, просит мисс Н. Дэвис пожаловать в два часа в зал конкурса, чтобы переговорить с ним о покупке ее замечательной картины».