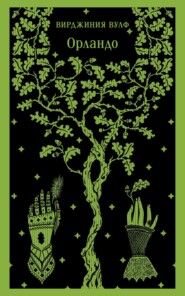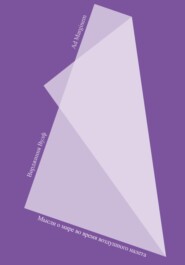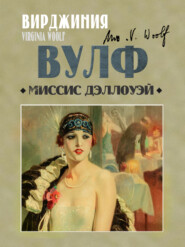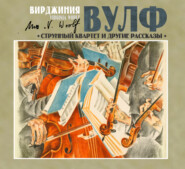По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Волны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Наконец-то, – Бернард говорил, – поток мелеет. Кончается проповедь. Он в тонкий порошок смолол танец белых капустниц за дверью. Голос у него сырой и шершавый, как недобритый подбородок. Вот он возвращается на свое место в раскачку, как пьяный матрос. Уж это как раз могли бы воспроизвести и другие учителя; но куда им – хлипкие, жидкие, в своих серых штанах – они были бы только смешны. Разве я кого презираю? Их шутовские ужимки скорее достойны жалости. Я все просто так беру на заметку, на всякий случай, на будущее, для ссылок в своем блокноте. Когда вырасту, я заведу такой толстый блокнот со множеством страниц, аккуратно помеченных буквами. Я буду туда заносить мои фразы. Под буквой «Б» запишу «Бабочки, смолотые в порошок». Сяду, скажем, писать роман, вздумаю изобразить игру света на подоконнике, загляну в букву «Б» и вспомню смолотых бабочек. Пригодится. Дерево «оставляет на окне зеленые отпечатки пальцев». Тоже пригодится. Только я, увы, без конца отвлекаюсь! Крученым, как леденец, волосом, Библией Селии, в переплете слоновой кости. Луис может наблюдать природу, не мигая, часами. А я скоро сдаюсь, если со мной никто не заговорит. «Озеро моей души, не взрываемое взмахами весел, мирно колышется и скоро погружается в густую сонливость». Пригодится!
– Ну вот мы и выходим из прохладного храма на желтое спортивное поле, Луис говорил. – А поскольку сегодня рано кончаются классы (день рождения Веллингтона), мы устроимся в высокой траве, пока другие играют в крикет. Я сам решу, быть ли мне среди этих «других»; захочу – пристегну наколенники и пойду через поле во главе игроков с битами. Боже, как все хвостом тащатся за Персивалом! Он крупный. Тяжело бредет через поле по высокой траве, к тому большому вязу. Великолепный, как средневековый рыцарь. И в его фарватере плывет по траве свет. А мы-то, мы – устремляемся следом, как верные слуги, и нас перебьют, как овец, ведь он того гляди ввяжется в безнадежное дело и падет в бою. Сердце во мне ощетинивается; саднит мне бок, оно как два лезвия сразу: одно – я любуюсь его великолепием; и другое – я презираю его неряшливую речь, я, я настолько выше его и – завидую.
– Ну вот, – Невил говорил, – пусть Бернард начинает. Пусть журчит, рассказывает свои истории, а мы раскинемся рядом. То, что мы сами только что видели, он перед нами выложит, но ловко стянув стройной фабулой. Бернард говорит, все на свете – история. Я – история. Луис – история. Существует история про чистильщика сапог, есть история про кривого, про бабу, которая торгует моллюсками. Пусть он журчит себе, а я, лежа навзничь, буду разглядывать тяжелые ноги игроков в наколенниках сквозь танцующие былинки. Все как будто течет и кружит – деревья на земле, в небе облака. Я сквозь кроны смотрю на небо. Там будто тоже играется матч. Вдруг, в белой толчее облаков, я слышу крик: «Счет!», я слышу крик: «Сколько?» Белые облака, встрепанные ветром, роняют дымные пряди. Если бы эта синь могла остаться навеки; если бы все так и осталось навеки; если бы никогда не кончалась эта минута …
Но Бернард все говорит. Они журчат и вскипают – образы. «Как верблюд»… «стервятник». Верблюд – он и есть стервятник; стервятник – верблюд; ведь Бернард – проволока болтающаяся, порванная, но неотразимая. Да, и когда он болтает, нижет свои дурацкие образы, душа делается пустая, легкая. И сам течешь и пузыришься, как его это журчанье; высвобождаешься; чувствуешь: я спасен. Даже щекастенькие малыши (Далтон, Ларпент и Бейкер) чувствуют эту раскованность. И она им дороже крикета. Глотают каждую фразу, едва закипит. Не замечают, как трава им щекочет носы. И потом – все мы чувствуем, что среди нас тяжко лежит Персивал. Он странно, снисходительно хмыкает – и будто дает нам разрешение хохотать. Но вот он перекатился в высокой траве. Жует, я полагаю, былинку. Он заскучал; я заскучал тоже; Бернард мгновенно чувствует, что мы заскучали. Я различаю натяжку, нажим в его фразе, как если бы он сказал: «Послушайте!», а Персивал сказал: «Нет!» Потому что он первый замечает неискренность; и он беспощаден. Фраза спотыкается, увядает. Да, настал жуткий миг, когда власть Бернарда ему изменяет, и никакой уже связной фабулы нет, и он оседает, он дрожит, как рваная проволока, и умолкает, разинув рот, будто вот-вот разревется. Среди мук и опустошений, которые держит за пазухой жизнь, есть и такое – наш друг не в силах закончить свою историю.
– Ну вот, – Луис говорил, – пока мы не встали, пока не пошли пить чай, поднатужусь-ка я и остановлю, удержу мгновенье. Это останется. Мы сейчас разбредемся; кто чай пить; кто играть в теннис; я – показывать свое сочинение мистеру Баркеру. Это мгновенье останется. Из-за разлада, от ненависти (не терплю тяп-ляп скроенных образов – и меня бесит власть Персивала) расколотый разум – склеен заново внезапной догадкой. Беру деревья, беру облака во свидетели: я совершенно цельный. Я, Луис, которому суждено топтать землю семьдесят лет, рожден цельным, без разлада, без ненависти. Здесь, на этом кругу муравы, мы сидели, притянутые друг к другу силой внутренней тяги. Деревья качаются, плывут облака. Скоро, скоро наши монологи составят общую речь. Не век же нам, при каждом впечатлении жизни, издавать эти звуки простые, как гонг. В детстве ведь все звуки были просты, как гонг; плач; похвальбы; зовы на помощь; звонкие тычки по шее в саду.
Но вот – трава, и деревья, и заплутавший ветер, выдувающий прорехи на сини, и то, как они опять затягиваются взлохмаченной и тотчас прибранной снова листвой, и то, как мы сидим в кружок, обняв руками колени, – вдруг все это мне дает прообраз иного и лучшего мира, разумного навсегда. Я это угадываю на секунду, и сегодня ночью попробую закрепить в словах, выковать круг из стали, хотя Персивал его разрушает, бредет прочь, давит траву, и мелюзга подобострастно плетется за ним. Но именно Персивал мне и нужен; потому что Персивал вдохновляет поэзию.
* * *
– Сколько уж месяцев, – Сьюзен говорила, – сколько уж лет я взбегаю по этим ступенькам, унылыми днями зимы, знобкими весенними днями? Теперь самое лето. Мы поднимаемся, чтобы переодеться в белые платья для тенниса, – мы с Джинни, а сзади Рода. Я каждую ступеньку считаю, с каждой затаптываю что-то. И каждый вечер я выдираю из календаря старый день и стискиваю в жесткий комок. Со злостью стискиваю, когда Клара и Бетти стоят на коленках, а я не молюсь. Я мщу миновавшему дню. Вымещаю на его этом символе свою ненависть. Вот ты и кончился, умер, ты, школьный день, гадкий день. Все дни июня – сегодня двадцать пятое – тут разметили, располосовали ударами гонга, уроками, командами – умываться, переодеваться, заниматься, есть. Мы слушаем китайских миссионеров. Ездим на линейке по асфальту в концерты. Нас таскают по музеям и галереям.
А дома сено волнится в лугах. Папа курит, облокотясь на калитку. То одна дверь стукнет, то другая, когда пустым коридором несется летний упругий ветер. Старая картина, верно, качается на стене. Из вазы на стол падает розовый лепесток. Рой соломин догоняет телегу. Все это я вижу, вижу всегда, когда мы идем по лестнице мимо этого зеркала – Джинни впереди, Рода плетется сзади. Джинни вечно приплясывает на площадке, на этих противных плитках; кувыркается во дворе; сорвет запретный цветок, сунет за ухо, и темные глаза мисс Перри загораются от восхищенья – восхищенья Джинни, не мной. Мисс Перри любит Джинни; да я и сама бы любила, но я теперь никого-никого не люблю, только папу люблю, и моих голубей, и белку, которую оставила дома в клетке под призором того мальчишки.
– Не терплю маленькое зеркальце на этой площадке, – Джинни говорила. Только головы наши показывает; отрезает нам головы. А у меня чересчур большой рот, и глаза слишком близко посажены; и все десны видны, когда я смеюсь. Лицо Сьюзен, с ее этим твердым взглядом травянисто-зеленых глаз, в которые, Бернард говорит, еще не один поэт влюбится, так они опускаются на белую тонкую вышивку, – получше моего будет; даже у Роды лицо, мечтательное, опустелое, и то законченно, как те белые лепестки, которые она, бывало, пускала вплавь по своему тазу. Обгоню-ка я их, перепрыгну через ступеньки, поскорей побегу на ту площадку, где высокое зеркало, увижу себя с головы до пят. Ну вот, теперь я всю себя вижу – голову и тело; и даже в этом холстинковом платье я вся голова и тело – одно. Гляньте – вот повернула голову, и все мое узкое тело струится; даже тонкие ноги – и те струятся, как стебли на ветру. Между твердым лицом Сьюзен и туманностью Роды я мерцаю; дрожу и мерцаю, как те огоньки, что от трещины к трещине бегут по земле; я трепещу, я танцую. Дрожу, как тот листок дрожал на изгороди и напугал меня – тогда, в детстве. Я пляшу мимо этих скучных, полосатых, поносных стен, как по чайнику пляшет огонь камина. Даже от холодных женских взглядов я загораюсь. Вот я читаю, и за край нудной страницы учебника убегает лиловая полоса. Но ни единого слова я не могу удержать. Ни единую мысль не могу провести от настоящего к прошлому. Не умею, как Сьюзен, стоять, вся в слезах вспоминать дом; или, как Рода, забившись в папоротники, обзеленяя розовое платье, мечтать о цветах на дне морском, о скалах, между которыми проплывает медленно рыба. Я не умею мечтать.
Но надо поторапливаться. Чтобы первой стянуть это дурацкое платье. Вот они – мои чистенькие беленькие чулочки. Вот они – мои новые туфельки. Волосы я повяжу белой лентой, чтобы, когда буду прыгать по корту, она взвивалась, струясь, и опять обвивала мне шею. А причесочка чтоб оставалась – волосок к волоску.
– Это мое лицо, – Рода говорила, – там, в зеркале, за плечом у Сьюзен, это лицо – мое лицо. Но я пригнусь, я спрячу его, меня же здесь нет. У меня нет лица. У других есть; у Сьюзен и Джинни есть лица; вот они обе тут. Их мир вот этот реальный мир. То, что они поднимают, обладает тяжестью. Они говорят «Да»; они говорят «Нет»; а я маюсь и мнусь и в секунду видна насквозь. Если они встречают горничную, она на них смотрит и не смеется. А надо мною смеется. Они знают, что сказать, когда к ним обращаются. Они смеются по-настоящему; плачут – так уж плачут; а мне надо сперва посмотреть, как поступают другие, иначе я не знаю, что делать.
Подумать только, с какой поразительной убежденностью Джинни натягивает эти чулки – видите ли, чтобы в теннис играть. Мне, правда, больше нравятся ухватки Сьюзен, Сьюзен тверже, и она не то что Джинни, ей не обязательно красоваться. Обе меня презирают за то, что им подражаю; но Сьюзен всегда меня учит, например, как завязывать бант, а Джинни – что знает, то знает, и все держит при себе. У них есть подруги, они с ними садятся. У них есть о чем шушукаться по углам. А я привязываюсь только к именам и лицам; и храню их как амулеты против беды. Огляжу столовую, найду незнакомое лицо, а потом не могу чай проглотить, если та, чьего имени я не знаю, сядет напротив. Давлюсь. Меня всю трясет и качает. Вот я воображу, будто эти безымянные, безупречные люди подглядывают за мною из-за кустов. И высоко подпрыгну повыше, чтоб они мною восхищались. Ночью, в постели, я их и вовсе ошеломляю. Часто гибну, пронзенная стрелами, чтоб они поплакали надо мной. Если мне скажут или я по ярлыку на чемодане увижу, что кто-то был на каникулах в Скарборо, весь город рассияется золотом и светятся все мостовые. Потому я и ненавижу зеркала: они мне показывают мое истинное лицо. Когда одна, я часто проваливаюсь в ничто. Приходится ногу ставить с опаской, чтобы вдруг не свалиться за край света – в ничто. А то стукнуть в твердую дверь кулаком, чтоб воротиться назад, в себя.
– Мы опоздали, – Сьюзен говорила. – Теперь надо очереди ждать. Уляжемся в высокой траве, притворимся, будто смотрим, как играют Джинни и Клара, Бетти и Мэвис. А сами не будем смотреть. Ненавижу смотреть, как играют другие. Лучше буду воображать по очереди все, что особенно ненавижу, и потом закапывать в землю. Вот этот блестящий окатыш – мадам Карло, я поглубже ее закопаю за то, что она вся такая ласковая, такая обходительная, за шестипенсовик, который она мне дала, когда я ровно держала пальцы за гаммами. Я закопала этот ее шестипенсовик. Я всю школу бы закопала: рекреационный зал; классную; столовую, которая вся пропахла едой; и часовню. Эти серо-буро-малиновые плитки бы закопала, и масляные портреты стариков – благодетелей, основателей школы. Мне нравятся кое-какие деревья; эта вишня с каплями прозрачной смолы на коре; и еще один вид с чердака на дальние горы. А остальное я бы все закопала, как закапываю глупые голыши, вечно рассыпанные по здешнему соленому берегу с этими его пирсами и экскурсантами. Дома у нас волны в милю длиной. Зимой по ночам мы слушаем, как они бухают. Прошлый год на Рождестве один человек утонул: сидел в своей телеге и утонул.
– Когда мимо проходит мисс Ламберт, беседуя со священником, – Рода говорила, – у нее за спиной хихикают и передразнивают, как она горбится; но все меняется, делается светлей. И Джинни выше подскакивает, когда мимо проходит мисс Ламберт. Вот она, например, на ромашку посмотрит, и ромашка станет другая. На что ни посмотрит, все меняется под ее взглядом; но потом она ведь уходит, и все остается по-прежнему, да? Сейчас мисс Ламберт ведет священника через калитку в своей сад; а потом пойдет на пруд, увидит на листочке лягушку, и лягушка станет другая. Все так важно бледнеет и затихает, когда она стоит статуей под сенью аллеи. Шелестит, ускользая, шитый шелковый плащ, и только жаркое кольцо сияет, это винное, это аметистовое кольцо. Есть всегда какая-то тайна, когда кто-то уходит. Они уходят, а я не могу проводить их на пруд, облечь величавостью. Когда мисс Ламберт идет мимо, ромашки делаются другие; и все танцует, как ленты огня, когда она разрезает ростбиф. Месяц за месяцем все вещи теряют твердость; я и то теперь пропускаю свет; хребет у меня теперь мягкий, как воск возле свечного пламени. Я мечтаю; я вижу сны.
– Я взяла партию! – Джинни говорила. – Теперь вам играть. А я брошусь-ка на траву, отдышусь. Я совсем запыхалась от беготни, от победы. Я даже, по-моему, похудела – от беготни, от победы. Кровь у меня, наверно, сейчас ярко-ярко- красная и, как подстегнутая, колотится в ребра. Пятки горят, будто их металлическими проволочками покалывают. Я каждую былиночку отчетливо вижу. Но на висках, за глазами, так стучит, что все-все пляшет – сетка, трава; ваши лица летают, как бабочки; деревья буквально подпрыгивают, вверх-вниз. Ничего нет стоячего, ничего застывшего нет в этом мире. Все струится, все пляшет; все – быстрота и победа. Но вот я полежала одна на жесткой земле, насмотрелась на вашу игру, и мне уже хочется, чтобы меня заметили, чтобы позвали; кто-то один чтобы позвал, кто ищет меня, высматривает, кто жить без меня не может, и идет туда, где я сижу на своем золоченом стуле, и платье вокруг меня распускается, как цветок. И, удалясь в альков, или сидя одни на балконе, мы с ним говорим, говорим.
Но прилив отступает. Клонятся деревья; тугие волны, колотящиеся мне в ребра, опадают, стихают, и сердце встает на якорь, как парусник, когда паруса падают тихо на белую палубу. Кончилась игра. Пора чай пить.
* * *
– Эти хвастуны всей ватагой, – Луис говорил, – отправились на крикет. Покатили на своей линейке, хором голося песни. Все головы вмиг повернулись на углу, где лавровые заросли. Сейчас они, разумеется, хвастают. У Ларпента брат играл как-то в футбол за Оксфорд; отец Смита делал сотни на «Лордз»; Арчи и Хью; Паркер и Далтон; Ларпент и Смит – имена повторяются; вечно те же имена. Вечно они рвутся в бой; играют в крикет; записываются в научные общества. Строятся по четыре и маршируют отрядами, с эмблемами на фуражках; салютуют одновременно, завидя издали своего генерала. Какой восхитительный строй, какая дивная дисциплина! Только бы идти с ними, быть среди них, да я за это отдал бы все, что я знаю. Но они, оборвав им крылья, бросают трепещущих бабочек; расшвыривают грязные, слипшиеся, кровавые носовые платки. Доводят до рева маленьких по темным коридорам. Большие красные уши торчат у них из-под фуражек. И вот кем мы бы хотели быть – я и Невил. Я с завистью смотрю, когда они проходят. Подглядываю из-за шторы и наслаждаюсь слаженностью этих движений. О, если бы у меня были такие ноги, как бы я бегал! Если бы, с ними вместе, я выигрывал матчи, греб в регате, скакал целый день, о, как бы я орал эти песни ночами! Каким водопадом рокотали бы у меня в горле слова!
– Вот Персивал и уехал, – Невил говорил. – Он только об этом матче и думает. Даже не помахал, когда линейка огибала лавровый куст. Презирает меня за то, что я слишком хил для крикета (хоть всегда так сочувствует моей этой хилости). Презирает меня за то, что мне плевать, кто выиграет, кто проиграет, лишь бы он не расстраивался. Снисходит к моей преданности; принимает мою трепетную и, что говорить, приниженную жертву, замешенную на презрении к его уму. Он не умеет читать. Хотя, когда лежа в высокой траве, я читаю Шекспира или Катулла, он ведь понимает больше, чем Луис. Не слова – но что слова? Разве я не умею уже рифмовать, подражать Попу, Драйдену, даже Шекспиру? Но я не умею день целый торчать на солнцепеке, не отрывая глаз от мяча. Не умею всем телом чуять полет мяча, думать только об этом мяче. Видно, так уж суждено мне всю жизнь липнуть к поверхности слов. Но я не мог бы с ним вместе жить, терпеть его глупость. Он будет грубеть и храпеть. Женится, пойдут сцены нежности за завтраком. Но сейчас – как он юн. Ничегошеньки, ни листочка бумаги нет между ним и солнцем, между ним и дождем, и луной, когда он, голый, горячий, бросается на постель. Вот, едут на этой своей линейке, по лицу у него прыгают красные и желтые пятна. Он сбросит плащ, будет стоять на растопыренных, напряженных ногах, изготовив руки, уставив глаза на воротца. Будет молить: «О Господи, дай нам выиграть!»; только и будет думать, как бы им выиграть.
И разве я мог с ними поехать на этой линейке играть в крикет? Бернард тот мог бы, но Бернард опоздал. Он всегда опаздывает. Его неистребимая задумчивость ему помешала с ними поехать. Он моет руки и вдруг замирает, он говорит: «Муха попала в паутину. Надо спасать муху? Или оставить на съедение пауку?» Вечные неразрешимые вопросы мешают ему, не то бы он поехал с ними играть в крикет, валялся бы в высокой траве, смотрел на облака и вздрагивал, когда мяч попадет в цель. Но они бы его простили; он бы им рассказал историю.
– Укатили, – Бернард говорил. – А я опоздал. Жутковатые ребятишки, все, однако, такие красивые, и ты им так дико завидуешь, и Невил завидует, и Луис, – укатили, дружно повернув головы в одну сторону. Но мне недоступны эти глубочайшие категории. Мои пальцы пробегают по клавишам, не различая белых и черных. Арчи с легкостью делает сотню; я иной раз пятнадцать, если очень повезет. Ну – и какая разница? Но постой, Невил, дай слово сказать. Эти пузырьки поднимаются, как серебряные пузырьки со дна кастрюли; образ лезет на образ. Не могу я, как Луис, просиживать штаны над учебниками. Мне надо открыть люк, выпустить эти фразы, которые я, была не была, сцепляю в одно, нащупаю нить в волокне и пряду свою легкую пряжу. Давай, я расскажу тебе историю про нашего доктора.
Когда доктор Крейн после вечерних молитв ныряет в широкую дверь, он, кажется, убежден в своем безмерном превосходстве; и кстати, Невил, мы не станем отрицать, что это его отбытие оставляет в нас не одно чувство облегчения, но и такое чувство, будто у нас что-то удалили, ну, скажем, зуб. И когда он валко выйдет из распахнутой двери, последуем-ка и мы за ним в его квартиру. Вообразим, как он разоблачается в собственной комнате над конюшнями. Вот он отстегивает от резинок носки (позволим себе эту пошлость, позволим себе эту нескромность). Затем, характерным жестом (трудно избегнуть стертых оборотов, и в его случае они, в общем, даже уместны) он вынимает серебро, он вынимает медь из карманов и так и сяк раскладывает на своем туалетном столике. Уронив обе руки вдоль подлокотников кресла, он размышляет (момент сугубо интимный; но тут-то мы его и накроем): стоит переходить по розовому мостку в спальню или не стоит? Две эти комнаты объединены мостком розового света от лампы у изголовья миссис Крейн, которая, рассыпав волоса по подушке, читает французские мемуары. При этом она уныло, потерянно проводит рукой по лбу и вздыхает: «И это – все?», – сопоставляя себя с французской герцогиней. Итак, думает доктор, через два года – отставка. Буду плющ подстригать на изгороди у себя в саду. А мог бы стать адмиралом; судьей; не школьным учителишкой. Какие такие силы, он спрашивает, уставясь на газовое пламя, мощнее топыря плечи, чем мы привыкли (но он же без пиджака, не забудь), запихали меня сюда? Какие могучие силы? – думает он, уже не сбиваясь более с величавой поступи своего слога и через плечо поглядывая в окно. Ненастный вечер; небо метут тяжелые ветви каштанов. Нет-нет мигнет из-за них звезда. Какие могучие силы зла ли, добра привели меня сюда? – вопрошает он и замечает с тоской, что бордовый ворсистый ковер облысел под ножкой его кресла. Так и сидит он, болтая подтяжками. Но как, между прочим, трудно рассказывать истории про людей в их частных углах. Я не могу продолжать эту историю. Тереблю обрывок веревки; бренчу мелочью у себя в кармане.
– Истории Бернарда меня тешат, – Невил говорил, – тешат сначала. Но когда они вдруг глупо пресекаются, и он, разинув рот, теребит обрывок веревки, я чувствую, как я одинок. Очертания всех образов у него неразборчивы. Вот я и не могу заговорить с ним про Персивала. Как могу я доверить свою нелепую, свою отчаянную страсть его сочувственному вниманию? Из нее тоже выйдет «история». Мне бы кого-то с умом, сильным и острым, как опускающийся на колоду топор; кого-то, кто в пределе нелепости видит величие, и очарованье – в шнурках от ботинок. Ну кому я поведаю о невыносимости собственной страсти? Луис слишком холоден, слишком занят всеобщим. И вот – никого; среди этих серых аркад, и стонущих голубей, и веселых игр, и традиций, и соревнований все так слажено ловко, чтоб никто не томился одиночеством. Но, гуляя, я вдруг останавливаюсь как вкопанный, пораженный предчувствием. Вчера, проходя мимо открытых ворот в учительский сад, я увидел Фенвика, занесшего молоток. Пар из чайника млел над крикетным дерном. Голубели по каемке цветы. И вдруг нашло на меня темное, странное чувство восторга, обожания, ощущение совершенства, победившего хаос. Никто не замечал, как я застыл у ворот. Никто не догадывался, как отчаянно я хотел всего себя посвятить одному божеству; и погибнуть, исчезнуть. Молоток ударил; виденье разбилось.
Может быть, выискать какое-то дерево? Может, бросить все эти классные, и библиотеки, и большие страницы, по которым я читаю Катулла, ради полей и лесов? Бродить под буками, прогуливаться по-над рекой, где деревья так любовно сливаются со своим отражением? Но природа чересчур растительна, чересчур пресна. Я уже мечтаю о камине, об уединении, о чертах и жестах одного-единственного существа.
– Я уже мечтаю, – Луис говорил, – поскорей бы настал вечер. Когда стою перед крашенной под дуб дверью мистера Уикема, я воображаю, будто я – друг Ришелье или граф Сен-Симон, протягивающий табакерку самому королю. Это моя привилегия. Мои максимы, мои остроты с быстротою молнии облетают двор. Герцогини выдирают изумруды из серег от восторга – правда, все эти ракеты лучше взлетают ночами, во тьме моей комнатенки. А сейчас я всего-навсего мальчишка с провинциальным выговором, стоящий перед обиталищем мистера Уикема и заносящий кулак на крашеную дубовую дверь. День был полон унизительных промахов и торжества, скрываемого из-за боязни насмешек. Я лучший ученик в школе. Но когда падает темнота, я сбрасываю свою незавидную плоть – длинный нос, тонкие губы, провинциальный выговор – и обживаю мировое пространство. Я спутник Вергилия и Платона. Последний отпрыск великих французских династий. Но увы – мне же, покинув лунные, метельные территории моих полночных странствий, приходится стоять перед этой под дуб крашенной дверью. Ничего, я еще в своей жизни выплавлю – Бог свидетель, ждать осталось недолго – великолепную амальгаму из этих несоответствий, столь отвратительно очевидных для меня самого. Мне помогут мои страдания. А сейчас я постучу. Сейчас я войду.
* * *
– Я выдрала весь май, весь июнь, – Сьюзен говорила, – и двадцать июльских дней. Я их выдрала, сжала, скомкала, так что духу их не осталось, только одно стесненье в груди. Увечные дни, как бабочки с иссохшими крылышками, которым уже не летать. Их впереди всего восемь. Через восемь дней я выйду из поезда и в шесть двадцать пять буду стоять на нашем полустанке. И развернется моя свобода, и все ограниченья, которые мнут, иссушают – расписание, порядок и дисциплина, явка туда-сюда в точно назначенный миг, – лопнут и разлетятся. День распрыгается за дверью вагона, едва я ее отворю, и я увижу папу в гетрах, в его старой шляпе. Я вздрогну. Заплачу. А наутро встану чем свет. Выскользну черным ходом. Побреду на мой вересковый луг. Могучие кони под воображенными всадниками будут громыхать у меня за спиной и вдруг перестанут. Я увижу, как скользит над самой травой ласточка. Лягу на речном берегу и буду смотреть, как рыба плещется среди камышей. Мне в ладони впечатается хвоя. И там-то я разверну и вытащу то, что здесь нажила; то жесткое. Что-то во мне наросло за эти зимы и весны, на лестницах, в спальнях. Мне вовсе не нужно, как Джинни, чтобы мной восхищались. Мне не нужно, чтобы, когда я вхожу, все меня съедали восторженными глазами. Мне нужно дарить, и получать, и мне нужно уединение, чтобы в тишине разглядывать мои сокровища.
И я побреду обратно, дрожащими тропами, под тенью орешника. Я миную старуху с полной валежника детской коляской; и пастуха. И мы не остановимся поболтать. Я вернусь задами, и увижу кудрявые листья капусты в крапе росы, и в саду увижу слепой от занавешенных окон дом. Поднимусь к себе в комнату и стану перебирать свои заботливо схороненные в шкафу вещи: мои раковины; мои птичьи яйца; мои редкие травы. Покормлю моих голубей, мою белку. Пойду к конуре и причешу моего спаниеля. И так, понемножку, я выдавлю из себя то жесткое, что наросло во мне и теснит. Но вот звонок; шаркают, шаркают ноги.
– Ненавижу темноту, и сон ненавижу, и ночь, – Джинни говорила. – Лежу и жду не дождусь, когда уж утро настанет. Хорошо бы вся неделя была один долгий-долгий, сплошной такой день. Просыпаюсь ни свет ни заря – меня птицы будят – и лежу, и смотрю, как проступают из тьмы ручки комода; потом умывальник; потом вешалка для полотенец. Чем больше вещей проступает в спальне, тем чаще стучит у меня сердце. Я чувствую, как вся отвердеваю, делаюсь розовая, желтая, темная. Руки пробегают по ногам, по телу. Чувствуют бугорки, худобу. Я люблю слушать, как по дому прокатывается рев горна и начинается шевеленье – тут что-то шлепнется, там шелестнет. Хлопают двери; шуршит вода. Вот и он, новый день, новый день, – кричу я, спуская ноги с постели. Из него еще выйдет, может быть, непутевый день, гиблый день. Мне часто влетает. Часто я попадаю в опалу из-за того, что ленюсь, смеюсь; но даже когда мисс Мэтьюз распекает меня за мое несусветное легкомыслие, я разглядываю что-нибудь движущееся – скажем, прыгает по картине солнечный зайчик, или ослик тянет сенокосилку через лужок; плывет между ветками лавра парус, – так что унывать не приходится. Ничто мне не помешает приплясывать за спиной мисс Мэтьюз по пути на утренние молитвы.
Но скоро мы покончим ведь с этой школой, будем длинные юбки носить. Вечером я буду надевать бусы и белое безрукавое платье. Будут приемы в роскошных гостиных; и кто-то меня заприметит, будет говорить мне такие слова, каких никому еще в жизни не говорил. Я ему больше понравлюсь, чем Рода и Сьюзен. Он что-то такое во мне углядит, необыкновенное что-то. Только я не хочу привязываться к одному-единственному. Не хочу, чтобы мне подрезали крылышки. Я дрожу, как тот листик дрожал на изгороди, когда сижу на постели, болтаю ногами, и занимается новый день. У меня в запасе еще пятьдесят, еще шестьдесят лет. Я даже не отпирала своей кладовой. Это начало.
– Сколько часов еще ждать, – Рода говорила, – пока я выключу свет, и буду парить в моей постели над миром, и сброшу, стряхну с себя этот день, и буду растить свое дерево, и оно зеленым шатром раскинется над моей головой. Здесь я не могу его растить. Все время его подрубают. Задают вопросы, портят, вышвыривают его.
Вот я пойду в ванную, и сниму туфли, и умоюсь; и пока я умываюсь, пока наклоняю голову над раковиной, покрывало русской царицы течет у меня по плечам. Алмазы царской короны сияют во лбу. Я слышу рев мятежной толпы, выходя на балкон. И яростно тру полотенцем руки, чтобы госпожа, – позабыла, как ее, не заподозрила, что я грожу взбешенной толпе кулаком. «Я ваша царица, люди». Мое поведение вызывающе, я ничего не боюсь. И я побеждаю.
Но сон этот тонкий. И бумажное дерево. Мисс Ламберт его разрывает. Одна только тень ее, тающая в конце коридора, его разрывает, разбивает на атомы. Сон нездоровый; и сомнительное это удовольствие – быть царицей. Но вот сон разбит, разорван, расколот, я стою и дрожу в коридоре. Все потухло и выцвело. Пойду-ка я лучше в библиотеку, возьму там книгу, почитаю и посмотрю; и опять почитаю, опять посмотрю. Есть стихи такие – про изгородь. Я побреду вдоль этой изгороди, буду собирать цветы, опьяненный тонкий хмель, боярышник и терновник, и буквицу, которая теснится к маргаритке, и я зажму цветы в руке, положу их на блестящую парту. А потом я буду сидеть у самой влаги зыбкой и смотреть, как кувшинки раскрываются с улыбкой, и как обнялся дуб с зеленой ивой, и лилии будто светят им своею белизной. И я буду собирать цветы; и свяжу букет из этих изумрудных привидений, но кому я его отдам? – О! Кому? Но тут мой поток натыкается на что-то; глубинное течение напирает на дамбу; дрожит; и тянет; какой-то узел завязался в самой сердцевине; мешает. О! Как больно! Какая мука! Я гибну, я пропала. Но вот мое тело тает; я распечатана, раскалена. И мой поток вливается в глубокий, плодоносный прилив, крушит дамбу и течет – широко и вольно. Кому же мне отдать то, что льется теперь сквозь меня, сквозь мое горячее, мое текучее тело? Я соберу цветы. Я их подарю – О! Но кому?
Матросы околачиваются по набережной, и любовные парочки. Омнибусы прогромыхивают вдоль берега в город. Я буду дарить; обогащать; я буду возвращать миру его красоту. Я сплету венок из моих цветов, подойду, протяну руку и подарю – О! Но кому?
* * *
– Вот мы и получили, – Луис говорил, – (ведь сегодня последний день последнего семестра – Невила, Бернарда и мой последний день) все, что наши наставники могли нам дать. Состоялось знакомство; мир нам представлен. Они остаются, мы отбываем. Великий Доктор, которого я бесконечно уважаю, несколько валко перемещаясь между роскошными томами и нашими партами, роздал Горация, Теннисона, полное собрание сочинений Китса и Мэтью Арнольда с приличными случаю надписями. Я чту дарящую руку. Он говорит с совершеннейшей убежденностью. Для него слова эти истинны, мало ли что не для нас. Осипшим от глухого волнения голосом, проникновенно и нежно он нам сказал, что вот – мы расстаемся со школой. Пожелал нам – «Будьте мужественны, тверды». (В его устах цитаты – из Библии ли, из «Таймса» – звучат одинаково величаво.) Одни будут заниматься тем; другие сем. Иные не увидятся больше. Мы – Невил, Бернард и я здесь не увидимся больше. Жизнь нас разлучит. Но кое-что нас связало. Наша мальчишеская, беззаботная пора позади. Но – выкованы некие узы. Прежде всего мы наследовали традиции. Эти плиты стерты стопами шести столетий. На этих стенах начертаны имена воинов, государственных деятелей, нескольких неудалых поэтов (вот где пристроится и мое). Слава всем традициям, предосторожностям и предписаниям! Я немыслимо благодарен вам, мужи в черных рясах, и вам, покойники, за ваше водительство, ваш присмотр; но кой-какое неудобство останется; не все противоречия сглажены. За окном качают головами цветы. Я вижу диких птиц, и порывы, более дикие, чем эти птицы, терзают мое дикое сердце. У меня дикий взгляд; и закушен рот. Проносится птица; танцует цветок; а я только и слышу угрюмое буханье волн; огромный зверь прикован за ногу цепью. И топает, топает.
– Это заключительная церемония. – Бернард говорил, – последнейшая из всех церемоний. Нас обуревают странные чувства. Вот-вот кондуктор с флажком свистнет в свисток; и тронется плюющийся паром поезд. Хочется что-то сказать, что-то почувствовать, приличествующее оказии. Наш дух пламенеет; и сложены губы. Но вот влетает пчела и жужжит над букетом, который генеральша обнимает и нюхает без передышки, демонстрируя, как она польщена вниманьем. Что, если пчела ужалит высокопревосходительный нос? Мы все глубоко тронуты; но непочтительны; полны раскаянья; ждем, когда все это кончится; не хотим расставаться. Пчела нас отвлекает; летая как ни в чем не бывало, будто потешается над нашей торжественностью. Смутно жужжа, широко облетая нас, вот она обосновалась на красной гвоздике. Многие больше не встретятся. Мы лишаемся известных радостей, ибо вольны отныне ложиться спать и садиться когда нам заблагорассудится, а мне уже не придется таскать контрабандой свечные огарки и безнравственную литературу. Пчела, однако, кружит теперь над головой самого Доктора. Ларпент, Джон, Арчи, Персивал, Бейкер и Смит – как же я их всех полюбил. Я знал здесь только одного психопата; одного стервеца ненавидел. Я уже спокойно ласкаю мыслью довольно, впрочем, невыносимый завтрак у директора с сухариками и вареньем. Он один не замечает пчелы. Если она устроится у него на носу, он смахнет ее царственным жестом. Вот он отпустил свою остроту; вот голос ему почти изменил, но не то чтоб совсем. С нами простились – с Невилом, Луисом, со мной – навсегда. Мы берем свои блестящие, скользкие книги, наставительно освященные тесным, ломким почерком. Мы встаем; мы расходимся; напряжение отпускает. Пчела, став несущественным, непочтенным насекомым, улетает через распахнутое окно в безвестность. Завтра мы едем.
– Вот мы и расстаемся, – Невил говорил. – Тут чемоданы; тут такси. Там Персивал в своем котелке. Он забудет меня. Мои письма будут безответно валяться среди биглей и ружей. Я пошлю ему стихи и в ответ, может быть, сподоблюсь цветной открытки. Но за это ведь я его и люблю. Я предложу встретиться – под такими-то часами, на таком-то углу; буду ждать, а он не придет. За это я его и люблю. Все забыв, ничего почти не заметив, он уйдет из моей жизни. И я, как ни кажется такое немыслимым, тоже уйду – в другие жизни; еще может оказаться, что это только эпизод, только прелюдия. Я уже чувствую, хоть мне претит краснобайство доктора, его муляжные излияния, как смутно мглившееся впереди приблизилось к нам вплотную. И я теперь преспокойно смогу войти в сад, где Фенвик заносит молоток. И те, кто презирал меня, станут меня уважать, признают мою независимость. Но так уж я странно устроен, что мне мало этого уваженья, независимости; я всегда, через все завесы, буду проталкиваться к укромности, к шепоту наедине. И потому я ухожу в известных сомненьях, но радостно; предчувствую невыносимую боль; но, думаю, я выйду победителем из всех передряг и страданий; и наконец мне непременно откроется, чего я хочу. Вот я в последний раз вижу нашего благочестивого основателя, голубей над его головой. Пусть себе вьются над нею, ее убеляют под стоны органа в часовне. А я тем временем сяду в поезд; и, когда отыщу местечко в углу заказанного купе, я заслоню глаза книгой, чтобы спрятать слезы; заслоню глаза, чтобы наблюдать; чтобы подглядывать за единственным лицом. Вот и он, первый день наших летних каникул.
* * *
– Вот и он, первый день наших летних каникул, – Сьюзен говорила. – Правда, он пока еще свернут в рулон. Не буду я его разворачивать до самого вечера, пока не сойду на нашем полустанке. И принюхиваться к нему не буду, пока не почую прохладный, зеленый дух полей. Но и эти – уже не школьные поля; не школьные эти плетни; люди в полях заняты настоящей работой; валят на телеги настоящее сено; и коровы тоже настоящие, не школьные коровы. Но карболовый запах коридоров, меловой запах классных засел у меня в ноздрях. Лоснистая, наполированная доска стоит у меня в глазах. Надо ждать, пока поля и плетни, и леса и поля, и овраги, опрысканные утесником, и отдыхающие на запасных путях вагоны, и туннели, и хилая зелень пригородов, и женщины, развешивающие белье, и опять поля, и качающиеся на калитках мальчишки – заслонят ее, отделят и глубоко-глубоко закопают – школу, которую я ненавижу.
В жизни не пошлю своих детей в школу, в жизни не останусь в Лондоне ночевать. На этом большущем вокзале над каждым шагом стонет-убивается эхо. Свет – желтый, как под желтым навесом. Джинни тут живет. Водит своего песика гулять по этому асфальту. Все молча несутся по улицам. Ни на что и не глянут, кроме витрин. Головы все подпрыгивают на одном приблизительно уровне. Улицы стянуты телеграфными проводами. Дома – сплошное стекло, фестоны и фризы; а вот – двери, двери, и шторы в кружевах, сквозные портики, белые ступени. А я еду дальше; я опять уезжаю из Лондона; снова плывут поля; и дома; и женщины развешивают белье, и поля, и деревья. Вот Лондон затуманился, вот он скрылся, вот осыпался и пропал. Запах карболки, кажется, уже не такой резкий. Я чую запах колосьев и брюквы. Развязываю белую веревочку на бумажном пакете. Яичная скорлупа соскальзывает между колен. Остановки, остановки, станции, и прокатываются молочные бидоны. Вот женщины целуются, одна другой помогает нести ведро. Пора высунуться из окна. Ветер хлынул в лицо, бросается в нос, струится по горлу – холодный ветер, соленый ветер, и брюквой пахнет. А вот и папа, спиной стоит, разговаривает с каким-то фермером. Я вздрагиваю. Я плачу. Это папа в гетрах. Мой папа.
– Я уютно сижу себе в уголке, – Джинни говорила, – а меня уносит на север ревущий экспресс, и он такой плавный, он расплетает плетни, удлиняет горы. Мы летим мимо стрелочников, а земля из-за нас раскачивается из стороны в сторону. Дали все время сходятся в одну точку, а мы их все время опять широко раздвигаем. Без конца вырастают телеграфные столбы; сшибем один – другой выскочит. Вот мы с грохотом ввинчиваемся в туннель. Господин закрывает окно. Туннель летит за блестящим окном, а я разглядываю отражения. Господин опустил газету. И улыбается моему отраженью в туннеле. Мое тело тотчас, само по себе, выпускает рюшик под его взглядом. Ей-богу, само по себе, я за него не отвечаю. Черное окно снова делается зеленым, прозрачным. Мы вырвались на простор. Он читает свою газету. Но уже наши тела послали друг другу привет. Существует огромное сообщество тел, и мое там представлено; введено в гостиную, где стоят золоченые стулья. Как интересно – все окошечки пляшут вместе с белыми занавесочками; и мужчины, повязанные голубыми носовыми платками, сидя на плетнях среди пшеничных полей, отдаются, как вот и я, жаре и восторгу. Один даже нам помахал. В маленьких садиках лиственные аркады, беседки, и полуголые мальчики на стремянках подправляют розы. Всадник пустил коня через поле рысцой. Конь прядает нам вслед. А всадник поворачивается и смотрит. Снова мы грохочем по тьме. А я откидываюсь на сиденье; просто блаженство; я думаю, как вот туннель кончится, и я войду в озаренную залу, где стоят золоченые стулья, и на один из них упаду под восхищенными взглядами, и колоколом вздуется платье. Но что это – я поднимаю глаза и напарываюсь на острый взгляд кислой тетки, которая, видно, унюхала во мне это блаженство. Мое тело защелкивается у нее перед носом, нахально, как зонтик. Я закрываю его и открываю, когда мне взбредет на ум. Жизнь начинается. Я отпираю свою кладовую.
– Вот и он, первый день наших летних каникул, – Рода говорила. – И пока мы скользим мимо синего моря и красных скал, триместр, с которым покончено, обрисовывается позади. Я вижу его цвета. Июнь был белый. Я вижу луга, белые от ромашки, от платьев; и в белых пятнах теннисный корт. Потом был ветер и фиолетовый гром. Ночью как-то плыла между туч звезда, и я сказала звезде: «Спали меня дотла». И был Иванов день, и прием в саду, и мой позор на этом приеме в саду. Буря и ветер – вот краски июля. А еще – смертная, жуткая, лежала та серая лужа в середине двора, когда я несла в руке конверт и должна была его передать. Я подошла к той луже. Я не могла через нее перейти. Я была уже не я. Кто мы все и откуда, подумала я – и упала. Меня подхватило, как перышко, меня понесло по туннелю. Потом, осторожно, опасливо, я переставила ногу. Рукой оперлась о кирпичную стену. Мне было больно, я опять возвращалась в себя, в свое тело, над смертной, жуткой лужей. Такая уж, значит, мне выдалась жизнь.
И я выключаю, гашу эти летние каникулы. Прерывисто, толчками, вдруг, как прыгает тигр, жизнь встает, поднимая темный гребень из моря. Вот к чему нас приковали; к чему привязали, как привязывают к норовистым коням. Мы зато изобрели способы замазывать щели, штопать дыры. Вот контролер; двое мужчин; три женщины; кошка в корзине; я сама, упершая в подоконник локоть – такая реальность. Мы останавливаемся, мы едем дальше шепчущимися, золотыми полями. Женщины в полях удивляются, почему мы их здесь оставляем мотыжить. Поезд теперь топает тяжко, дышит сипло, со стоном берет высоту. Теперь мы на вересковом пустынном нагорье. Только несколько диких овец тут живут; несколько косматых лошадок; а у нас все мыслимые ухищренья комфорта; подставки для наших газет, настенные кольца для наших стаканов. И мы волочим с собой все эти удобства по пустоши. Вот мы на вершине. Тишина сомкнется за нами. Если гляну назад, за эту лысую маковку, сверху увижу, как тишина уже смыкается и тени туч одна другую гонят по пустой высоте; тишина смыкается над нашим мгновенным пробегом. Вот он – теперешний миг; вот он – первый день моих летних каникул. Частица выныривающего чудища, к которому нас приковали.
* * *
– Вот мы и едем, – Луис говорил. – Я, ни к чему не привязанный, болтаюсь над бездной. Мы нигде. Мы едем по Англии в поезде. Англия летит за окном, постоянно меняясь – горы, леса, реки, ветлы и опять города. А мне, собственно, некуда деться. Бернард и Невил, Персивал, Арчи, Ларпент и Бейкер – те едут в Оксфорд, в Кембридж, в Эдинбург, Рим, Париж, Берлин, в какой-нибудь американский университет. Я же буду неведомо где неведомо как зарабатывать деньги. И потому тяжелая тень, резкое ударение падает на эти жнивья, эти красные маковые поля и хлеба, а они текут под ветром и никогда не перетекут за межу, но тихой зыбью угомонятся по краю. Это первый день новой жизни, еще одна спица в поднимающемся колесе. Но я пролетаю, как легкая тень птицы. Я бы и растаял, как эта тень на лугу – вот блекнет, густеет, вдруг исчезла в лесу, если бы малодушно ослабил усилие мысли; я хочу, я пытаюсь удержать этот миг хоть бы единственной строчкой ненаписанных строф; пометить эту малую йоту долгой-долгой истории, которая начиналась в Египте, во времена фараонов, когда женщины ходили с красными кувшинами к Нилу. Я прожил, кажется, уже тысячи, тысячи лет. Но если сейчас я закрою глаза, не замечу той точки, где прошлое сходится с нынешним (где я сижу в вагоне третьего класса, набитом мальчишками, едущими домой на каникулы), у истории будет украден этот единственный миг. Ее глаз, который смотрит моими глазами, сомкнется – если сейчас я засну, от лени, от трусости зарывшись в прошлое, в темноту; или позволю себе, как Бернард себе позволяет, рассказывать сказки; или стану хвастаться, как Персивал хвастается, и Арчи, Джон, Уолтер, Лейтом, Ларпент, Ропер, Смит – имена повторяются, вечно те же, имена хвастунов. Все они хвастаются, все болтают, кроме Невила, тот только скользит по ним взглядом из-за края французской книжки, и так всегда он будет скользить, ускользать к камину, к уютной гостиной, где ждет его бездна книг и один-единственный друг, пока я буду горбатиться за конторкой на казенном стуле. И я буду злиться, ехидничать. Буду завидовать плавности их продвиженья под сенью традиций и вековых тисов, тогда как я поневоле якшаюсь с конторскими крысами или с мужланами и вытаптываю лондонские мостовые.
Но сейчас, бесприютно, бесплотно, я пролетаю полями (вот река; кто-то удит; шпиль, деревенская улица, стрельчатые окна трактира), – и все во мне сонно и зыбко. Эти тяжелые мысли, эта зависть и злоба не находят во мне приюта. Я призрак Луиса, внезапный прохожий, над которым властны мечты и дивные золотые звуки, когда ни свет ни заря плывут над бездонной глубиной лепестки и поют птицы. Я плещусь, я на себя брызгаю ясной водой детства. Его нежная пленка дрожит. Но прикованный на берегу зверь все топает, топает.
– Луис и Невил, – Бернард говорил, – оба примолкли. Оба задумались. Присутствие посторонних разделяет их, как стена. А когда я оказываюсь среди людей, тотчас слова клубятся, как кольца дыма – фразы вьются, слетая с губ. Будто спичку к хворосту поднесли; он и загорелся. Вот входит пожилой, сытый такой господин, коммивояжер, судя по виду. И сразу же мне хочется к нему подкатиться; честно говоря, меня чуть коробит это его присутствие среди нас, холодное, замкнутое присутствие. Не люблю обособленности. Мы не отдельны. И потом, я хочу пополнить свою коллекцию ценных наблюдений над человеческой природой. Труд мой будет, конечно, во многих томах и охватит всевозможнейших особей обоего пола. Я вбираю в себя все, что мне попадется – в комнате ли, в железнодорожном вагоне, как из чернильницы вбирают вечным пером чернила. У меня вечная, неутолимая жажда. Сейчас, по каким-то едва уловимым признакам, я и сам пока толком их не пойму, потом разберусь, я чувствую, что его неприязнь начинает подтаивать. Выгородка дает трещину. Он что-то заметил насчет какого-то сельского дома. Одно пущенное мной колечко (насчет видов на урожай) зацепляет его и вовлекает в беседу. Что-то есть обезоруживающее в человеческом голосе – (мы не отдельны, мы все – одно). Пока мы обмениваемся немногими, но любезными замечаниями о сельских домах, я его подчищаю и делаю осязаемым. Он снисходительный муж, при том что изменяет жене; мелкий строительный подрядчик, нанимает одного-другого работника. В своих краях он важная шишка; сейчас уже член муниципалитета, метит, пожалуй, в мэры. На часовой цепочке болтается коралловый брелок – нечто вроде двойного, огромного, выдернутого с корнями зуба. Уолтер Джи Трамбл – вот такое имя ему в самый раз. Он побывал по делам в Америке, брал с собою жену, и двойной номер в заштатной гостинице встал ему в месячное жалованье. В переднем зубе у него золотая пломба.
Что поделать, рассуждения – это не по моей части. Мне подавай осязаемость. Только так я могу ухватить мир. Правда, хорошая фраза и сама по себе, по-моему, тоже не фунт изюма. Хотя лучшие, я думаю, вырабатываются в одиночестве. Они требуют заключительного остужения, а откуда мне его взять в этом вечном плеске теплых, текучих слов. Мой подход, однако, имеет ряд своих преимуществ. Невил морщится от вульгарности Трамбла. Луис, скользя взглядом, как ходульным шагом надменного журавля, будто сахарными щипцами выбирает слова. Что правда, то правда, взгляд у него – дикий, пляшущий, отчаянный взгляд – выражает что-то, недоступное нашему пониманию. В них обоих – в Невиле, в Луисе – есть четкость, определенность, которой я восхищаюсь, хоть она, увы, не про меня. Но вот до меня смутно доходит, что пора пошевеливаться. Мы подъезжаем к узловой; там мне пересаживаться. Чтоб сесть в поезд на Эдинбург. Мне никак не ухватить этот факт – перекатывается среди мыслей, как пуговица, как медная мелочь. Милый старикан уже тут как тут, собирает билеты. У меня есть билет – разумеется, есть. Впрочем, не все ли равно. Либо я найду его, либо я его не найду. Обшариваю бумажник. Обыскиваю все закоулки карманов. Вечно что-нибудь да помешает делу, которым я вечно занят, – поискам совершенной фразы, точно попадающей в этот вот, уже улетевший миг.