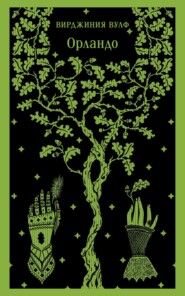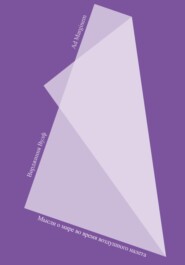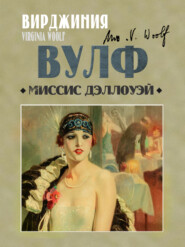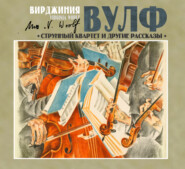По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Волны. Флаш
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я опять притворяюсь, будто читаю. Поднимаю книгу так, что почти заслоняю глаза. Но я не могу читать при водопроводчиках и коневодах. И не умею втираться в доверие. Я не в восторге от этого человека; он от меня не в восторге. Так надо же по крайней мере быть честным; да, мне претит этот вздорный, торный, пустопорожний мир; эти конским волосом начиненные сиденья; эти расцвеченные фотографии молов и променадов. Хочется в голос кричать от уютного самодовольства, от бездарности этого мира, который плодит коневодов с коралловыми брелоками на цепях. Что-то сидит во мне такое: всех бы их свел под корень. Они заерзают на сиденьях от моего хохота; с ревом бросятся врассыпную. Нет; они бессмертны. Они торжествуют. По их милости я никогда не смогу читать Катулла в вагоне третьего класса. С октября мне придется от них укрыться в каком-нибудь университете, где я заделаюсь доном; и поеду со школьными учителями в Грецию; и буду вещать на развалинах Парфенона. Уж лучше бы мне разводить лошадей, жить в таком вот кирпичном домишке, чем копошиться, как червь, в черепах Софокла и Еврипида, бок о бок с возвышенно-тонкой женой из этих ученых дам. Но такая, видно, мне выпадает судьба. Я буду страдать. Я даже сейчас, в свои восемнадцать, способен на такое презренье, что коннозаводчики меня ненавидят. Это моя победа; я не иду на компромиссы. Я не робкого десятка; у меня правильное произношение; я не ношусь, как Луис, с заботой «как отнесутся люди к тому, что мой отец брисбенский банкир».
Меж тем мы приближаемся к центру цивилизованного человечества. Вот и знакомые газометры. Оплетенные асфальтовыми лентами парки. Парочки беспардонно милуются прямо на жухлой траве. А Персивал сейчас подъезжает к Шотландии; едет вдоль ржавых топей; вдалеке уже видит долгие Пограничные горы, Римскую стену. Читает детективный роман, но все зато понимает.
Поезд потягивается, медлит, мы приближаемся к Лондону, к центру; а сердце во мне тронулось и покатилось – от страха, от радости. Меня ждет здесь – что меня ждет? Какая нежданная радость подстерегает меня среди почтовых вагонов, носильщиков, толп, осаждающих такси? Я вдруг становлюсь потерянным, крошечным и – ликую. Легонько дернувшись, мы остановились. Пропущу всех вперед. Посижу тихонько минутку, прежде чем вольюсь в этот хаос, этот вихрь. Зачем мне думать про то, что будет. Огромный рокот стоит в ушах. Приливает и отливает под стеклянной крышей, как море. Нас швыряет на платформу вместе с нашими пожитками. Нас относит друг от друга. Я почти забыл о себе; о своем презрении. Меня втягивает, волочит, подбрасывает до небес. Я ступаю на платформу, крепко ухватив все свое достояние – один чемодан.
Солнце встало. Желтые, зеленые мазки легли на песок, позолотили ребра изглоданной лодки, а прибрежный осот со своей кольчужной листвой отливал теперь синим, как сталь. Свет чуть не насквозь пробивал тонкие, быстрые волны, когда они укрывали веером берег. Та самая девочка, которая, тряхнув головой, пустила в пляс все топазы, аквамарины, все каменья морского цвета с огненной искрой, теперь смахнула кудри со лба и, широко глядя, вышла на прямую тропу по волнам. Потемнели сверкающие барашки; волны громадились; углубились и почернели их зеленые впадины, где проплывали, наверное, косяки кочующей рыбы. Остывая, море по ободкам оставляло прутики, пробки, солому, как будто легкий бриг затонул и разбился, а моряки спаслись вплавь, взобрались на скалы, а хлипкий груз пустили на волю волн.
Птицы в саду, на заре напевавшие вразброд, по наитию, то на том кусте, то на этом, теперь распевали хором; то все вместе грянут одну общую ноту в сознании общего дела, то какая-нибудь вдруг затянет отдельно, будто для голубого, белесого неба. Они взмывали всей стаей, когда некстати объявится среди кустов черный кот или стряпуха стукнет совком, стряхивая пепел в зольник. Страх был в их песне, и предчувствие боли, и решимость погибнуть – так с музыкой. А еще они норовили друг дружку перещеголять, и высоко взлетали над вязом, и пели, пели, летали взапуски, гоняли друг дружку, ускользали, клевались, кубарем перекатывались по вышине. А потом, устав от ловитвы, они нежно снижались, все глубже ныряли в воздух, и падали, и, примолкнув, усаживались на дерево, на забор, ярко сияли глазами и туда-сюда поворачивали головки; бдительно, сторожко; напряженно занятые все чем-то одним.
Быть может, их занимала раковина улитки, поднимающаяся в траве, как серый собор, как купол в черных кольцах с подпалинами, подсвеченный зеленью. Или они дивились власти пионов – свет превращать в текучую лиловость над клумбами, в которых между стеблей прорыты темно-лиловые штольни. Или они сосредоточили взгляд на мелкой, яркой яблоневой листве, подрагивающей, дробно мерцая среди острого розового цвета. Или они видели каплю дождя на изгороди, и она висела, не падала, и в себе держала вогнутый дом и огромные вязы; а может быть, птицы глядели прямо на солнце, и глаза их стали золотыми бусинами.
Оглядевшись, они засматривали вглубь, под цветы, в подвалы неозаренного мира, где гибнет лист, куда свалилась мертвая голова цветка. Потом кто посмелей, прелестно вспорхнув, точнехонько приземлясь, клюнет нежное, мерзкое тело беззащитного червяка, клюнет разок, и еще, и еще, и оставит его разлагаться. Среди корней, там, где гнили цветы, наплывали порывами мертвые запахи; бухли на вздутьях капли. На перезрелых плодах лопалась кожура, проступало что-то и, слишком густое, не вытекало. Слизни прыскали желтым; а то вдруг кто-то бесформенный, о двух головах по обоим концам, медленно колыхался из стороны в сторону. Золотоглазые птицы, порхая среди листвы, разглядывали эту гнойную сырость с насмешливым недоумением. И вдруг, ни с того ни с сего, остервенело нацеливали и смыкали небрезгливые клювы.
А солнце меж тем подкралось к окну, пощупало красную бахрому занавески, принялось выводить круги и узоры. Вот, вплыв в комнату на волне окрепшего дня, оно плеснуло белизной на тарелку; и загустел блеск ножа. На заднике проступили комоды и стулья, они плавали покуда каждый отдельно, но уже чувствовалась в них неразрывная связь. Забелело озеро-зеркало на стене. Кроме живого, на подоконнике, объявился в комнате призрак цветка. И был он не сам по себе: вот на подоконнике раскрылся бутон, и цветок в стекле, побледней, покорно раскрылся тоже.
Ветер окреп. Волны грохотали на берегу, будто воины в тюрбанах, будто люди в тюрбанах с ядовитыми дротиками, высоко занеся руки, несутся на пасущиеся стада, на белых овец.
– Все сплетается сложней и тесней, – Бернард говорил, – здесь, в колледже, где почти невыносим напор жизни, и волнение от того, что вот ты живешь, изо дня в день нарастает. Каждый час что-то выуживаешь новое из этого мешка-лотереи. Кто я? – я спрашиваю. – Это? Нет, я – то. Сейчас в особенности, когда я ушел из комнаты, от разговора, и каменные плиты звенят под моим одиноким шагом, и я смотрю, как удивленно далекая, важная, выкатывает из-за древней церкви луна, во мне не один, простой человек, а множество сложных. Бернард на публике – душа общества; в тесном кругу он скрытный. Вот чего им не понять; ведь сейчас они, уж ясное дело, перемывают мне косточки: я уклончивый, я их избегаю. Им не понять, что мне приходится осуществлять разные превращения; прикрывать появления и уходы множества разных людей, попеременно разыгрывающих роль Бернарда. Я феноменально чувствую окружение. Совершенно не могу читать книжку в вагоне третьего класса, не задаваясь вопросом – он строитель? у нее неприятности? Сегодня я остро чувствовал, каково бедняге Саймсу с его этим прыщом сознавать всю обреченность своих попыток произвести впечатленье на Билли Джексона. Болезненно это чувствуя, я его с жаром пригласил на обед. Что он и приписал восхищению, которого нет и в помине. Вот уж воистину. Однако «вместе с женской чувствительностью (тут я цитирую своего биографа) Бернарду присуща мужская трезвая логика». Но люди, которые с первого взгляда ясны и сразу к себе располагают своей простотой (которая почему-то считается добродетелью), – это те, кто держит нос по течению. (Так и вижу рыб, в одну сторону повернувших носы в несущемся мимо потоке.) Кэнон, Хокинс, Лайсетт, Питерс, Ларпент, Невил – все такие вот рыбы. Но ведь ты-то знаешь, ты, мое я, всегда поспешающее на зов (жуткое, надо полагать, впечатленье, когда позвал, а никто не явился; оно делает полой полночь и объясняет странное выражение, приросшее к лицам клубных стариков, – они отчаялись вызывать свое я, которое не приходит), ты-то знаешь, как поверхностно я представлен тем, что сегодня вечером говорил. Изнутри, и в тот самый миг, когда с виду я бесконечно разъят, я предельно собран. Я бурно изливаю сочувствие; а сам сижу, холодный, как жаба, и мне на все наплевать с высокой горы. Ну кто из вас, из тех, кто сейчас перемывает мне косточки, умеет так разветвляться умом и чувством? Лайсетт, видите ли, обожает гонять зайцев; Хокинс в поте лица трудился после обеда в читальне. Питерс завел подружку в библиотеке, где выдают книги на дом. Все вы заняты, впряжены, включены, по горло загружены, по макушку заряжены – все, кроме Невила, у которого ум слишком сложен, чтобы вдохновляться одной какой-нибудь деятельностью. Ну и я слишком сложен. Что-то во мне вечно плывет, не вставая на якорь.
Ну так вот, в доказательство моей чувствительности к атмосфере, – едва я вхожу в комнату, включаю свет, вижу лист бумаги, стол, мой халат, сонно раскинувшийся на спинке кресла, я мгновенно себя ощущаю тем именно лихим, хоть и рассуждающим человеком, тем рисковым, отчаянным типом, который, великолепно скинув плащ, хватает перо и с ходу строчит письмо девушке, в которую он влюблен без памяти.
Да, все чудно. Я в ударе. Могу с ходу намахать письмо, к которому сто раз приступался. Я только-только вошел; отшвырнул трость и шляпу, я катаю все, что бежит под перо, не потрудившись даже прямей положить бумагу. Это будет блистательный опус, писанный, она решит, единым духом, взахлеб. Смотрите, как буквы спешат – а вот и беспечная клякса. Всё – в жертву скорости и беспечности. Писать надо быстрым, мелким, летучим почерком, вот так, влёт простреливая н и подсекая ш. Дата – только вторник, 17, и потом рассеянный вопросительный знак. Но все же надо дать ей понять, что хотя он – ибо это не я – пишет так неряшливо, спешно, именно тут-то и кроется тонкий намек на доверенность и уваженье. Надо сослаться на наши с ней разговоры, вызволить из памяти полузабытые сцены. И еще – пусть она думает (это так важно), что я перескакиваю с одного на другое с поразительной легкостью. От службы по утопленнику (у меня для нее заготовлена фраза) перейду к миссис Моффат и ее изречениям (я кое-что записал), а затем к наблюдениям, как бы походя сделанным, но на самом деле глубоким (самая глубокая критика, кстати, часто пишется походя), по поводу книжки, которую прочитал, какой-нибудь незаезженной книжки. И пусть она думает, расчесывая волосы или задувая свечу: «Где же я это читала? А-а, да, у Бернарда в письме». Натиск, жар, расплавленность, перетеканье одной фразы в другую – вот чего я добиваюсь. Кого я при этом держу в уме? Байрона, разумеется. У меня, в общем, есть что-то от Байрона. Может, глоточек Байрона меня разогреет. Прочту-ка страницу. Нет; тут нудновато; тут темно; тут общее место. Но кое-чего я набрался. Заразился. Зарядился биением его мысли (ритм – главное при письме). Так что приступим не мешкая, отдавшись ритму набегающих строк…
Но вдруг все никнет. Лопается. Не удалось поддать пару, с разбега одолеть перелет. Мое истинное я отвалилось от вымышленного. А если начну переписывать, она сразу учует: «Бернард строит из себя литератора; Бернард думает про своего биографа» (что правда). Нет, лучше напишу письмо завтра, сразу с утра, как чаю напьюсь.
А пока подпитаюсь воображаемыми картинами. Предположим, меня пригласили погостить в Кингс-Лотон, в трех милях от Лангли. Я приезжаю в сумерках. Несколько псов бродят на длинных лапах по двору обветшалого, но благородного дома. Блеклые ковры в прихожей; военного вида джентльмен курит трубку, меряя шагами террасу. Печать благородной бедности и военных лет. Конское копыто на письменном столе – память о любимой лошадке. «Ездите вы верхом?» – «Да, сэр, я люблю верховую езду». – «Дочь нас ожидает в гостиной». Сердце мое отчаянно бухает в ребра. Она стоит у низкого столика; только что вернулась с охоты; за обе щеки уминает бутерброд. Я произвожу прекрасное впечатление на полковника. Я не то чтобы слишком лощеный, он думает; и не то чтобы неотесанный. Вдобавок я играю на бильярде. Входит вышколенная горничная, уже тридцать лет прослужившая семейству. Тарелки расписаны экзотическими длиннохвостыми птицами. Над камином – портрет ее матери в кисее. Мне ничего не стоит набросать все подробности обстановки. Но дальше – что с ними делать? Как мне расслышать ее голос – тот особенный тон его, когда мы останемся наедине и она скажет «Бернард»? И дальше, потом – что?
Нет, видно, мне нужно черпать вдохновение со стороны. Один, над угасшим огнем, я склонен сам замечать слабину своих историй. Настоящий писатель, идеально простой человек, так бы вот и сидел, и выдумывал до бесконечности. Он не стремился бы к обобщеньям, как я. Его бы не мучил, не пугал этот пепел в мертвом камине. Какая-то пелена опускается мне на глаза. И все застилает. Я перестаю сочинять.
Надо припомнить. Был, в общем, скорее приятный день. К вечеру в душе у меня, под застрехой, скопилась круглая, разноцветная капля. Утро: погода прекрасная; вечер: ходил погулять. Люблю смотреть на эти дальние шпили за полем; ловить их промельки между плечами прохожих. Все так и запрыгивало мне в глаза. Я был нежен, размаян фантазиями. После ужина я был эффектен. Я чеканил, я отливал в форму многое из того, что было говорено про общих друзей. Я легко осуществлял эти перевоплощенья. Но теперь, сидя над серым пеплом с черными прожилками голого угля, я задаю себе роковой вопрос: кто же я на самом деле из всех этих людей? Очень многое ведь зависит от комнаты. Если я сейчас позову: «Бернард» – кто явится? Правдивый, остро-насмешливый тип, лишенный иллюзий, но не озлобленный. Неопределенного возраста, без определенных занятий. Всего-навсего – я. Он-то и грохочет сейчас кочергой, вороша золу так, что она низвергается ливнем с решетки. «О Господи! – бурчит он себе под нос. – Экое свинство!», а потом прибавляет мрачно, но с некоторым облегченьем: «Ничего, миссис Моффат придет и все подметет…» Небось я не раз еще повторю эту фразу, грохоча и мотаясь по жизни, ударяясь то об одну стенку поезда, то об другую. «Ах да, миссис Моффат придет и все подметет». А сейчас – спать, спать.
– В мире, который содержит вот это мгновенье, – Невил говорил, – зачем раскладывать все по полочкам? Зачем всему давать имена, раз ничто все равно не изменится? Пусть лучше так останется – этот берег, и эта прелесть, и я, окунувшийся на секунду в блаженство. Пригревает солнце. Я вижу реку. Вижу деревья, облитые, подпаленные светом осени. Шлюпки скользят мимо, по зеленым, по красным мазкам. Далеко-далеко звонит колокол, но не по мертвому. Бывает, колокола ведь вызванивают и жизнь. Лист свалился – это от радости. Ох! Я без ума от жизни! Как стреляет в воздух тоненькими ветками эта ива! Как проплывает сквозь нее эта шлюпка, унося разнеженных, праздных, сильных юнцов. Слушают граммофон; едят из бумажных кульков фрукты. Швыряют банановые шкурки, угрями ныряющие в реку. Все это получается у них так красиво! За ними сквозят графинчики, безделушки; комнаты увешаны олеографиями, завалены веслами, но и это почему-то красиво. Шлюпка прошла под мостом. Вот другая. И еще. Там Персивал, лежит в подушках, монолитный, в неколебимом, величавом покое. Да нет, это кто-то из его подлипал изображает его монолитность, его величавый, неколебимый покой. Он один не знает об их обезьяньих штучках; если застукает, добродушно мазнет по физиономии лапищей. Вот и эти проплыли под мостом «сквозь струи потупленных ив», сквозь нежные штрихи золота и багрянца. Дрожит ветерок; колышет занавес; сквозь листья глядят почтенные, но такие счастливые строенья, они кажутся пористыми, лишенными веса; стройные, хоть с баснословных лет вросли в этот древний дерн. И знакомый ритм набухает во мне; сонные слова просыпаются, накатывают, взметают гребни, опадают, накатывают, опадают и накатывают опять. Я поэт, да. Ну конечно, я великий поэт. Шлюпки, юнцы, дальние ивы, «летучие струи потупленных ив». Я все это вижу. Я все это чувствую. Вот оно – вдохновенье. Счастье стоит в горле. Но, все это чувствуя, я подстегиваю себя и взбиваю, взбиваю свой жар. Он пенится. Делается натужным, неискренним. Слова, слова, слова, как они скачут, как машут хвостами, долгими гривами, но есть какой-то изъян во мне, я не могу их взнуздать; не могу лететь, как они, разметывая теток с плетенками. Какой-то во мне порок, роковая какая-то нерешительность, которая, если дать ей волю, оборачивается пеной и фальшью. Но быть не может, что я не великий поэт. Что же я написал вчера вечером, если это не поэзия? Или я слишком быстро пишу, слишком легко? Не знаю. Я и сам себя иногда не знаю, или – как измерить, счесть, назвать те частицы, что делают меня собой.
Что-то вдруг от меня отрывается; что-то от меня уходит навстречу смутной фигуре, которая близится и еще перед тем, как я ее разглядел, меня убеждает в том, что это кто-то знакомый. Как странно меняешься от присутствия друга, даже поодаль. Какую службу сослужает нам друг, когда нас окликнет. Но как больно, когда окликнут, смажут, что-то подмешают к твоему я, сделают тебя частью кого-то еще. Вот он подходит, и я уже не Невил, но Невил, перемешанный с кем-то еще – с кем? – с Бернардом? Да, это Бернард, и Бернарду я задам свой вопрос. Кто я?
– Как странно, – Бернард говорил, – выглядит эта ива, когда мы смотрим на нее вместе. Я был Байрон, и она была байронической, слезной, тихоструйной, горюющей. А теперь она вся такая причесанная, веточка к веточке, и мне хочется тебе рассказать, что, под влиянием твоей ясности, я сейчас чувствую.
Я чувствую твое недовольство, я чувствую твою силу. С тобою рядом я становлюсь неряшливым, импульсивным студентом, чей грубо-пестрый платок вечно засален гренками. Да, я держу в одной руке «Элегию» Грея[5 - Томас Грей (1716–1771) – английский поэт; программное стихотворение Грея «Элегия, написанная на сельском кладбище» известно в России в вольном переложении В. Жуковского.]; а другой выуживаю из-под самого низа гренок, который весь промаслился и прилип к тарелке. Тебя это бесит; я остро чувствую твою досаду. Пришпоренный этим, мечтая вернуть твою милость, я спешу тебе рассказать, как я только что стаскивал Персивала с постели; описываю его тапочки, стол, оплывшую свечу; и как он стонал яростно, когда я сдергивал с него простыню; как упрямо в нее зарывался гигантским коконом. Я так это все расписываю, что, хоть и сосредоточенный на какой-то своей печали (тайная тень ее правит на нашей встрече), ты сдаешься, ты хохочешь и восхищаешься мной. Собственные чары, поток речи, нежданный, стихийный, восхищают меня самого. Словами снимая с вещей покровы, я поражаюсь тому, как много, как бесконечно больше, чем могу рассказать, я скопил наблюдений. Я говорю, а они все вскипают – образы, образы. Вот оно, вот, говорю я себе, то, что мне нужно; но почему же, я себя спрашиваю, я не могу закончить письма, за которое взялся? Ведь у меня по всей комнате валяются неоконченные письма. Я начинаю подозревать, когда я с тобой, что я безумно, редко талантлив. Восторг молодости переполняет меня, и сознание силы, и немыслимые прозренья. Сбивчивый, рьяный, как я взлечу, как буду кружить, и жужжать, напевать над цветами, над пунцовыми чашечками, и от синих раструбов отдастся гулом этот напев. Как наслажусь я своей юностью (я из-за тебя это чувствую). И Лондоном. И свободой. Но – стоп. Ты не слушаешь. Против чего-то ты возражаешь, невыразимо знакомым жестом скользнув вдоль колена рукой. По таким вот знакам мы распознаем болезни наших друзей. «В своем богатстве и изобилии, – ты будто бы говоришь, – не оставляй меня». «Постой, – ты говоришь. – Спроси меня, почему я страдаю».
Так дай я тебя ухвачу. (Как ты меня ухватил.) Ты лежишь на этом припеке, этим прелестным, тающим, этим тихим, ясным октябрьским днем, глядя, как шлюпки одна за другой скользят сквозь причесанные ветки ивы. И ты хочешь быть поэтом; и ты хочешь любви. Но великолепная четкость твоей мысли и бескомпромиссность твоего интеллекта (я от тебя набрался латыни; из-за твоих этих качеств я чуть ерзаю, вижу кое-какую потертость, кое-какую линялость собственного снаряженья) мешают тебе. Ты не станешь тешиться высоким обманом. Кутаться в розовые, в золотистые облака.
Ну что – угадал я? Правильно понял этот легкий жест твоей левой руки? А раз так – покажи мне твои стихи; ты ночью писал, не отрывая пера от бумаги, в жару вдохновенья, и сейчас тебе самому чуть неловко. Ты не веришь во вдохновенье, вот почему, ни в свое, ни в мое. Давай-ка вместе пойдем, по мосту, под вязами, домой, ко мне, в мою комнату, и стенами, красными холстинковыми шторами скроем рассеивающие голоса, зовы и запахи лип, чужих жизней; молоденьких продавщиц, нагло цокающих каблучками; тяжелых, кренящихся от поклажи старух; чьи-то смутные, беглые тени – может, это Джинни, или Сьюзен, или это Рода исчезает сейчас за углом? Но вот ты опять поморщился, и я угадываю; я от тебя ускользнул; пришел в раж; разжужжался, как целый пчелиный рой, бесконечно летаю кругами, нет у меня твоей хватки – безупречно сосредоточиваться на одной-единственной теме. Ничего, я вернусь.
– Когда рядом такие строенья, – Невил говорил, – куда деваться от этих молоденьких продавщиц. Эти хиханьки, трескотня мне претят; врываются в мою тишину, в самые высокие минуты настырно напоминают о нашем упадке.
Ну вот, наконец мы опять на своей территории, после этих велосипедов, лип, исчезающих теней на растерянных улицах. Здесь мы властители спокойствия и порядка; бредем тропою гордых традиций. Огни уже прошивают желтой мережей газон. Древний двор залит речным туманом. Он нежно ластится к поседелому камню. В деревне сейчас залубенели листы при дороге, чихают в лугах от сырости овцы; а здесь, в твоей комнате, сухо. Мы говорим по душам. Огонь скачет – вверх, вниз, а то играет с круглой дверной ручкой.
Ты читаешь Байрона. Отмечаешь места, оправдывающие твой собственный нрав. Вижу, вижу пометы против каждой фразы, выказывающей натуру язвительную, но страстную; горячность на лампу бросающегося мотылька. Ты проводил эту черточку карандашом, а сам думал: «Я тоже эдак вот скидываю плащ. Тоже показываю нос судьбе». Только Байрон не заваривал чай, как ты: наливаешь чайник через край, и когда прикрываешь крышкой, все сразу расплескивается. Вон у тебя на столе какая темная лужа – растекается среди книг и бумаг. Ты ее беспомощно обжимаешь своим носовым платком. А мокрый платок преспокойно суешь в карман – нет, это не Байрон; это ты; это настолько типичный ты, что, если я вспомню тебя лет через двадцать, когда мы оба будем прославлены, отечны и невыносимы, – то по этой вот сценке; и если ты умрешь к тому времени, я всплакну. Раньше ты был молодым человеком Толстого; теперь – байронический молодой человек; глядишь – и мередитовским заделаешься; тогда ты съездишь на Пасху в Париж и вернешься в смокинге, отвратным французом, о котором слыхом никто не слыхивал. И тут с меня хватит.
Во мне – один-единственный человек, я сам. Я не перевоплощаюсь в Катулла, которого обожаю. Я раболепно корплю над занятиями: справа словарь, слева тетрадь, и я в нее заношу любопытные случаи употребления герундия. Но не век же мне ножом проскребать стертые древние литеры. Неужели уж так, никогда, задернув потуже холстинковые шторы, я не увижу, как брусом белого мрамора сияет под лампой моя книга? Вот дивная жизнь – посвятить себя совершенству; плыть по излучинам фразы, куда бы она ни текла, – в пустыни, к зыбучим пескам, – не замечая привад и соблазнов; быть всегда бедным, нечесаным; выглядеть неуместно на Пиккадилли.
Но я слишком нервный, не могу толком довести суждение до конца. Говорю быстро-быстро и хожу взад-вперед, чтобы скрыть волненье. Ненавижу сальные платки – ты запачкаешь своего «Дон Жуана»[6 - Поэма Джорджа Ноэла Гордона Байрона (1788–1824).]. Да ты не слушаешь вовсе. Выделываешь фразы про Байрона. И пока ты жестикулируешь, играешь плащом и тростью, я пытаюсь поведать тебе тайну, которую еще не открывал никому, я прошу тебя (стоя к тебе спиной) взять мою жизнь в свои руки и сказать мне, неужели это навек я обречен вызывать отвращенье в тех, кого я люблю.
Я стою к тебе спиной, я волнуюсь. Нет, руки ничуть не дрожат. Очень точно я всаживаю «Дон Жуана» в прореху меж книг; вот так. Нет, лучше быть любимым, быть знаменитым, чем таскаться за совершенством по зыбучим пескам. Но неужели я обречен внушать отвращение? Поэт я или не поэт? На, получи. Весь заряд моих губ, холодный, как свинец, тяжелый, как пуля, которой я выстреливаю в продавщиц, в женщин, в козни, каверзы и пошлость жизни (потому что ее люблю), я теперь выпускаю в тебя, когда бросаю тебе – лови – мои стихи.
– Вылетел за дверь, как стрела из лука, – Бернард говорил. – Оставил свои стихи. О дружба, я тоже умею сушить розы в сонетах Шекспира! О дружба, как метко разят твои стрелы – сюда, сюда, опять сюда. Он посмотрел на меня, обернулся и посмотрел; оставил свои стихи. Как поднялся, клубясь, застивший мне душу туман! Умирать буду – не забуду этого знака доверия. Длинной волной, круглым, тяжелым валом он накатил на меня и опустошил, вскрыл, оголил гальку на прибрежье души. Унизительно. Я обратился в мелкую гальку. Сметены все подобья. Нет, ты не Байрон, ты – это ты. Другой человек тебя сводит к твоему единственному я – как странно.
Как странно: между нами прядется нить, сучится, тростится и тянется сквозь туманные дали нас разделившего мира. Он ушел; я стою с его стихами в руках. И между нами – нить. И все-таки – как хорошо, как приятно освободиться от чужого присутствия, от темно-испытующего догляда! Как чу?дно – задернуть шторы и никого не впускать; и пусть они слетаются, мои постояльцы, жалкие, свойские, которых он распугал своей силой, заставил спасаться по неведомым темным углам. Духи насмешки и наблюдательности, которые даже от той опасной минуты меня оградили, снова всей стаей летят восвояси. С ними снова я Бернард; я Байрон; я то, и другое, и третье. Они затеняют свет и как встарь меня одаряют своими штуками, трюками, замечаньями и тучкой кутают прекрасную простоту той минутной растроганности. Потому что во мне больше моих я, чем думает Невил. Мы не так просты, как нашим друзьям способней было бы для собственных нужд. Но любовь проста.
Ну вот они и вернулись, мои домашние, свойские духи. Укрепления, которые Невил прорвал, проткнул своей удивительно ловкой рапирой, воздвигнуты снова. Я опять почти цел, почти целен; и подумать только, как приятно снова ввести в игру все, что Невил во мне проглядел! Вот я раздвигаю шторы, смотрю в окно и думаю: «Ему бы это не доставило ровно никакого удовольствия; а меня это тешит». (Мы пользуемся друзьями, чтоб мерить свой собственный рост.) Я схватываю такое, что Невилу в жизни не поймать. Там, от нас через дорогу, распевают охотничьи песни. Празднуют какой-то успех своих биглей. Мальчики в шапочках, которые поворачивались все разом, когда линейка огибала лавровый куст, теперь огревают друг друга по заду и хвастаются. Но Невил, избегая соприкосновений, украдкой, как заговорщик, спешит к себе в комнату. Я вижу: вот откинулся в низком кресле, смотрит в огонь, который вдруг обретает архитектурную твердость. Если бы в жизни, – он думает, – было такое вот постоянство, такой порядок – ведь пуще всего он жаждет порядка и презирает мою байроническую растрепанность; и тут он задергивает шторы; на засов запирает дверь. Его глаза (он влюблен ведь; мрачный образ этой любви правил на нашей встрече) застилаются страстной тоской; в них стоят слезы. Он хватает кочергу и вмиг прибивает росток твердости, пробившийся из горящего кокса. Все меняется. Юность, любовь. Шлюпка прошла ветельной аркой, теперь она под мостом. Персивал, Тони, Арчи, еще кто-то отправится в Индию. Мы не увидимся больше. Тут он тянет руку к своей записной книжке – аккуратному томику, обернутому мрамористой бумагой, – и страстно строчит долгие строки стихов, в манере того поэта, каким сейчас особенно увлечен.
Ну а мне надо одуматься; глянуть в окно; послушать. Опять оголтелый хор. Теперь фарфор кокают – это такой ритуал у них. Хор, как крушащий старые вязы горный поток, разбившись о камни, пенными руладами низвергается в пропасть. А они катятся себе дальше; скачут; за собаками; за мячом; раскачиваются вверх-вниз, как мучные мешки, прикрепленные к веслам. Сметены переборки – все они, как один. Нервный октябрьский ветер проносит пучками шум и тишь через двор. Вот опять фарфор кокают – такой ритуал. Старуха с кошелкой бредет враскачку домой вдоль огненно-красных окон. Побаивается: не напали бы, в канаву бы не столкнули. А сама останавливается, якобы погреть ревматические, узловатые руки, у костра, мечущего ленты искр и бумажный сор. Старуха под озаренным окном. Контраст. Я его вижу, а Невил не видит; я его чувствую, а Невил не чувствует. Вследствие чего он достигнет совершенства, а я провалюсь, и ничего после меня не останется, кроме непропеченных, песком присыпанных фраз.
Я теперь про Луиса думаю. Какой недобрый, пронзительный свет бросил бы Луис на этот осенний, убывающий вечер, битье фарфора, бесшабашный охотничий рев, на Невила, Байрона, на наше житье-бытье? Губы у него чуть поджаты; бледные щеки; корпит в конторе над каким-то невнятным денежным документом. «Мой отец, брисбенский банкир» – стыдится его, а без конца поминает – обанкротился. И вот он сидит в конторе, Луис, первый ученик в нашей школе. Но я, волочась за контрастами, часто вижу на себе его взгляд, насмешливый взгляд, дикий взгляд, нас складывающий, как мелкие части огромной суммы, которую он вечно ищет в своей конторе. И однажды, взявши тоненькое перо, обмакнув его в красные чернила, он закончит сложение; и сумма окажется недостаточной.
Бух! Теперь они стул на забор швырнули. Какая тоска. Да и я-то хорош. Некстати разнюнился, не правда ли? И я высовываюсь из окна, роняю сигарету, и она приземляется, легонько кружа. Я чувствую, как Луис смотрит на мою сигарету. И Луис говорит: «Смысл? Ведь должен быть какой-нибудь смысл?»
– Люди идут, – Луис говорил, – идут, идут мимо окна обжорки. Автомобили, фургоны, омнибусы; и снова омнибусы, фургоны, автомобили – все мимо окна. На заднем плане – магазины, дома; и серые шпицы старинного городского собора. На переднем – стеклянные полки, а там пышки, хлеб с ветчиной на блюдах. Все несколько отуманено паром из чайника. Жирный, бурый дух баранины и бифштексов, сосисок, пюре – мокрой сетью повис посреди обжорки. Я опираю книгу на бутылочку кетчупа и хочу быть как все.
Но – не могу. (Они все идут, все идут беспорядочным шествием.) Я не могу читать книгу, и бифштекс не могу заказать убежденно, решительно. Я твержу: «Я средний англичанин. Средний служащий», а сам все примеряюсь к людишкам за ближним столиком, чтобы не оплошать. Дряблолицые, с вислой кожей, дрожащей от сложных чувств, цепкие, как обезьяны (напомаженные почему-то), они со всей подобающей случаю важностью обсуждают продажу пианино. Оно всю прихожую ему загородило; он его за десятку уступит. А люди идут, идут; сквозь шпицы собора, сквозь хлеб с ветчиной. Мои мысли реют и плещут, как флаг на ветру, но, надорванные этой ерундой, тотчас никнут и вянут. И никак я не сосредоточусь на ужине. «Я бы за десятку его уступил; вещь красивая; но весь холл загородило». И так – рывками, как кайры в полете, поблескивающие напомаженным опереньем. Все, что превышает эту норму, – тщета. Это – среднее; одинаковое. Меж тем подпрыгивают вверх-вниз котелки; дверь без конца отворяется, хлопает. На меня находит ощущенье текучести, непорядка; уничтоженья, отчаянья. Но еще я чувствую ритм обжорки. Такой вальсок: отхлынет, прильет, и – кругами, кругами. Официантка, ловко удерживая поднос, проносится туда-сюда, и кругами, кругами, оделяя зеленью, компотом и кремом когда положено, кого положено. Одинаковые люди, вбирая этот ее ритм в свой («Я б его за десятку уступил; всю мне прихожую загородило»), берут у нее свою зелень, свой компот и свой крем. Где разрыв в череде? Где щель, в которой сквозит беда? Неразрывен круг, нерушима гармония. Вот он – главный ритм; сквозной мотив; общая побудительная пружина. Я смотрю, как она сжимается, расслабляется, сжимается снова. Но меня не захватывает, не вбирает. Если вдруг я заговорю, подражая их речи, они навострят уши, будут ждать, что я еще такого скажу, чтоб определить, откуда я – из Канады? из Австралии? – я, больше всего на свете жаждущий любви, понимания, я – посторонний, чужак. Я хочу быть, как все, укрыться под плоской волной заурядности; а сам краем глаза ловлю далекие горизонты; и натыкаюсь на глупо подпрыгивающие котелки. А ко мне рвутся жалобы отчаянных, неприкаянных душ (гнилозубая тетка топчется робко у стойки): «Отведи нас обратно, в овчарню, мы так устали вразброд подпрыгивать вверх-вниз мимо окон с ветчиной на блюдах». Да; я приведу вас в порядок.
Я буду читать эту книгу, опертую на бутылочку кетчупа. В ней кованый звон, несколько совершенных фраз, кой-какие золотые слова, и всё вместе – поэзия. И никому, никому из вас нет до нее дела. Что мертвый поэт говорил, вы забыли. А я не смогу ее так вам перевести, чтобы вас проняло; чтобы вам стало ясно, как вы бесцельны; как пошл, как затаскан ваш ритм; и не могу остановить это вырожденье, которое, пока вы не поймете, как вы бесцельны, делает вас с самых пелен старичьем. Переложить эти стихи так, чтоб до вас дошло, – вот достойное приложенье сил. Я, спутник Платона, Вергилия, буду колотить кулаком крашенную под дуб дверь. Я, как плеть на обух, ополчусь на вашу бессмыслицу. Меня не вберет это бесцельное шествие котелков, канотье, пестро-перистых дамских конструкций. (Сьюзен, которую я уважаю, ходит летом, конечно, в простой соломенной шляпе.) И суетня, и пар, тяжелыми, неровными каплями ползущий по подслеповатой оконнице; и рывки и стоны автобусов; и это топтанье у стойки; и речи, разбитые вдребезги на нечеловеческий бред; нет, я вас приведу в порядок.
Мои корни идут глубоко, глубоко, по свинцовым, по серебряным жилам, по зловонно и тяжко вздыхающим топям, к сердцевине, где в узел сплетены дубовые корни. Я был слеп, опечатан, уши забиты землей, но я слышал военные слухи; и соловья; я чуял: человечьи толпы в поисках цивилизации перемещались, как птицы в перелете к лету, я видел: женщины шли с красными кувшинами к Нилу. Я проснулся в саду, от удара в затылок, от жаркого поцелуя Джинни; и все это вспоминается мне, как глухие крики, обвал стропил в черно-красных клиньях ночного пожара. Вечно я сплю, просыпаюсь. Вот заснул; вот проснулся. И вижу мерцающий чайник; стеклянные полки с заветрившейся ветчиной; пиджаки высоко сидящих у стойки мужчин; а за ними я вижу вечность. Такой уж оттиснут на мне знак, палач выжег его каленым железом на моем трясущемся теле. И обжорку эту я вижу сквозь трепет крыл, многоперых, сложенных крыл былого. Вот откуда – сжатые губы, нездоровая бледность; мало располагающий вид, когда я обращаю злую, сердитую физиономию к Бернарду, к Невилу, которые бродят под вековыми тисами; наследуют кресла; и потеснее смыкают шторы, чтоб свет падал им прямо на книгу.
Сьюзен – вот кого я уважаю; потому что она сидит и шьет. Шьет под тихой лампой, в доме, где шепчутся под окном хлеба, и дает мне чувство сохранности и покоя. Ведь я самый слабый, я самый младший из них из всех. Ребенок, который уставился себе под ноги, на промывины дождя на дорожке. Вот улитка, я говорю; вот листик. Вечно я самый маленький, самый глупый, доверчивый. Все вы прикрыты. Я – голый. Официантка с венцом из кос на бегу вас оделяет компотом и кремом – без запиночки, как сестра. Вы – ей братья. Я же, встав и стряхивая крошки с жилета, сую под тарелку слишком крупные чаевые – поглубже, чтобы не обнаружила, пока я не ушел, и ее презренье, когда она вытащит с ухмылкой мой шиллинг, меня не настигнет, потому что уже меня подхватило верчение двери.
– Вот ветер штору колышет, – Сьюзен говорила. – Проступают кувшины, тазы, соломенная подстилка, одряхлевшее кресло с дыркой. Стену снова усеяли знакомые линялые банты. Птичий хор замолчал, одна только птичка поет и поет у меня под окном. А я натяну чулки, тихо-тихо пройду мимо папиной комнаты, спущусь на кухню, выйду садом, мимо теплиц – в луга. Такая рань еще. Туман. День пока скованный, плотный, как саван. Ничего, скоро помягчеет; оттает. В этот час, пока еще не очнулось утро, мне кажется, что сама я – поле, денник, я – вяз; мои – стаи птиц, и этот зайчишка, который прыснул в последний миг, не то бы я на него наступила. Моя – праздно расправившая крылья цапля; и корова, которая, похрустывая, жует на ходу и одну вслед другой ставит ноги; и реющая, ныряющая ласточка; и тихая злость в небе; и прогалы зелени там, где погасла злость; и тишина, и колокола; и крики возчика, ведущего с луга ломовиков, – все мое.
Меня от этого не отделить, не оторвать. Меня посылали в школу; посылали завершать образованье в Швейцарию. Я ненавижу линолеум; ненавижу пихты и горы. Дай-ка я брошусь на эту плоскую землю под бледным небом, по которому медленно бредут облака. Подвода растет и растет, это она сюда по дороге едет. Овцы толпятся посреди луга. Птицы толпятся посреди дороги – им еще не время лететь. Лес дымится; уходит рассветная скованность. День потягивается со сна. К нему возвращаются краски. День желто машет всеми своими хлебами. Земля тяжело висит подо мной.
Кто же я? Вот, налегла на калитку, смотрю, как мой сеттер, носясь кругами, вынюхивает траву, – кто я? Иногда я думаю (мне нет еще двадцати), что я и не женщина вовсе, а свет, падающий на эту траву, на калитку. Я – время года, я иногда думаю, январь, май, ноябрь; туман, слякоть, рассвет. Не терплю, чтоб меня перебрасывали, как мяч, и тихо плыть по течению не умею, и теряться в толпе. Но сейчас, когда я так налегла на калитку, что она мне впечаталась в руку, я чувствую тяжесть, которая у меня образовалась в боку. Что-то наросло, скопилось, в школе, в Швейцарии, твердое что-то. Это не вздохи, не смех; не ходячие или острые фразочки; не странные разговоры Роды, когда она смотрит мимо тебя, через твое плечо; не пируэты Джинни, слаженной – тело, ноги – из одного куска. То, что я даю, тяжело. Я не умею плыть по течению, теряться в толпе. Мне больше нравится встречать взгляд пастуха на дороге; взгляд цыганки, которая кормит у телеги, в канаве своих сосунков; так я буду кормить своих. Потому что скоро, в жаркий полдень, когда жужжат над левкоями пчелы, он придет, тот, кого я буду любить. Он встанет под кедром. И скажет мне всего одно слово, и я одним только словом отвечу. Я отдам ему то, что скопилось во мне. У меня будут дети; будут горничные в фартуках; работники с вилами; кухня, куда приносят в корзинах больных ягнят, чтоб согреть; где висят окорока и блестит лук. И буду я, как моя мама, молча, в синем фартуке, запирать шкафы.
А сейчас я проголодалась. Кликну-ка своего сеттера. В голову лезут горбушечки, и хлеб с маслом, и белые тарелки на солнце. Я пойду обратно лугами. По заросшей тропе пойду ровным, широким шагом, то ловко вильну, чтоб в лужу не угодить, то легко вспрыгну на кочку. На грубой юбке у меня водяной бисер; туфли почернели, раскисли. День оттаял; убрался зеленью, зеленью с янтарем. На проезжей дороге уже не сидят птицы.
Я возвращаюсь, как кошка или лиса возвращается, когда шерсть у нее поседела от инея и затвердели на жесткой земле лапы. Я пробираюсь среди капусты, и она скрипит листьями, отряхивается от росы. Я сижу и жду, когда папа прошаркает по коридору, растирая в пальцах травинку. Наливаю чашку за чашкой, и нераскрытые розы очень прямо стоят среди банок варенья, между караваем и маслом. Мы молчим.
А потом я иду к кухонному шкафу и вынимаю сырые кульки с изюмом; тяжелый мешок муки поднимаю на скобленый кухонный стол. Мешу, раскатываю; взбиваю, зарываюсь руками в теплое тестяное нутро. Пропускаю сквозь пальцы веером холодную воду. Урчит огонь; жужжат хороводом пчелы. Вся моя коринка, и рис, и серебряные кульки, и голубые кульки заперты снова в шкафу. Доспевает в духовке жаркое; хлеб дышит нежным куполом под свежей салфеткой. Под вечер я спускаюсь к реке. Все на свете размножается и плодится. Перелетают с цветка на цветок бабочки. Цветам тяжело от пыльцы. Чинной чередой скользят по реке лебеди. Облака, теперь теплые от солнечных пятен, уплывают за горы, роняя золото на воду, золото на лебяжьи шеи. Коровы, одну вслед другой ставя ноги, выжевывают себе путь через луг. Я нащупываю в траве крепкий, тугой боровичок; обламываю ему ножку, срываю лиловый ятрышник, который вырос рядом с боровичком, и пусть лежат себе вместе: гриб, цветок с землей на корне; а мне домой пора, надо заваривать чай для папы на чайном столе среди зардевшихся роз.
Но вечер приходит, и вот зажжены лампы. А когда вечер приходит и зажжены лампы, они подпаляют желтым пожаром плющ. Я сижу с шитьем у стола. Я думаю про Джинни; про Роду; и слышу шорох колес на брусчатке, когда на ферму тяжело бредут битюги; слышу в вечернем ветре гул машин. И смотрю, как листья дрожат в потемнелом саду, и думаю: «Они танцуют там в Лондоне. Джинни целует Луиса».
– Вот странно, – Джинни говорила. – Ах, какие глупости – спать, гасить свет, подниматься в спальню. Они, видно, уже поснимали платья, нацепили белые ночные рубашки. На все дома – ни единого огонька. Только вытянулась в небе шеренга труб; и кое-где фонари горят, как всегда они горят, для кого – неизвестно. На улицах одни бедняки, куда-то спешат. А так – никого, нигде; день уснул. Несколько полицейских торчат по углам. И ночь наступает. Я сама чувствую, как сияю во тьме. Колени в шелку. Шелковые ноги мягко трутся одна о другую. Ожерелье студит шею. Тесноватые туфли веселят ножку. Я сижу, как струнка прямая, боюсь нечаянно мазнуть волосами по спинке сиденья. Я во всеоружии, я готова. Минутная пауза; темный миг. Скрипачи подняли смычки.
Вот авто замирает, нежно прошелестев. Из тьмы выхватывает клин мостовой. Дверь отворяется, хлопает. Приезжают, не разговаривают, спешат. Свист плащей падает в холл. Это прелюдия, это начало. Я оглядываюсь, приглядываюсь, я пудрюсь. Все в порядке, готово. Волосы взмыли сплошной волной. На губах в самый раз помады. Сейчас я вольюсь в поток мужчин и женщин на этих ступенях, среди них я как дома. Я прохожу, предоставленная их взглядам, а они – моему. Взгляды как молнии, ни теплоты, ни привета. Разговаривают наши тела. Вот чего я ждала. Мой мир. Все распределено и готово; слуги, расставленные там, там и сям, берут мое имя, мое новенькое, свежее имя, и перебрасывают передо мной. Я вхожу.
Тут золоченые стулья в пустынных, заждавшихся залах, и цветы, величавей и тише, чем те, что растут, – стелются зелено, стелются бело по стенам. И на одном маленьком столике лежит одна книга. Вот о чем я мечтала; что представляла себе. Я здесь как дома. Как ни в чем не бывало я ступаю по толстым коврам. Я скольжу по лоснистым паркетам, и понемножку я расправляюсь в этих запахах, этом сверканье, как расправляет папоротник свернутые листы. Я останавливаюсь. Примеряюсь к этому миру. Разглядываю группки незнакомых людей. Среди искристо-зеленых, розовых и перламутровых женщин стоят очень прямо мужчины. Они черно-белые; под одеждой они изрыты глубокими бороздами. Вот оно, вот – то давнее отражение в туннельном окне; и оно летит. Черно-белые одинаковые незнакомцы смотрят на меня, когда я наклонюсь; я повернусь – взглянуть на картину, и они повернутся тоже. Их руки дрожат и тянутся к галстукам. Они теребят жилеты, мнут носовые платки. Совсем юные. Только и думают, как бы понравиться. Вдруг бог знает что взыгрывает во мне. Я веселая, я лукавая, грустная, нежная – по очереди. У меня есть корень, но я теку. Вся золотая, я теку в одну сторону, я кому-то кидаю «Да». Струюсь обратно и кому-то кидаю «Нет». Кто-то срывается со своего места под гобеленом. Идет ко мне. В жизни я так не волновалась. Я дрожу. Струюсь. Теку, как водоросль течет на реке – то туда, то сюда, но пускай он подходит, у меня же есть корень. «Да, – я ему говорю. – Да». Бледный, с темными волосами, тот, кто подходит ко мне, романтичен, печален. А я лукава, я текуча, капризна; оттого, что он печален, он романтичен. Он здесь; он рядом стоит.
Вдруг, легким рывком, как мелкий камень отрывается от горы, меня бросает; мы падаем вместе; меня уносит. Мы отдаемся медленному теченью. Нас подхватывает плещущая, робкая музыка. Танец плывет, плывет, и вдруг всей рекой он разбился о скалы; дрожит; замирает. Но вот нас схлестывает, поднимает широкий вал; держит нас вместе; не вырваться из-за этих неотступных, тугих, тесных, высоких стен. Они прижимают друг к другу наши тела – его твердое тело, мое текучее; держат нас вместе; а потом раскатываются, нас накрывают, нежно, кругло, и несут, несут. Вдруг разбивается музыка. Моя кровь все несется, а сама я стою. Зал кружится, кружится. Вот – остановился.
Меж тем мы приближаемся к центру цивилизованного человечества. Вот и знакомые газометры. Оплетенные асфальтовыми лентами парки. Парочки беспардонно милуются прямо на жухлой траве. А Персивал сейчас подъезжает к Шотландии; едет вдоль ржавых топей; вдалеке уже видит долгие Пограничные горы, Римскую стену. Читает детективный роман, но все зато понимает.
Поезд потягивается, медлит, мы приближаемся к Лондону, к центру; а сердце во мне тронулось и покатилось – от страха, от радости. Меня ждет здесь – что меня ждет? Какая нежданная радость подстерегает меня среди почтовых вагонов, носильщиков, толп, осаждающих такси? Я вдруг становлюсь потерянным, крошечным и – ликую. Легонько дернувшись, мы остановились. Пропущу всех вперед. Посижу тихонько минутку, прежде чем вольюсь в этот хаос, этот вихрь. Зачем мне думать про то, что будет. Огромный рокот стоит в ушах. Приливает и отливает под стеклянной крышей, как море. Нас швыряет на платформу вместе с нашими пожитками. Нас относит друг от друга. Я почти забыл о себе; о своем презрении. Меня втягивает, волочит, подбрасывает до небес. Я ступаю на платформу, крепко ухватив все свое достояние – один чемодан.
Солнце встало. Желтые, зеленые мазки легли на песок, позолотили ребра изглоданной лодки, а прибрежный осот со своей кольчужной листвой отливал теперь синим, как сталь. Свет чуть не насквозь пробивал тонкие, быстрые волны, когда они укрывали веером берег. Та самая девочка, которая, тряхнув головой, пустила в пляс все топазы, аквамарины, все каменья морского цвета с огненной искрой, теперь смахнула кудри со лба и, широко глядя, вышла на прямую тропу по волнам. Потемнели сверкающие барашки; волны громадились; углубились и почернели их зеленые впадины, где проплывали, наверное, косяки кочующей рыбы. Остывая, море по ободкам оставляло прутики, пробки, солому, как будто легкий бриг затонул и разбился, а моряки спаслись вплавь, взобрались на скалы, а хлипкий груз пустили на волю волн.
Птицы в саду, на заре напевавшие вразброд, по наитию, то на том кусте, то на этом, теперь распевали хором; то все вместе грянут одну общую ноту в сознании общего дела, то какая-нибудь вдруг затянет отдельно, будто для голубого, белесого неба. Они взмывали всей стаей, когда некстати объявится среди кустов черный кот или стряпуха стукнет совком, стряхивая пепел в зольник. Страх был в их песне, и предчувствие боли, и решимость погибнуть – так с музыкой. А еще они норовили друг дружку перещеголять, и высоко взлетали над вязом, и пели, пели, летали взапуски, гоняли друг дружку, ускользали, клевались, кубарем перекатывались по вышине. А потом, устав от ловитвы, они нежно снижались, все глубже ныряли в воздух, и падали, и, примолкнув, усаживались на дерево, на забор, ярко сияли глазами и туда-сюда поворачивали головки; бдительно, сторожко; напряженно занятые все чем-то одним.
Быть может, их занимала раковина улитки, поднимающаяся в траве, как серый собор, как купол в черных кольцах с подпалинами, подсвеченный зеленью. Или они дивились власти пионов – свет превращать в текучую лиловость над клумбами, в которых между стеблей прорыты темно-лиловые штольни. Или они сосредоточили взгляд на мелкой, яркой яблоневой листве, подрагивающей, дробно мерцая среди острого розового цвета. Или они видели каплю дождя на изгороди, и она висела, не падала, и в себе держала вогнутый дом и огромные вязы; а может быть, птицы глядели прямо на солнце, и глаза их стали золотыми бусинами.
Оглядевшись, они засматривали вглубь, под цветы, в подвалы неозаренного мира, где гибнет лист, куда свалилась мертвая голова цветка. Потом кто посмелей, прелестно вспорхнув, точнехонько приземлясь, клюнет нежное, мерзкое тело беззащитного червяка, клюнет разок, и еще, и еще, и оставит его разлагаться. Среди корней, там, где гнили цветы, наплывали порывами мертвые запахи; бухли на вздутьях капли. На перезрелых плодах лопалась кожура, проступало что-то и, слишком густое, не вытекало. Слизни прыскали желтым; а то вдруг кто-то бесформенный, о двух головах по обоим концам, медленно колыхался из стороны в сторону. Золотоглазые птицы, порхая среди листвы, разглядывали эту гнойную сырость с насмешливым недоумением. И вдруг, ни с того ни с сего, остервенело нацеливали и смыкали небрезгливые клювы.
А солнце меж тем подкралось к окну, пощупало красную бахрому занавески, принялось выводить круги и узоры. Вот, вплыв в комнату на волне окрепшего дня, оно плеснуло белизной на тарелку; и загустел блеск ножа. На заднике проступили комоды и стулья, они плавали покуда каждый отдельно, но уже чувствовалась в них неразрывная связь. Забелело озеро-зеркало на стене. Кроме живого, на подоконнике, объявился в комнате призрак цветка. И был он не сам по себе: вот на подоконнике раскрылся бутон, и цветок в стекле, побледней, покорно раскрылся тоже.
Ветер окреп. Волны грохотали на берегу, будто воины в тюрбанах, будто люди в тюрбанах с ядовитыми дротиками, высоко занеся руки, несутся на пасущиеся стада, на белых овец.
– Все сплетается сложней и тесней, – Бернард говорил, – здесь, в колледже, где почти невыносим напор жизни, и волнение от того, что вот ты живешь, изо дня в день нарастает. Каждый час что-то выуживаешь новое из этого мешка-лотереи. Кто я? – я спрашиваю. – Это? Нет, я – то. Сейчас в особенности, когда я ушел из комнаты, от разговора, и каменные плиты звенят под моим одиноким шагом, и я смотрю, как удивленно далекая, важная, выкатывает из-за древней церкви луна, во мне не один, простой человек, а множество сложных. Бернард на публике – душа общества; в тесном кругу он скрытный. Вот чего им не понять; ведь сейчас они, уж ясное дело, перемывают мне косточки: я уклончивый, я их избегаю. Им не понять, что мне приходится осуществлять разные превращения; прикрывать появления и уходы множества разных людей, попеременно разыгрывающих роль Бернарда. Я феноменально чувствую окружение. Совершенно не могу читать книжку в вагоне третьего класса, не задаваясь вопросом – он строитель? у нее неприятности? Сегодня я остро чувствовал, каково бедняге Саймсу с его этим прыщом сознавать всю обреченность своих попыток произвести впечатленье на Билли Джексона. Болезненно это чувствуя, я его с жаром пригласил на обед. Что он и приписал восхищению, которого нет и в помине. Вот уж воистину. Однако «вместе с женской чувствительностью (тут я цитирую своего биографа) Бернарду присуща мужская трезвая логика». Но люди, которые с первого взгляда ясны и сразу к себе располагают своей простотой (которая почему-то считается добродетелью), – это те, кто держит нос по течению. (Так и вижу рыб, в одну сторону повернувших носы в несущемся мимо потоке.) Кэнон, Хокинс, Лайсетт, Питерс, Ларпент, Невил – все такие вот рыбы. Но ведь ты-то знаешь, ты, мое я, всегда поспешающее на зов (жуткое, надо полагать, впечатленье, когда позвал, а никто не явился; оно делает полой полночь и объясняет странное выражение, приросшее к лицам клубных стариков, – они отчаялись вызывать свое я, которое не приходит), ты-то знаешь, как поверхностно я представлен тем, что сегодня вечером говорил. Изнутри, и в тот самый миг, когда с виду я бесконечно разъят, я предельно собран. Я бурно изливаю сочувствие; а сам сижу, холодный, как жаба, и мне на все наплевать с высокой горы. Ну кто из вас, из тех, кто сейчас перемывает мне косточки, умеет так разветвляться умом и чувством? Лайсетт, видите ли, обожает гонять зайцев; Хокинс в поте лица трудился после обеда в читальне. Питерс завел подружку в библиотеке, где выдают книги на дом. Все вы заняты, впряжены, включены, по горло загружены, по макушку заряжены – все, кроме Невила, у которого ум слишком сложен, чтобы вдохновляться одной какой-нибудь деятельностью. Ну и я слишком сложен. Что-то во мне вечно плывет, не вставая на якорь.
Ну так вот, в доказательство моей чувствительности к атмосфере, – едва я вхожу в комнату, включаю свет, вижу лист бумаги, стол, мой халат, сонно раскинувшийся на спинке кресла, я мгновенно себя ощущаю тем именно лихим, хоть и рассуждающим человеком, тем рисковым, отчаянным типом, который, великолепно скинув плащ, хватает перо и с ходу строчит письмо девушке, в которую он влюблен без памяти.
Да, все чудно. Я в ударе. Могу с ходу намахать письмо, к которому сто раз приступался. Я только-только вошел; отшвырнул трость и шляпу, я катаю все, что бежит под перо, не потрудившись даже прямей положить бумагу. Это будет блистательный опус, писанный, она решит, единым духом, взахлеб. Смотрите, как буквы спешат – а вот и беспечная клякса. Всё – в жертву скорости и беспечности. Писать надо быстрым, мелким, летучим почерком, вот так, влёт простреливая н и подсекая ш. Дата – только вторник, 17, и потом рассеянный вопросительный знак. Но все же надо дать ей понять, что хотя он – ибо это не я – пишет так неряшливо, спешно, именно тут-то и кроется тонкий намек на доверенность и уваженье. Надо сослаться на наши с ней разговоры, вызволить из памяти полузабытые сцены. И еще – пусть она думает (это так важно), что я перескакиваю с одного на другое с поразительной легкостью. От службы по утопленнику (у меня для нее заготовлена фраза) перейду к миссис Моффат и ее изречениям (я кое-что записал), а затем к наблюдениям, как бы походя сделанным, но на самом деле глубоким (самая глубокая критика, кстати, часто пишется походя), по поводу книжки, которую прочитал, какой-нибудь незаезженной книжки. И пусть она думает, расчесывая волосы или задувая свечу: «Где же я это читала? А-а, да, у Бернарда в письме». Натиск, жар, расплавленность, перетеканье одной фразы в другую – вот чего я добиваюсь. Кого я при этом держу в уме? Байрона, разумеется. У меня, в общем, есть что-то от Байрона. Может, глоточек Байрона меня разогреет. Прочту-ка страницу. Нет; тут нудновато; тут темно; тут общее место. Но кое-чего я набрался. Заразился. Зарядился биением его мысли (ритм – главное при письме). Так что приступим не мешкая, отдавшись ритму набегающих строк…
Но вдруг все никнет. Лопается. Не удалось поддать пару, с разбега одолеть перелет. Мое истинное я отвалилось от вымышленного. А если начну переписывать, она сразу учует: «Бернард строит из себя литератора; Бернард думает про своего биографа» (что правда). Нет, лучше напишу письмо завтра, сразу с утра, как чаю напьюсь.
А пока подпитаюсь воображаемыми картинами. Предположим, меня пригласили погостить в Кингс-Лотон, в трех милях от Лангли. Я приезжаю в сумерках. Несколько псов бродят на длинных лапах по двору обветшалого, но благородного дома. Блеклые ковры в прихожей; военного вида джентльмен курит трубку, меряя шагами террасу. Печать благородной бедности и военных лет. Конское копыто на письменном столе – память о любимой лошадке. «Ездите вы верхом?» – «Да, сэр, я люблю верховую езду». – «Дочь нас ожидает в гостиной». Сердце мое отчаянно бухает в ребра. Она стоит у низкого столика; только что вернулась с охоты; за обе щеки уминает бутерброд. Я произвожу прекрасное впечатление на полковника. Я не то чтобы слишком лощеный, он думает; и не то чтобы неотесанный. Вдобавок я играю на бильярде. Входит вышколенная горничная, уже тридцать лет прослужившая семейству. Тарелки расписаны экзотическими длиннохвостыми птицами. Над камином – портрет ее матери в кисее. Мне ничего не стоит набросать все подробности обстановки. Но дальше – что с ними делать? Как мне расслышать ее голос – тот особенный тон его, когда мы останемся наедине и она скажет «Бернард»? И дальше, потом – что?
Нет, видно, мне нужно черпать вдохновение со стороны. Один, над угасшим огнем, я склонен сам замечать слабину своих историй. Настоящий писатель, идеально простой человек, так бы вот и сидел, и выдумывал до бесконечности. Он не стремился бы к обобщеньям, как я. Его бы не мучил, не пугал этот пепел в мертвом камине. Какая-то пелена опускается мне на глаза. И все застилает. Я перестаю сочинять.
Надо припомнить. Был, в общем, скорее приятный день. К вечеру в душе у меня, под застрехой, скопилась круглая, разноцветная капля. Утро: погода прекрасная; вечер: ходил погулять. Люблю смотреть на эти дальние шпили за полем; ловить их промельки между плечами прохожих. Все так и запрыгивало мне в глаза. Я был нежен, размаян фантазиями. После ужина я был эффектен. Я чеканил, я отливал в форму многое из того, что было говорено про общих друзей. Я легко осуществлял эти перевоплощенья. Но теперь, сидя над серым пеплом с черными прожилками голого угля, я задаю себе роковой вопрос: кто же я на самом деле из всех этих людей? Очень многое ведь зависит от комнаты. Если я сейчас позову: «Бернард» – кто явится? Правдивый, остро-насмешливый тип, лишенный иллюзий, но не озлобленный. Неопределенного возраста, без определенных занятий. Всего-навсего – я. Он-то и грохочет сейчас кочергой, вороша золу так, что она низвергается ливнем с решетки. «О Господи! – бурчит он себе под нос. – Экое свинство!», а потом прибавляет мрачно, но с некоторым облегченьем: «Ничего, миссис Моффат придет и все подметет…» Небось я не раз еще повторю эту фразу, грохоча и мотаясь по жизни, ударяясь то об одну стенку поезда, то об другую. «Ах да, миссис Моффат придет и все подметет». А сейчас – спать, спать.
– В мире, который содержит вот это мгновенье, – Невил говорил, – зачем раскладывать все по полочкам? Зачем всему давать имена, раз ничто все равно не изменится? Пусть лучше так останется – этот берег, и эта прелесть, и я, окунувшийся на секунду в блаженство. Пригревает солнце. Я вижу реку. Вижу деревья, облитые, подпаленные светом осени. Шлюпки скользят мимо, по зеленым, по красным мазкам. Далеко-далеко звонит колокол, но не по мертвому. Бывает, колокола ведь вызванивают и жизнь. Лист свалился – это от радости. Ох! Я без ума от жизни! Как стреляет в воздух тоненькими ветками эта ива! Как проплывает сквозь нее эта шлюпка, унося разнеженных, праздных, сильных юнцов. Слушают граммофон; едят из бумажных кульков фрукты. Швыряют банановые шкурки, угрями ныряющие в реку. Все это получается у них так красиво! За ними сквозят графинчики, безделушки; комнаты увешаны олеографиями, завалены веслами, но и это почему-то красиво. Шлюпка прошла под мостом. Вот другая. И еще. Там Персивал, лежит в подушках, монолитный, в неколебимом, величавом покое. Да нет, это кто-то из его подлипал изображает его монолитность, его величавый, неколебимый покой. Он один не знает об их обезьяньих штучках; если застукает, добродушно мазнет по физиономии лапищей. Вот и эти проплыли под мостом «сквозь струи потупленных ив», сквозь нежные штрихи золота и багрянца. Дрожит ветерок; колышет занавес; сквозь листья глядят почтенные, но такие счастливые строенья, они кажутся пористыми, лишенными веса; стройные, хоть с баснословных лет вросли в этот древний дерн. И знакомый ритм набухает во мне; сонные слова просыпаются, накатывают, взметают гребни, опадают, накатывают, опадают и накатывают опять. Я поэт, да. Ну конечно, я великий поэт. Шлюпки, юнцы, дальние ивы, «летучие струи потупленных ив». Я все это вижу. Я все это чувствую. Вот оно – вдохновенье. Счастье стоит в горле. Но, все это чувствуя, я подстегиваю себя и взбиваю, взбиваю свой жар. Он пенится. Делается натужным, неискренним. Слова, слова, слова, как они скачут, как машут хвостами, долгими гривами, но есть какой-то изъян во мне, я не могу их взнуздать; не могу лететь, как они, разметывая теток с плетенками. Какой-то во мне порок, роковая какая-то нерешительность, которая, если дать ей волю, оборачивается пеной и фальшью. Но быть не может, что я не великий поэт. Что же я написал вчера вечером, если это не поэзия? Или я слишком быстро пишу, слишком легко? Не знаю. Я и сам себя иногда не знаю, или – как измерить, счесть, назвать те частицы, что делают меня собой.
Что-то вдруг от меня отрывается; что-то от меня уходит навстречу смутной фигуре, которая близится и еще перед тем, как я ее разглядел, меня убеждает в том, что это кто-то знакомый. Как странно меняешься от присутствия друга, даже поодаль. Какую службу сослужает нам друг, когда нас окликнет. Но как больно, когда окликнут, смажут, что-то подмешают к твоему я, сделают тебя частью кого-то еще. Вот он подходит, и я уже не Невил, но Невил, перемешанный с кем-то еще – с кем? – с Бернардом? Да, это Бернард, и Бернарду я задам свой вопрос. Кто я?
– Как странно, – Бернард говорил, – выглядит эта ива, когда мы смотрим на нее вместе. Я был Байрон, и она была байронической, слезной, тихоструйной, горюющей. А теперь она вся такая причесанная, веточка к веточке, и мне хочется тебе рассказать, что, под влиянием твоей ясности, я сейчас чувствую.
Я чувствую твое недовольство, я чувствую твою силу. С тобою рядом я становлюсь неряшливым, импульсивным студентом, чей грубо-пестрый платок вечно засален гренками. Да, я держу в одной руке «Элегию» Грея[5 - Томас Грей (1716–1771) – английский поэт; программное стихотворение Грея «Элегия, написанная на сельском кладбище» известно в России в вольном переложении В. Жуковского.]; а другой выуживаю из-под самого низа гренок, который весь промаслился и прилип к тарелке. Тебя это бесит; я остро чувствую твою досаду. Пришпоренный этим, мечтая вернуть твою милость, я спешу тебе рассказать, как я только что стаскивал Персивала с постели; описываю его тапочки, стол, оплывшую свечу; и как он стонал яростно, когда я сдергивал с него простыню; как упрямо в нее зарывался гигантским коконом. Я так это все расписываю, что, хоть и сосредоточенный на какой-то своей печали (тайная тень ее правит на нашей встрече), ты сдаешься, ты хохочешь и восхищаешься мной. Собственные чары, поток речи, нежданный, стихийный, восхищают меня самого. Словами снимая с вещей покровы, я поражаюсь тому, как много, как бесконечно больше, чем могу рассказать, я скопил наблюдений. Я говорю, а они все вскипают – образы, образы. Вот оно, вот, говорю я себе, то, что мне нужно; но почему же, я себя спрашиваю, я не могу закончить письма, за которое взялся? Ведь у меня по всей комнате валяются неоконченные письма. Я начинаю подозревать, когда я с тобой, что я безумно, редко талантлив. Восторг молодости переполняет меня, и сознание силы, и немыслимые прозренья. Сбивчивый, рьяный, как я взлечу, как буду кружить, и жужжать, напевать над цветами, над пунцовыми чашечками, и от синих раструбов отдастся гулом этот напев. Как наслажусь я своей юностью (я из-за тебя это чувствую). И Лондоном. И свободой. Но – стоп. Ты не слушаешь. Против чего-то ты возражаешь, невыразимо знакомым жестом скользнув вдоль колена рукой. По таким вот знакам мы распознаем болезни наших друзей. «В своем богатстве и изобилии, – ты будто бы говоришь, – не оставляй меня». «Постой, – ты говоришь. – Спроси меня, почему я страдаю».
Так дай я тебя ухвачу. (Как ты меня ухватил.) Ты лежишь на этом припеке, этим прелестным, тающим, этим тихим, ясным октябрьским днем, глядя, как шлюпки одна за другой скользят сквозь причесанные ветки ивы. И ты хочешь быть поэтом; и ты хочешь любви. Но великолепная четкость твоей мысли и бескомпромиссность твоего интеллекта (я от тебя набрался латыни; из-за твоих этих качеств я чуть ерзаю, вижу кое-какую потертость, кое-какую линялость собственного снаряженья) мешают тебе. Ты не станешь тешиться высоким обманом. Кутаться в розовые, в золотистые облака.
Ну что – угадал я? Правильно понял этот легкий жест твоей левой руки? А раз так – покажи мне твои стихи; ты ночью писал, не отрывая пера от бумаги, в жару вдохновенья, и сейчас тебе самому чуть неловко. Ты не веришь во вдохновенье, вот почему, ни в свое, ни в мое. Давай-ка вместе пойдем, по мосту, под вязами, домой, ко мне, в мою комнату, и стенами, красными холстинковыми шторами скроем рассеивающие голоса, зовы и запахи лип, чужих жизней; молоденьких продавщиц, нагло цокающих каблучками; тяжелых, кренящихся от поклажи старух; чьи-то смутные, беглые тени – может, это Джинни, или Сьюзен, или это Рода исчезает сейчас за углом? Но вот ты опять поморщился, и я угадываю; я от тебя ускользнул; пришел в раж; разжужжался, как целый пчелиный рой, бесконечно летаю кругами, нет у меня твоей хватки – безупречно сосредоточиваться на одной-единственной теме. Ничего, я вернусь.
– Когда рядом такие строенья, – Невил говорил, – куда деваться от этих молоденьких продавщиц. Эти хиханьки, трескотня мне претят; врываются в мою тишину, в самые высокие минуты настырно напоминают о нашем упадке.
Ну вот, наконец мы опять на своей территории, после этих велосипедов, лип, исчезающих теней на растерянных улицах. Здесь мы властители спокойствия и порядка; бредем тропою гордых традиций. Огни уже прошивают желтой мережей газон. Древний двор залит речным туманом. Он нежно ластится к поседелому камню. В деревне сейчас залубенели листы при дороге, чихают в лугах от сырости овцы; а здесь, в твоей комнате, сухо. Мы говорим по душам. Огонь скачет – вверх, вниз, а то играет с круглой дверной ручкой.
Ты читаешь Байрона. Отмечаешь места, оправдывающие твой собственный нрав. Вижу, вижу пометы против каждой фразы, выказывающей натуру язвительную, но страстную; горячность на лампу бросающегося мотылька. Ты проводил эту черточку карандашом, а сам думал: «Я тоже эдак вот скидываю плащ. Тоже показываю нос судьбе». Только Байрон не заваривал чай, как ты: наливаешь чайник через край, и когда прикрываешь крышкой, все сразу расплескивается. Вон у тебя на столе какая темная лужа – растекается среди книг и бумаг. Ты ее беспомощно обжимаешь своим носовым платком. А мокрый платок преспокойно суешь в карман – нет, это не Байрон; это ты; это настолько типичный ты, что, если я вспомню тебя лет через двадцать, когда мы оба будем прославлены, отечны и невыносимы, – то по этой вот сценке; и если ты умрешь к тому времени, я всплакну. Раньше ты был молодым человеком Толстого; теперь – байронический молодой человек; глядишь – и мередитовским заделаешься; тогда ты съездишь на Пасху в Париж и вернешься в смокинге, отвратным французом, о котором слыхом никто не слыхивал. И тут с меня хватит.
Во мне – один-единственный человек, я сам. Я не перевоплощаюсь в Катулла, которого обожаю. Я раболепно корплю над занятиями: справа словарь, слева тетрадь, и я в нее заношу любопытные случаи употребления герундия. Но не век же мне ножом проскребать стертые древние литеры. Неужели уж так, никогда, задернув потуже холстинковые шторы, я не увижу, как брусом белого мрамора сияет под лампой моя книга? Вот дивная жизнь – посвятить себя совершенству; плыть по излучинам фразы, куда бы она ни текла, – в пустыни, к зыбучим пескам, – не замечая привад и соблазнов; быть всегда бедным, нечесаным; выглядеть неуместно на Пиккадилли.
Но я слишком нервный, не могу толком довести суждение до конца. Говорю быстро-быстро и хожу взад-вперед, чтобы скрыть волненье. Ненавижу сальные платки – ты запачкаешь своего «Дон Жуана»[6 - Поэма Джорджа Ноэла Гордона Байрона (1788–1824).]. Да ты не слушаешь вовсе. Выделываешь фразы про Байрона. И пока ты жестикулируешь, играешь плащом и тростью, я пытаюсь поведать тебе тайну, которую еще не открывал никому, я прошу тебя (стоя к тебе спиной) взять мою жизнь в свои руки и сказать мне, неужели это навек я обречен вызывать отвращенье в тех, кого я люблю.
Я стою к тебе спиной, я волнуюсь. Нет, руки ничуть не дрожат. Очень точно я всаживаю «Дон Жуана» в прореху меж книг; вот так. Нет, лучше быть любимым, быть знаменитым, чем таскаться за совершенством по зыбучим пескам. Но неужели я обречен внушать отвращение? Поэт я или не поэт? На, получи. Весь заряд моих губ, холодный, как свинец, тяжелый, как пуля, которой я выстреливаю в продавщиц, в женщин, в козни, каверзы и пошлость жизни (потому что ее люблю), я теперь выпускаю в тебя, когда бросаю тебе – лови – мои стихи.
– Вылетел за дверь, как стрела из лука, – Бернард говорил. – Оставил свои стихи. О дружба, я тоже умею сушить розы в сонетах Шекспира! О дружба, как метко разят твои стрелы – сюда, сюда, опять сюда. Он посмотрел на меня, обернулся и посмотрел; оставил свои стихи. Как поднялся, клубясь, застивший мне душу туман! Умирать буду – не забуду этого знака доверия. Длинной волной, круглым, тяжелым валом он накатил на меня и опустошил, вскрыл, оголил гальку на прибрежье души. Унизительно. Я обратился в мелкую гальку. Сметены все подобья. Нет, ты не Байрон, ты – это ты. Другой человек тебя сводит к твоему единственному я – как странно.
Как странно: между нами прядется нить, сучится, тростится и тянется сквозь туманные дали нас разделившего мира. Он ушел; я стою с его стихами в руках. И между нами – нить. И все-таки – как хорошо, как приятно освободиться от чужого присутствия, от темно-испытующего догляда! Как чу?дно – задернуть шторы и никого не впускать; и пусть они слетаются, мои постояльцы, жалкие, свойские, которых он распугал своей силой, заставил спасаться по неведомым темным углам. Духи насмешки и наблюдательности, которые даже от той опасной минуты меня оградили, снова всей стаей летят восвояси. С ними снова я Бернард; я Байрон; я то, и другое, и третье. Они затеняют свет и как встарь меня одаряют своими штуками, трюками, замечаньями и тучкой кутают прекрасную простоту той минутной растроганности. Потому что во мне больше моих я, чем думает Невил. Мы не так просты, как нашим друзьям способней было бы для собственных нужд. Но любовь проста.
Ну вот они и вернулись, мои домашние, свойские духи. Укрепления, которые Невил прорвал, проткнул своей удивительно ловкой рапирой, воздвигнуты снова. Я опять почти цел, почти целен; и подумать только, как приятно снова ввести в игру все, что Невил во мне проглядел! Вот я раздвигаю шторы, смотрю в окно и думаю: «Ему бы это не доставило ровно никакого удовольствия; а меня это тешит». (Мы пользуемся друзьями, чтоб мерить свой собственный рост.) Я схватываю такое, что Невилу в жизни не поймать. Там, от нас через дорогу, распевают охотничьи песни. Празднуют какой-то успех своих биглей. Мальчики в шапочках, которые поворачивались все разом, когда линейка огибала лавровый куст, теперь огревают друг друга по заду и хвастаются. Но Невил, избегая соприкосновений, украдкой, как заговорщик, спешит к себе в комнату. Я вижу: вот откинулся в низком кресле, смотрит в огонь, который вдруг обретает архитектурную твердость. Если бы в жизни, – он думает, – было такое вот постоянство, такой порядок – ведь пуще всего он жаждет порядка и презирает мою байроническую растрепанность; и тут он задергивает шторы; на засов запирает дверь. Его глаза (он влюблен ведь; мрачный образ этой любви правил на нашей встрече) застилаются страстной тоской; в них стоят слезы. Он хватает кочергу и вмиг прибивает росток твердости, пробившийся из горящего кокса. Все меняется. Юность, любовь. Шлюпка прошла ветельной аркой, теперь она под мостом. Персивал, Тони, Арчи, еще кто-то отправится в Индию. Мы не увидимся больше. Тут он тянет руку к своей записной книжке – аккуратному томику, обернутому мрамористой бумагой, – и страстно строчит долгие строки стихов, в манере того поэта, каким сейчас особенно увлечен.
Ну а мне надо одуматься; глянуть в окно; послушать. Опять оголтелый хор. Теперь фарфор кокают – это такой ритуал у них. Хор, как крушащий старые вязы горный поток, разбившись о камни, пенными руладами низвергается в пропасть. А они катятся себе дальше; скачут; за собаками; за мячом; раскачиваются вверх-вниз, как мучные мешки, прикрепленные к веслам. Сметены переборки – все они, как один. Нервный октябрьский ветер проносит пучками шум и тишь через двор. Вот опять фарфор кокают – такой ритуал. Старуха с кошелкой бредет враскачку домой вдоль огненно-красных окон. Побаивается: не напали бы, в канаву бы не столкнули. А сама останавливается, якобы погреть ревматические, узловатые руки, у костра, мечущего ленты искр и бумажный сор. Старуха под озаренным окном. Контраст. Я его вижу, а Невил не видит; я его чувствую, а Невил не чувствует. Вследствие чего он достигнет совершенства, а я провалюсь, и ничего после меня не останется, кроме непропеченных, песком присыпанных фраз.
Я теперь про Луиса думаю. Какой недобрый, пронзительный свет бросил бы Луис на этот осенний, убывающий вечер, битье фарфора, бесшабашный охотничий рев, на Невила, Байрона, на наше житье-бытье? Губы у него чуть поджаты; бледные щеки; корпит в конторе над каким-то невнятным денежным документом. «Мой отец, брисбенский банкир» – стыдится его, а без конца поминает – обанкротился. И вот он сидит в конторе, Луис, первый ученик в нашей школе. Но я, волочась за контрастами, часто вижу на себе его взгляд, насмешливый взгляд, дикий взгляд, нас складывающий, как мелкие части огромной суммы, которую он вечно ищет в своей конторе. И однажды, взявши тоненькое перо, обмакнув его в красные чернила, он закончит сложение; и сумма окажется недостаточной.
Бух! Теперь они стул на забор швырнули. Какая тоска. Да и я-то хорош. Некстати разнюнился, не правда ли? И я высовываюсь из окна, роняю сигарету, и она приземляется, легонько кружа. Я чувствую, как Луис смотрит на мою сигарету. И Луис говорит: «Смысл? Ведь должен быть какой-нибудь смысл?»
– Люди идут, – Луис говорил, – идут, идут мимо окна обжорки. Автомобили, фургоны, омнибусы; и снова омнибусы, фургоны, автомобили – все мимо окна. На заднем плане – магазины, дома; и серые шпицы старинного городского собора. На переднем – стеклянные полки, а там пышки, хлеб с ветчиной на блюдах. Все несколько отуманено паром из чайника. Жирный, бурый дух баранины и бифштексов, сосисок, пюре – мокрой сетью повис посреди обжорки. Я опираю книгу на бутылочку кетчупа и хочу быть как все.
Но – не могу. (Они все идут, все идут беспорядочным шествием.) Я не могу читать книгу, и бифштекс не могу заказать убежденно, решительно. Я твержу: «Я средний англичанин. Средний служащий», а сам все примеряюсь к людишкам за ближним столиком, чтобы не оплошать. Дряблолицые, с вислой кожей, дрожащей от сложных чувств, цепкие, как обезьяны (напомаженные почему-то), они со всей подобающей случаю важностью обсуждают продажу пианино. Оно всю прихожую ему загородило; он его за десятку уступит. А люди идут, идут; сквозь шпицы собора, сквозь хлеб с ветчиной. Мои мысли реют и плещут, как флаг на ветру, но, надорванные этой ерундой, тотчас никнут и вянут. И никак я не сосредоточусь на ужине. «Я бы за десятку его уступил; вещь красивая; но весь холл загородило». И так – рывками, как кайры в полете, поблескивающие напомаженным опереньем. Все, что превышает эту норму, – тщета. Это – среднее; одинаковое. Меж тем подпрыгивают вверх-вниз котелки; дверь без конца отворяется, хлопает. На меня находит ощущенье текучести, непорядка; уничтоженья, отчаянья. Но еще я чувствую ритм обжорки. Такой вальсок: отхлынет, прильет, и – кругами, кругами. Официантка, ловко удерживая поднос, проносится туда-сюда, и кругами, кругами, оделяя зеленью, компотом и кремом когда положено, кого положено. Одинаковые люди, вбирая этот ее ритм в свой («Я б его за десятку уступил; всю мне прихожую загородило»), берут у нее свою зелень, свой компот и свой крем. Где разрыв в череде? Где щель, в которой сквозит беда? Неразрывен круг, нерушима гармония. Вот он – главный ритм; сквозной мотив; общая побудительная пружина. Я смотрю, как она сжимается, расслабляется, сжимается снова. Но меня не захватывает, не вбирает. Если вдруг я заговорю, подражая их речи, они навострят уши, будут ждать, что я еще такого скажу, чтоб определить, откуда я – из Канады? из Австралии? – я, больше всего на свете жаждущий любви, понимания, я – посторонний, чужак. Я хочу быть, как все, укрыться под плоской волной заурядности; а сам краем глаза ловлю далекие горизонты; и натыкаюсь на глупо подпрыгивающие котелки. А ко мне рвутся жалобы отчаянных, неприкаянных душ (гнилозубая тетка топчется робко у стойки): «Отведи нас обратно, в овчарню, мы так устали вразброд подпрыгивать вверх-вниз мимо окон с ветчиной на блюдах». Да; я приведу вас в порядок.
Я буду читать эту книгу, опертую на бутылочку кетчупа. В ней кованый звон, несколько совершенных фраз, кой-какие золотые слова, и всё вместе – поэзия. И никому, никому из вас нет до нее дела. Что мертвый поэт говорил, вы забыли. А я не смогу ее так вам перевести, чтобы вас проняло; чтобы вам стало ясно, как вы бесцельны; как пошл, как затаскан ваш ритм; и не могу остановить это вырожденье, которое, пока вы не поймете, как вы бесцельны, делает вас с самых пелен старичьем. Переложить эти стихи так, чтоб до вас дошло, – вот достойное приложенье сил. Я, спутник Платона, Вергилия, буду колотить кулаком крашенную под дуб дверь. Я, как плеть на обух, ополчусь на вашу бессмыслицу. Меня не вберет это бесцельное шествие котелков, канотье, пестро-перистых дамских конструкций. (Сьюзен, которую я уважаю, ходит летом, конечно, в простой соломенной шляпе.) И суетня, и пар, тяжелыми, неровными каплями ползущий по подслеповатой оконнице; и рывки и стоны автобусов; и это топтанье у стойки; и речи, разбитые вдребезги на нечеловеческий бред; нет, я вас приведу в порядок.
Мои корни идут глубоко, глубоко, по свинцовым, по серебряным жилам, по зловонно и тяжко вздыхающим топям, к сердцевине, где в узел сплетены дубовые корни. Я был слеп, опечатан, уши забиты землей, но я слышал военные слухи; и соловья; я чуял: человечьи толпы в поисках цивилизации перемещались, как птицы в перелете к лету, я видел: женщины шли с красными кувшинами к Нилу. Я проснулся в саду, от удара в затылок, от жаркого поцелуя Джинни; и все это вспоминается мне, как глухие крики, обвал стропил в черно-красных клиньях ночного пожара. Вечно я сплю, просыпаюсь. Вот заснул; вот проснулся. И вижу мерцающий чайник; стеклянные полки с заветрившейся ветчиной; пиджаки высоко сидящих у стойки мужчин; а за ними я вижу вечность. Такой уж оттиснут на мне знак, палач выжег его каленым железом на моем трясущемся теле. И обжорку эту я вижу сквозь трепет крыл, многоперых, сложенных крыл былого. Вот откуда – сжатые губы, нездоровая бледность; мало располагающий вид, когда я обращаю злую, сердитую физиономию к Бернарду, к Невилу, которые бродят под вековыми тисами; наследуют кресла; и потеснее смыкают шторы, чтоб свет падал им прямо на книгу.
Сьюзен – вот кого я уважаю; потому что она сидит и шьет. Шьет под тихой лампой, в доме, где шепчутся под окном хлеба, и дает мне чувство сохранности и покоя. Ведь я самый слабый, я самый младший из них из всех. Ребенок, который уставился себе под ноги, на промывины дождя на дорожке. Вот улитка, я говорю; вот листик. Вечно я самый маленький, самый глупый, доверчивый. Все вы прикрыты. Я – голый. Официантка с венцом из кос на бегу вас оделяет компотом и кремом – без запиночки, как сестра. Вы – ей братья. Я же, встав и стряхивая крошки с жилета, сую под тарелку слишком крупные чаевые – поглубже, чтобы не обнаружила, пока я не ушел, и ее презренье, когда она вытащит с ухмылкой мой шиллинг, меня не настигнет, потому что уже меня подхватило верчение двери.
– Вот ветер штору колышет, – Сьюзен говорила. – Проступают кувшины, тазы, соломенная подстилка, одряхлевшее кресло с дыркой. Стену снова усеяли знакомые линялые банты. Птичий хор замолчал, одна только птичка поет и поет у меня под окном. А я натяну чулки, тихо-тихо пройду мимо папиной комнаты, спущусь на кухню, выйду садом, мимо теплиц – в луга. Такая рань еще. Туман. День пока скованный, плотный, как саван. Ничего, скоро помягчеет; оттает. В этот час, пока еще не очнулось утро, мне кажется, что сама я – поле, денник, я – вяз; мои – стаи птиц, и этот зайчишка, который прыснул в последний миг, не то бы я на него наступила. Моя – праздно расправившая крылья цапля; и корова, которая, похрустывая, жует на ходу и одну вслед другой ставит ноги; и реющая, ныряющая ласточка; и тихая злость в небе; и прогалы зелени там, где погасла злость; и тишина, и колокола; и крики возчика, ведущего с луга ломовиков, – все мое.
Меня от этого не отделить, не оторвать. Меня посылали в школу; посылали завершать образованье в Швейцарию. Я ненавижу линолеум; ненавижу пихты и горы. Дай-ка я брошусь на эту плоскую землю под бледным небом, по которому медленно бредут облака. Подвода растет и растет, это она сюда по дороге едет. Овцы толпятся посреди луга. Птицы толпятся посреди дороги – им еще не время лететь. Лес дымится; уходит рассветная скованность. День потягивается со сна. К нему возвращаются краски. День желто машет всеми своими хлебами. Земля тяжело висит подо мной.
Кто же я? Вот, налегла на калитку, смотрю, как мой сеттер, носясь кругами, вынюхивает траву, – кто я? Иногда я думаю (мне нет еще двадцати), что я и не женщина вовсе, а свет, падающий на эту траву, на калитку. Я – время года, я иногда думаю, январь, май, ноябрь; туман, слякоть, рассвет. Не терплю, чтоб меня перебрасывали, как мяч, и тихо плыть по течению не умею, и теряться в толпе. Но сейчас, когда я так налегла на калитку, что она мне впечаталась в руку, я чувствую тяжесть, которая у меня образовалась в боку. Что-то наросло, скопилось, в школе, в Швейцарии, твердое что-то. Это не вздохи, не смех; не ходячие или острые фразочки; не странные разговоры Роды, когда она смотрит мимо тебя, через твое плечо; не пируэты Джинни, слаженной – тело, ноги – из одного куска. То, что я даю, тяжело. Я не умею плыть по течению, теряться в толпе. Мне больше нравится встречать взгляд пастуха на дороге; взгляд цыганки, которая кормит у телеги, в канаве своих сосунков; так я буду кормить своих. Потому что скоро, в жаркий полдень, когда жужжат над левкоями пчелы, он придет, тот, кого я буду любить. Он встанет под кедром. И скажет мне всего одно слово, и я одним только словом отвечу. Я отдам ему то, что скопилось во мне. У меня будут дети; будут горничные в фартуках; работники с вилами; кухня, куда приносят в корзинах больных ягнят, чтоб согреть; где висят окорока и блестит лук. И буду я, как моя мама, молча, в синем фартуке, запирать шкафы.
А сейчас я проголодалась. Кликну-ка своего сеттера. В голову лезут горбушечки, и хлеб с маслом, и белые тарелки на солнце. Я пойду обратно лугами. По заросшей тропе пойду ровным, широким шагом, то ловко вильну, чтоб в лужу не угодить, то легко вспрыгну на кочку. На грубой юбке у меня водяной бисер; туфли почернели, раскисли. День оттаял; убрался зеленью, зеленью с янтарем. На проезжей дороге уже не сидят птицы.
Я возвращаюсь, как кошка или лиса возвращается, когда шерсть у нее поседела от инея и затвердели на жесткой земле лапы. Я пробираюсь среди капусты, и она скрипит листьями, отряхивается от росы. Я сижу и жду, когда папа прошаркает по коридору, растирая в пальцах травинку. Наливаю чашку за чашкой, и нераскрытые розы очень прямо стоят среди банок варенья, между караваем и маслом. Мы молчим.
А потом я иду к кухонному шкафу и вынимаю сырые кульки с изюмом; тяжелый мешок муки поднимаю на скобленый кухонный стол. Мешу, раскатываю; взбиваю, зарываюсь руками в теплое тестяное нутро. Пропускаю сквозь пальцы веером холодную воду. Урчит огонь; жужжат хороводом пчелы. Вся моя коринка, и рис, и серебряные кульки, и голубые кульки заперты снова в шкафу. Доспевает в духовке жаркое; хлеб дышит нежным куполом под свежей салфеткой. Под вечер я спускаюсь к реке. Все на свете размножается и плодится. Перелетают с цветка на цветок бабочки. Цветам тяжело от пыльцы. Чинной чередой скользят по реке лебеди. Облака, теперь теплые от солнечных пятен, уплывают за горы, роняя золото на воду, золото на лебяжьи шеи. Коровы, одну вслед другой ставя ноги, выжевывают себе путь через луг. Я нащупываю в траве крепкий, тугой боровичок; обламываю ему ножку, срываю лиловый ятрышник, который вырос рядом с боровичком, и пусть лежат себе вместе: гриб, цветок с землей на корне; а мне домой пора, надо заваривать чай для папы на чайном столе среди зардевшихся роз.
Но вечер приходит, и вот зажжены лампы. А когда вечер приходит и зажжены лампы, они подпаляют желтым пожаром плющ. Я сижу с шитьем у стола. Я думаю про Джинни; про Роду; и слышу шорох колес на брусчатке, когда на ферму тяжело бредут битюги; слышу в вечернем ветре гул машин. И смотрю, как листья дрожат в потемнелом саду, и думаю: «Они танцуют там в Лондоне. Джинни целует Луиса».
– Вот странно, – Джинни говорила. – Ах, какие глупости – спать, гасить свет, подниматься в спальню. Они, видно, уже поснимали платья, нацепили белые ночные рубашки. На все дома – ни единого огонька. Только вытянулась в небе шеренга труб; и кое-где фонари горят, как всегда они горят, для кого – неизвестно. На улицах одни бедняки, куда-то спешат. А так – никого, нигде; день уснул. Несколько полицейских торчат по углам. И ночь наступает. Я сама чувствую, как сияю во тьме. Колени в шелку. Шелковые ноги мягко трутся одна о другую. Ожерелье студит шею. Тесноватые туфли веселят ножку. Я сижу, как струнка прямая, боюсь нечаянно мазнуть волосами по спинке сиденья. Я во всеоружии, я готова. Минутная пауза; темный миг. Скрипачи подняли смычки.
Вот авто замирает, нежно прошелестев. Из тьмы выхватывает клин мостовой. Дверь отворяется, хлопает. Приезжают, не разговаривают, спешат. Свист плащей падает в холл. Это прелюдия, это начало. Я оглядываюсь, приглядываюсь, я пудрюсь. Все в порядке, готово. Волосы взмыли сплошной волной. На губах в самый раз помады. Сейчас я вольюсь в поток мужчин и женщин на этих ступенях, среди них я как дома. Я прохожу, предоставленная их взглядам, а они – моему. Взгляды как молнии, ни теплоты, ни привета. Разговаривают наши тела. Вот чего я ждала. Мой мир. Все распределено и готово; слуги, расставленные там, там и сям, берут мое имя, мое новенькое, свежее имя, и перебрасывают передо мной. Я вхожу.
Тут золоченые стулья в пустынных, заждавшихся залах, и цветы, величавей и тише, чем те, что растут, – стелются зелено, стелются бело по стенам. И на одном маленьком столике лежит одна книга. Вот о чем я мечтала; что представляла себе. Я здесь как дома. Как ни в чем не бывало я ступаю по толстым коврам. Я скольжу по лоснистым паркетам, и понемножку я расправляюсь в этих запахах, этом сверканье, как расправляет папоротник свернутые листы. Я останавливаюсь. Примеряюсь к этому миру. Разглядываю группки незнакомых людей. Среди искристо-зеленых, розовых и перламутровых женщин стоят очень прямо мужчины. Они черно-белые; под одеждой они изрыты глубокими бороздами. Вот оно, вот – то давнее отражение в туннельном окне; и оно летит. Черно-белые одинаковые незнакомцы смотрят на меня, когда я наклонюсь; я повернусь – взглянуть на картину, и они повернутся тоже. Их руки дрожат и тянутся к галстукам. Они теребят жилеты, мнут носовые платки. Совсем юные. Только и думают, как бы понравиться. Вдруг бог знает что взыгрывает во мне. Я веселая, я лукавая, грустная, нежная – по очереди. У меня есть корень, но я теку. Вся золотая, я теку в одну сторону, я кому-то кидаю «Да». Струюсь обратно и кому-то кидаю «Нет». Кто-то срывается со своего места под гобеленом. Идет ко мне. В жизни я так не волновалась. Я дрожу. Струюсь. Теку, как водоросль течет на реке – то туда, то сюда, но пускай он подходит, у меня же есть корень. «Да, – я ему говорю. – Да». Бледный, с темными волосами, тот, кто подходит ко мне, романтичен, печален. А я лукава, я текуча, капризна; оттого, что он печален, он романтичен. Он здесь; он рядом стоит.
Вдруг, легким рывком, как мелкий камень отрывается от горы, меня бросает; мы падаем вместе; меня уносит. Мы отдаемся медленному теченью. Нас подхватывает плещущая, робкая музыка. Танец плывет, плывет, и вдруг всей рекой он разбился о скалы; дрожит; замирает. Но вот нас схлестывает, поднимает широкий вал; держит нас вместе; не вырваться из-за этих неотступных, тугих, тесных, высоких стен. Они прижимают друг к другу наши тела – его твердое тело, мое текучее; держат нас вместе; а потом раскатываются, нас накрывают, нежно, кругло, и несут, несут. Вдруг разбивается музыка. Моя кровь все несется, а сама я стою. Зал кружится, кружится. Вот – остановился.