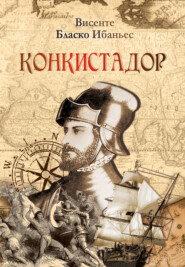По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Луна Бенамор
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Потом суровый еврей говорил восторженно о «величайшем человеке мира», о бароне Ротшильде, истинном владыке королей и правительств (заботясь о том, чтобы не забыть его баронского титула каждый раз, когда произносил его имя) и кончал перечислением больших еврейских центров, все более многочисленных и многолюдных.
– Мы повсюду! – говорил он, насмешливо моргая одним глазом. Теперь мы распространяемся по Америке. Меняются правительства, исчезают народы, мы же остаемся все теми же. He даром же ждем мы Мессию. Какой-нибудь Мессия явится.
Когда по утрам Агирре бывал в жалкой банкирской конторе, его представили двум дочерям Забулона, Соль и Эстрельи, и жене его Тамаре. Однажды Агирре вдруг почувствовал дрожь волнения, услышав сзади шелест шелка и увидя, как светлое пространство дверей затемнилось фигурой особы, которую он, угадал своими нервами.
To была Луна, входившая, чтобы дать поручение дяде с тем интересом, с которым еврейки относятся к коммерческим делам своей семьи. Старик схватил над прилавком её руки и, дрожа, погладил их:
– Это моя внучка, сеньор консул. Моя внучка Луна. Отец её умер, умерла и моя дочь. Она приехала из Марокко. У бедняжки нет никого, кто бы любил ее так, как любит ее дед.
И тронутый своими собственными словами старик прослезился.
Агирре вышел из конторы с радостью победителя.
Они говорили друг с другом! Они познакомились!
Как только он увидит ее одну на улице, он присоединится к ней, пользуясь свободой благословенных нравов, казалось, специально созданных для влюбленных.
III
Ни он, ни она не могли отдать себе отчета, как после нескольких обычных встреч родилась между ними доверчивая дружба и какое слово впервые изобличило тайну их мыслей.
Они виделись по утрам, когда Агирре показывался в окне своей комнаты. Кончился праздник Кущей, хижина, служившая для религиозного обряда, была сломана, но Луна под различными предлогами продолжала всходить на балкон, чтобы обменяться с испанцем взглядом, улыбкой, приветом.
Они не разговаривали на этой высоте, из боязни перед соседями. Встречаясь потом на улице, Луис почтительно кланялся и присоединялся к девушке. Они шли рядом, как два товарища, подобно другим парочкам, которые им встречались на пути.
В этом городе все знали друг друга и только благодаря этому и могли различать супругов от простых друзей.
Луна входила в магазины, чтобы исполнять поручения Абоабов, как добрая еврейка, интересующаяся делами семьи. Иногда же она гуляла бесцельно по Королевской улице или пробиралась до аллеи Аламеда рядом с Агирре, которому объясняла городские дела. Во время этих прогулок они останавливались в конторе банкира-менялы, чтобы поздороваться с патриархом, глядевшим с детской улыбкой на молодую красивую парочку.
– Сеньор консул! Сеньор консул! – говорил Самуил. – Я принес из дома семейные бумаги, чтобы вы их почитали. He все. Их много, много! Мы Абоабы старый род. Я хочу, чтобы сеньор консул видел, что мы испанские жиды и все еще сохраняем память о красивой стране.
И он вытащил из под прилавка несколько пергаментных свертков, исписанных еврейскими буквами. To были брачные свидетельства, акты о браках Абоабов с видными семьями еврейской общины. Наверху на каждом документе виднелись с одной стороны английский, с другой – испанский гербы, в ярких красках и с золотыми линиями.
– Мы англичане! – говорил старик. Да ниспошлет Господь многие лета и счастье нашему королю! Но в силу всей нашей истории мы испанцы, кастильцы, да – кастильцы.
Он выбрал между пергаментами один более свежий и белый и склонил над ним свою седую волнистую бороду и свои слезящиеся глаза.
– Это свидетельство о браке Бенамора с моей бедной дочерью, родителей Луниты. Вы не поймете, оно написано еврейскими буквами, но на кастильском языке, на древнем кастильском наречии, на котором говорили наши предки.
И детским голосом, медленно, словно восхищенный архаичностью слов, он прочел содержание контракта, соединившего брачующихся «по обычаю древней Кастилии». Потом перечислял условия брака и штрафы, ожидавшие каждую сторону, если бы по её вине расторгся союз.
– «Должен заплатить – неясно бормотал старик – должен заплатить столько то песо…» Скажите, разве теперь еще существуют эти старые песо в Испании, господин консул?
В беседах с Агирре Луна обнаруживала такой же, как и её дед, интерес к красивой стране, далекой и таинственной, хотя она и начиналась всего в нескольких шагах, у самых гибралтарских ворот. Она знала только одну рыбацкую деревушку, за Ла Линеа, где провела лето с семьей.
– Кадис! Севилья! Как они должны быть красивы! Я представляю их себе. Я видела их часто во сне и думаю, что если я когда-нибудь увижу их наяву, они не удивят меня. Севилья! Скажите, дон Луис, правда, что жених и невеста разговаривают там сквозь решетку окна? Правда, что девушкам устраивают серенады с гитарой и бросают к их ногам плащ, чтобы они наступили на него! Правда, что мужчины из-за них убивают друг друга? Какая прелесть! He возражайте. Это ужасно красиво!
Потом она сообщала все свои воспоминания о стране чудес, о стране легендарной, где жили её предки. Когда она была ребенком, бабушка, жена Самуила Абоаб, укачивала ее no ночам, таинственным голосом рассказывая чудесные деяния, происходившие всегда в благородной Кастилье и всегда начинавшиеся одинаково: «Говорят и рассказывают, что король Толедский влюбился в прекрасную еврейку по имени Ракель…» Толедо!
Произнося это имя, Луна полуоткрывала глаза, точно в полусне. Столица испанских евреев! Второй Иерусалим! Там жили её благородные предки, казначей короля и врач всех грандов.
– Вы видели Толедо, дон Луис! Бывали в нем! Как я вам завидую! Красивый город, не правда ли? Большой! Огромный! Как Лондон? Как Париж? Ну, конечно, нет… Но, несомненно, гораздо больше Мадрида!
И увлеченная своими восторженными грезами, она забывала всякую сдержанность и расспрашивала Луиса о его прошлом.
Он, несомненно, благородного происхождения. Это видно по его внешности. С первого дня, как она его увидела, узнав его имя и национальность, она угадала, что он высокого происхождения. Он – идальго, каким она представляла себе всех испанцев, немного напоминающий лицом и глазами еврея, но более гордый, более высокомерный, неспособный снести унижения и рабства. Быть может, для больших праздников у него есть мундир, красивый костюм, расшитый золотом… и шпага, да шпага!
Глаза её блестели восторгом перед идальго рыцарской страны, одетым самым обыкновенным образом, как любой хозяин магазина в Гибралтаре, но каждую минуту он мог превратиться в блестящее насекомое, с сверкающей окраской, вооруженное смертоносным жалом!
И Агирре поддерживал её иллюзии, с простотой героя подтверждая все её предположения.
Да! У него есть расшитый золотом костюм, консульский, и шпага от мундира, которую он еще ни разу не вынул из ножен.
Однажды в солнечное утро оба, сами того не замечая, пошли по направлению к Аламеде. Она жадно с откровенным любопытством расспрашивала его о его прошлом, как это обыкновенно бывает, когда два человека чувствуют, как в них зарождается взаимное влечение. Где он родился? Как провел детство? Многих ли женщин он любил?
Они проходили под аркой старых ворот испанских времен, на которых еще уцелели орел и герб австрийской династии. В старом крепостном рву, превращенном в сад, поднималась группа могил. Здесь покоились английские моряки, павшие в битве при Трафальгаре.
Они пошли по бульвару, где деревья чередовались с пирамидами из старых бомб и конических ядер, покрасневших от ржавчины. Ниже огромные пушки простирали свои жерла по направлению к серым броненосцам, стоявшим в военном порте, и к просторной бухте, по голубой, переливавшейся золотом, равнине которой скользили белые пятна парусных лодок.
На большой эспланаде Аламеды, у подножья покрытой соснами и домами горы, группы мальчиков с голыми ногами бегали вокруг подпрыгивавшего мячика. В этот час, как, впрочем, в продолжении целого дня, огромный мяч – любимая национальная игра – прыгал по дорожкам, площадкам и дворам казарм. Шум криков и топот ног как военных, так и штатских, поднимался к небу во славу сильной, любящей гигиену Англии.
Они поднялись по большой лестнице вверх и сели на тенистой площадке, у памятника британского героя, защитника Гибралтара, окруженного мортирами и пушками. Взоры Луны блуждали по голубому небу, видневшемуся сквозь колоннаду деревьев, и она заговорила, наконец, о своем прошлом.
Она прожила печальное детство.
Родившись в Рабате, где еврей Бенамор занимался вывозом марокканских ковров, она жила однообразной жизнью, не зная других волнений, кроме страха перед опасностью. Европейцы, жившие в этом африканском городе были люди грубые, приехавшие с одной только целью, сколотить состояние. Мавры ненавидели евреев. Богатые еврейские семейства должны были жить обособленно, среди своих, не выходя за пределы своей среды, в постоянном оборонительном положении, в стране, лишенной всяких законов.
Молодые еврейки получали прекрасное воспитание, облегчавшееся свойственной этой расе приспособляемостью к прогрессу. Они поражали вновь прибывших в Рабат путешественников своими шляпами и костюмами, походившими на парижские и лондонские. Они играли на рояле, говорили на разных языках. И, однако, бывали ночи, когда от страха никто не спал, когда родители одевали их в вонючие лохмотья, и маскировали их, разрисовывая им лицо и руки разведенной в воде сажей и золой, силясь придать им безобразный и отталкивающий вид, чтобы они казались не их дочерьми, a рабынями.
To были ночи, когда боялись восстания мавров, вторжения соседних кабилов, фанатически наэлектризованных проникновением в страну европейцев. Мавры сжигали дома евреев, похищали их богатства, бросались, как бешеные звери, на белых женщин-иноверок, подвергали их ужасным насилиям и затем сносили им головы с адским садизмом.
О! Эти ночи детства, когда она спала стоя, одетая как нищенка, и когда даже её невинный возраст не мог ей служит защитой. Быть может, вследствие этих ужасов она заболела, была при смерти, и этому обстоятельству она была обязана своим именем Луна.
– Когда я родилась, меня назвали Орабуэной, а одна из младших сестер получила имя Асибуэна. После нескольких месяцев тревоги, завершившейся вторжением мавров, во время которого сожгли наш дом и мы уже думали, что обречены на смерть, моя сестра и я заболели нервной лихорадкой. Асибуана умерла, я уцелела.
И она описывала Луису, который с ужасом внимал ей, события этой экзотической необычной жизни, тоску и скорбь, выстраданные её матерью в бедном доме, где они нашли убежище. Дочь Абоаба кричала от горя и рвала свои пышные черные волосы перед постелью, на которой девочка лежало в лихорадочном бреду. Бедная её Орабуэна умирала.
– О! дочь моя. Моя красавица Орабуэна, алмаз мой ясный, дитя утешения! Уже не будешь ты есть вкусную курицу! Уже не оденешь ты по субботам красивые башмачки и мать твоя не будет смеяться от гордости, когда раввин найдет тебя такой милой и хорошенькой!
Бедная женщина металась по комнате при свете гаснувшей лампы. В темноте она угадывала присутствие незримого врага, ненавистного Уэрко, этого демона с кастильским именем, являющегося в назначенный час, чтобы отвести человеческие существа в мрачное царство смерти. Приходилось биться с злодеем, обманывать жестокого и безобразного Уэрко, как его обманывали так часто её бабки и прабабки.
Удерживая вздохи и слезы, мать старалась успокоиться и, распростершись на полу, говорила спокойно, сладеньким голоском, словно принимала важного гостя:
– Уэрко! Зачем ты пришел? Ты ищешь Орабуэну? Здесь нет её. Она ушла навсегда! Здесь лежит – Луна, красавица Лунита, милая Лунита. Иди, Уэрко, иди! Здесь нет той, которую ты ищешь.
На некоторое время она успокаивалась, но потом страх снова заставлял ее говорить с незримым, зловещим гостем. Он опять был здесь. Она чуяла его присутствие.
– Уэрко, ты ошибаешься! Орабуэна ушла! Ищи ее в другом месте. Здесь есть только Луна, красавица Лунита, золотая Лунита!