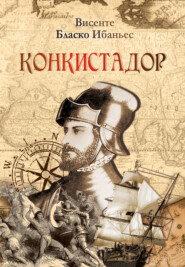По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Луна Бенамор
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И так велика была её настойчивость, что ей в конце концов удалось своим умоляющим, кротким голосом обмануть Уэрко. Чтобы освятить этот обман, на следующий день, во время праздника в синагоге, имя Орабуэна было заменено именем Луны.
Агирре слушал этот рассказ с таким же интересом, как будто читал роман из жизни отдаленной, экзотической страны, которую никогда не увидит.
В это утро консул сделал ей предложение, которое уже несколько дней носилось в его голове и которого он все не осмелился высказать. Почему им не полюбить друг друга? Почему не стать женихом и невестой? В их встрече было что-то провиденциальное. He даром случай их свел. Они познакомились несмотря на то, что происходили из разных стран и принадлежали к различным расам.
Луна протестовала, но с улыбкой. Что за безумие! Быть женихом и невестой, зачем? Ведь они не могут обвенчаться. У них разная вера. К тому же он должен уехать.
Агирре решительно возражал.
– He рассуждайте, закройте глаза. Когда любишь, нечего размышлять. Здравый смысл и условности существуют для тех, кто не любит. Скажите «да», а время и добрая судьба все устроят.
Луна смеялась, ей нравились серьезное лицо Агирре и страстность его слов.
– Жених и невеста на испанский лад? Думаете, что меня это прельщает? Вы уедете и забудете меня, как, несомненно, забыли других. А я останусь и буду помнить вас. Хорошо! Мы будем каждый день видаться и говорить о наших делах. Здесь невозможны серенады и если вы бросите к ногам моим плащ, вас сочтут безумцем. Но неважно! Будем женихом и невестой. Пусть будет так.
И говоря это, она смеялась, полузакрыв глаза, как девочка, которой предлагают забавную игру. Потом вдруг широко раскрыла глаза, словно в ней пробуждается забытое воспоминание и давит ей грудь.
Она побледнела. Агирре угадал, что она хочет сказать.
Она хотела говорить о своей прежней помолвке, о женихе-еврее, который находился в Америке и мог вернуться. После непродолжительного колебания, она, не прерывая молчания, вернулась к своей прежней решимости. Луис был ей благодарен. Она хотела скрыть свое прошлое, как поступают все женщины в первом порыве любви.
– Хорошо! Мы будем женихом и невестой. Итак, консул, скажите мне что-нибудь красивое, что говорят испанцы, когда подходят к решетке окна.
В это утро Луна вернулась домой с опозданием, к ланчу. Семья ожидала ее с нетернением. Забулон сурово взглянул на племянницу. Кузины Соль и Эстрелья шутливо намекнули на испанца. Глаза патриарха стали влажными, когда он заговорил о Кастилье и консуле.
Между тем последний остановился перед дверью индусской лавки, чтобы поболтать с Кхиамуллом. Он чувствовал потребность поделиться с кем-нибудь своей чрезмерной радостью.
Цвет лица индуса был зеленее обыкновенного. Он часто кашлял и его улыбка бронзового бэбэ походила на скорбную гримасу.
– Кхиамулл! Да здравствует любовь! Поверь мне, я хорошо знаю жизнь! Ты вот все болеешь и умрешь, не повидав священной реки твоей родины. Чего тебе недостает, – это подруги, девушки из Гибралтара или лучше из Ла Линеа, полуцыганки, в платке, с гвоздикой в копне волос и легкой походкой! Верно говорю, Кхиамулл?
Индус улыбнулся, не без оттенка презрения, и покачал головой.
Нет! Пусть каждый остается среди своих. Он сын своего народа и живет в добровольном одиночестве среди белых. Против симпатий и антипатий, коренящихся в крови, ничего не поделаешь. Брахма, это воплощение божественной мудрости, разделил людей на касты.
– Но, Бога ради, друг мой Кхиамулл! Мне кажется, девушка в роде той, на которую я тебе указываю, вовсе не достойна презрения…
Индус снова рассмеялся над его невежеством. Каждый народ имеет свои вкусы и свое обоняние. Так как он считает Агирре хорошим человеком, то он позволит себе открыть ему страшную тайну.
Пусть он посмотрит на белых, на европейцев, гордящихся своей чистотой и своими банями? Все они нечистые, и им присущ запах, которого они никогда ничем не уничтожат. Он, сын страны лотосов и священного ила, должен делать над собой усилия, чтобы выносить их прикосновение.
От них от всех пахнет – сырым мясом.
IV
Был зимний вечер. Небо было покрыто тучами. Было пасмурно, но не холодно. Луна и испанец шли медленным шагом по дороге, ведущей к Punta de Europa, к крайнему пункту гибралтарского полуострова.
Они оставили позади себя Аламеду и берега Арсенала, пройдя между тенистыми садами и красноватыми виллами, населенными морскими и сухопутными офицерами, огромными госпиталями, похожими на целое местечко и казармами, напоминавшими монастыри, с многочисленными галереями, где бегали кучи детей или мыли белье и посуду солдатские женщины, эти смелые скиталицы по свету, сегодня находившиеся при гарнизоне в Индии, а завтра в Канаде.
Облачное небо скрывало берег Африки, так что пролив имел вид безграничного моря. Напротив влюбленной парочки простирались темные воды бухты и в сумерках слабо вырисовывались черные очертания мыса Тарифа, словно сказочный носорог, на морде которого вместо рога поднимался маяк.
Сквозь сероватые тучи проникал робкий луч солнца, треугольник тусклого света, похожий на излучение волшебного фонаря, рисовавший на темной поверхности моря большое бледно-золотое пятно. В середине этого круга бледного света скользил, как умирающий лебедь, белый мазок парусной лодки.
Оба молодых человека едва отдавали себе отчет в том, что их окружало.
Они шли погруженные в свой эгоизм влюбленных. Вся их жизнь сосредоточивалась во взгляде или легком касании тел, которые на ходу встречались. Из всей жизни природы для них существовал только гаснущий вечерний свет, позволявший им видеть друг друга, и тепловатый ветер, шептавшийся в кактусах и пальмах, казалось, служивший музыкальным аккомпанементом к их словам.
В правом ухе звенел шум далекого рева: то море билось о скалы. С левой стороны слышался, словно тихая пастушья свирель, шепот сосен, нарушаемый время от времени грохотом повозок, двигавшихся по горным дорогам в сопровождении роты солдат с засученными рукавами и в рубашках.
Оба молодых человека глядели друг на друга с нежностью, улыбались автоматично, как улыбаются влюбленные, и все-таки были исполнены грусти, той сладкой грусти, которая таит в себе особое сладострастное чувство. Co свойственной её расе положительностью Луна глядела в будущее, между тем как Агирре довольствовался настоящим моментом, не думая о том, чем кончится эта любовь.
К чему расстраивать себя воображаемыми препятствиями!
– Я не похож на тебя, Луна! Я верю в нашу судьбу. Мы женимся, объездим весь свет. He беспокойся! Вспомни, как я познакомился с тобой. Был праздник Кущей. Ты ела, стоя, как цыгане, скитающиеся по свету и после последнего глотка возобновляющие свой путь. Ты принадлежишь к народу, который вел бродячий образ жизни и теперь еще скитается по земле. Я прибыл вовремя. Мы уедем вместе. По своей профессии я сам бродяга. Всегда мы будем вместе. Во всех странах, каковы бы они ни были, мы можем быть счастливы. И с собой мы увезем, горячо любя друг друга, весну и радость жизни.
Очарованная его страстными словами, Луна тем не менее сделала печальное лицо.
– Дитя! – пробормотала она с андалузским акцентом. – Сколько сладкой лжи! Но ведь это все-таки ложь! Как можем мы обвенчаться? Как все это устроится? Или ты примешь мою веру?
Агирре остановился от удивления и изумленными глазами посмотрел на Луну.
– Бога ради! Чтобы я стал евреем!
Он не был образцом верующего. Жизнь он провел, не придавая особенного значения религии. Он знал, что на свете существуют разные веры, но в его глазах католики были, без сомнения, лучшими людьми. К тому же его могущественный дядя, под страхом гибели карьеры, советовал ему не смеяться над подобными темами.
– Нет! Я не вижу в этом необходимости. Но должно же быть средство выйти из этого затруднительного положения. Я еще не знаю, какое, но, несомненно, оно должно существовать. В Париже я знал очень видных людей, женатых на женщинах твоего народа. He может быть, чтобы этого нельзя было устроить. Я убежден, все устроится. Да, вот идея! Завтра утром, если хочешь, я пойду к великому раввину, «духовному вождю», как ты выражаешься. Он, кажется, добрый господин. Я видел его несколько раз на улице. Кладезь премудрости, как утверждают твои. Жаль, что он такой грязный и пахнет прогорклой святостью. He делай такого лица! Впрочем это пустяки. Нужно только немного щелока, и все обойдется. Ну, не сердись. Этот добрый сеньор мне очень симпатичен, с его козлиной белой бородкой и слабеньким голоском, точно доносящимся из другого мира. Повторяю, я пойду к нему и поговорю с ним:
«Сеньор раввин!» – скажу я ему. Я и Луна, мы любим друг друга и хотим жениться, не так как женятся евреи, по договору и с правом потом раскаяться, а на всю жизнь, во веки веков. Соедините нас узами с головы до пят. Никто ни на небе ни на земле не сможет нас разъединить. Я не могу изменить своей религии, ибо это было бы низостью, но клянусь вам, что при всей моей приверженности к христианству Луна будет пользоваться большим вниманием, лаской и любовью, чем если я был бы Мафусаилом, царем Давидом, пророком Аввакумом или кем-нибудь другим из тех хвастунов, о которых говорится в Священном Писании.
– Молчи, несчастный, – прервала его еврейка с суеверным страхом, закрывая ему одной рукой рот, чтобы помешать дальше говорить. – Замкни свои уста, грешник!
– Хорошо, я замолчу, но я убежден, что как-нибудь это устроится. Или ты думаешь, что кто-нибудь сможет нас разъединить после такой искренней, такой долгой любви!
– Такой долгой любви! – повторила Луна, как эхо, вкладывая в эти слова серьезное выражение.
Замолчав, Агирре, казалось, был поглощен очень трудными вычислениями.
– По меньшей мере месяц прошел! – сказал он наконец, как бы удивляясь, сколько с тех пор прошло времени.
– Месяц, нет! – возразила Луна. – Гораздо, гораздо больше!
Он снова погрузился в размышления.
– Верно. Больше месяца. Вместе с сегодняшним тридцать восемь дней. И мы видимся каждый день. И с каждым днем любим друг друга все больше!
Оба шли молча, опустив головы, как будто поглощенные мыслью об огромной продолжительности их любви. Тридцать восемь дней!
Агирре вспомнил полученное вчера вечером от дяди письмо, исполненное удивления и негодования. Уже два месяца он находится в Гибралтаре и не думает отплыть! Что это у него за болезнь? Если он не желает занять свое место, пусть возвращается в Мадрид. И невозможность настоящего положения, необходимость расторгнуть узы этой любви, постепенно овладевшей им, вдруг представились ему со всей их настоятельностью и тяжестью.