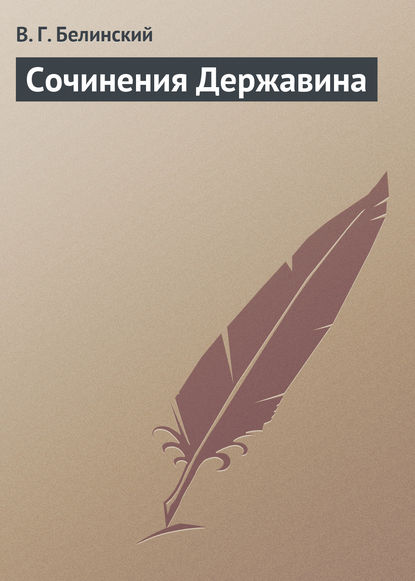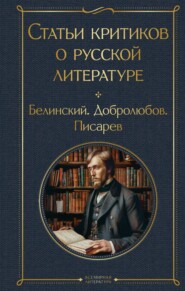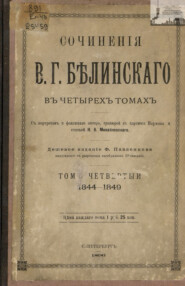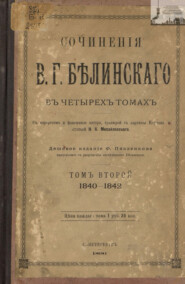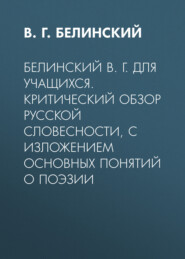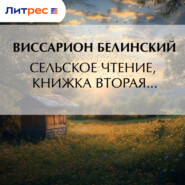По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сочинения Державина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Владыки света люди те же,
В них страсти, хоть на них венцы:
Яд лести их вредит не реже:
А где поэты не льстецы?
Ответ поэта на укоры исчезнувшего видения Фелицы дышит искренностию чувства, жаром поэзии и заключает в себе и автобиографические черты и черты того времени:
Возможно ль, кроткая царевна!
И ты к мурзе чтоб своему
Была сурова столь и гневна,
И стрелы к сердцу моему
И ты, и ты чтобы бросала,
И пламени души моей
К себе и ты не одобряла?
Довольно без тебя людей,
Довольно без тебя поэту
За кажду мысль, за каждый стих
Ответствовать лихому свету
И от сатир щититься злых!
Довольно золотых кумиров,
Без чувств мои что песни чли;
Довольно кадиев, факиров,
Которы в зависти сочли
Тебе их неприличной лестью;
Довольно нажил я врагов!
Иной отнес себе к бесчестью,
Что не дерут его усов;
Иному показалось больно,
Что он наседкой не сидит;
Иному очень своевольно
С тобой мурза твой говорит;
Иной вменял мне в преступленье,
Что я посланницей с небес
Тебя быть мыслил в восхищеньи
И лил в восторге токи слез;
И словом: тот хотел арбуза,
А тот – соленых огурцов;
Но пусть им здесь докажет муза,
Что я не из числа льстецов;
Что сердца моего товаров
За деньги я не продаю,
И что не из чужих анбаров
Тебе наряды я крою;
Но, венценосна добродетель!
Не лесть я пел и не мечты,
А то, чему весь мир свидетель:
Твои дела суть красоты.
Я пел, пою и петь их буду,
И в шутках правду возвещу;
Татарски песни из-под спуду
Как луч потомству сообщу;
Как солнце, как луну поставлю
Твой образ будущим векам.
Превознесу тебя, прославлю;
Тобой бессмертен буду сам.
Пророческое чувство поэта не обмануло его: поэзия Державина в тех немногих чертах, которые мы представили здесь нашим читателям, есть прекрасный памятник славного царствования Екатерины II и одно из главных прав певца на поэтическое бессмертие.
Другое значение имеют теперь для нас торжественные оды Державина. В них он является более официальным, чем истинно вдохновенным поэтом. В этом отношении они резко отделяются от од, посвященных Фелице. И немудрено: последние имели корень свой в действительности, а первые были плодом похвального обычая согласовать лирный звон с громом пушек и блеском плошек и шкаликов. Притом же легче было чувствовать и понимать мудрость и благость монархини, чем провидеть значение войн и побед ее, объясняющихся причинами чисто политическими. Политические вопросы тогда только могут служить содержанием поэзии, когда они вместе и вопросы исторические и нравственные. Такова была великая война 1812 года, когда обе из тяжущихся сторон – и колоссальное могущество Наполеона и национальное существование России – сошлись решить вопрос: быть или не быть! Победы над турками, как бы ни блистательны были они, могут дать прекрасное содержание для реляций, но не для од. Сверх того, торжественные оды Державина еще и потому утратили теперь свою цену, что самые события, породившие их, нам уже не могут казаться такими, какими видели их современники. Типом всех торжественных од Державина может служить ода «На взятие Варшавы». Она так всем известна, что мы не почитаем за нужное делать из нее выписки. Ее можно разделить на три части: первая из них есть экстатическое излияние чувства удивления к Суворову и Екатерине II. Действительно, вступление оды восторженно: но этот восторг весь заключается не в мыслях, а в восклицаниях, и в нем есть что-то напряженное. Место, начинающееся стихом «Черная туча, мрачные крыла», долго считалось в наших риториках и пиитиках образцом гиперболы, как выражения высочайшего восторга – теперь эта гипербола может служить образцом натянутого восторга, стихотворного крика – не больше. Поэт чувствовал сам пустоту всех этих громких фраз и потому хотел, во второй части своей оды, занять ум читателя каким-нибудь содержанием. Что же он сделал для этого? – он показывает сонм русских царей и вождей, сидящий в «небесном вертограде, на злачных холмах, в прохладе благоуханных рощ, в прозрачных и радужных шатрах»; перед ними поет наш звучный Пиндар Ломоносов, и его хвала пронзает их грудь, как молния; в их пунцовых устах блистает злат мед, а на щеках играют зари; возлегши на мягких зыблющих(ся) перловых облаках, они внимают тихоструйный хор небесных арф и поющих дев (что, однакож, не мешает им внимать и лире нашего звучного Пиндара, Ломоносова): что это за языческая валгалла для христианских царей и вождей? Для этого подлунного мира стихи Ломоносова, конечно, имеют свое значение; но беспрестанно слушать их и на том свете – воля ваша, скучно. Далее поэт заставляет Петра Великого проговорить речь к Пожарскому и потом скрыться в «сень». Все это – голая риторика, свидетельствующая о затруднительном положении поэта, задавшего себе воспеть предмет, которого идеи он не прочувствовал в себе. Третья часть оды кончилась даже смешно плохими четверостишиями с припевом к каждому:
Славься сим, Екатерина,
О великая жена!
В первой части оды поэт называет своего героя, то есть Суворова, Александром по браням: сравнение крайне неудачное! Можно называть Наполеона Цезарем, ибо в жизни и положениях обоих этих лиц было много общего; но что же общего между действительно великим полководцем русской монархини, превосходным выполнителем ее политических предначертаний, и между монархом-завоевателем, героем древнего мира, связавшим Восток с Европою?.. Вообще, Державин не умел хвалить Суворова: он восхищается только его непобедимостию, забывая, что этим были славны и Тамерланы и Атиллы и что в Суворове было что-нибудь замечательное и кроме этого. Хваля Суворова, Державин должен был бы настроить лиру на тот чисто русский лад, которым воспевал он Фелицу; но он хотел видеть своего героя в риторической апофеозе, и потому в его одах Суворов не возбуждает к себе никакого сочувствия.[27 - Отмечая риторичность образа Суворова в одах Державина, Белинский не обратил внимания на стихотворение «Снегирь», написанное по поводу смерти Суворова. В этом стихотворении Державину удалось передать конкретные черты личности великого полководца.]
У Пушкина есть два стихотворения, порожденные почти таким же событием, как и ода Державина, о которой мы говорим. Даже по тону оба эти стихотворения Пушкина напоминают торжественную музу Державина; но какая же разница в содержании! Пушкин поднимает исторические вопросы, говоря, что это —
. . . .спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою.
Пушкин не изрекает оскорбительных приговоров падшему врагу, но благородно, как представитель великой нации, восклицает:
В бореньи падший невредим;
Врагов мы в прахе не топтали;
Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица,
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца.[28 - Первая цитата – из стихотворения «Клеветникам России», вторая – из стихотворения «Бородинская годовщина».]
Оды «На взятие Измаила» и «Переход Альпийских гор», по объему своему, – целые поэмы, герой которых – Суворов. О них можно сказать то же, что и обо всех торжественных одах Державина; они исполнены вдохновения, но риторического, и их можно сравнить с похвальными словами Ломоносова – много грома, много блеска, но мало души. И потому в чтении они утомительны и даже скучны. Что корень их был не в жизни, не в действительности, а в пиитике и риторике того времени, могут служить доказательством эти стихи из оды «На взятие Измаила»:
Злодейство что ни вымышляло,
Поверглось, россы, все на вас!
Зрю ядры, камни, вар и бревны.
Как! неужели защищать отчаянно крепость всеми в войне употребляемыми средствами от осаждающих ее врагов, отчаянно биться с ними и честно умирать за свою веру и своего государя есть злодейство?.. О нет! Державин этого не думал, но это требовалось высоким парением оды, по пиитике того времени. Впрочем, эта ода не без замечательных частностей, как, например, следующая строфа:
Чего не может род сей славный,
Любя царей своих, свершить?
Умейте лишь, главы венчанны,
Его бесценну кровь щадить;
Умейте дать ему вы льготу.
К делам великим дух, охоту,
И правотой сердца пленить.
Вы можете его рукою
Всегда, войной и не войною,
Весь мир себя заставить чтить.
Война, как северно сиянье,
Лишь удивляет чернь одну:
Как светлой радуги блистанье,
В них страсти, хоть на них венцы:
Яд лести их вредит не реже:
А где поэты не льстецы?
Ответ поэта на укоры исчезнувшего видения Фелицы дышит искренностию чувства, жаром поэзии и заключает в себе и автобиографические черты и черты того времени:
Возможно ль, кроткая царевна!
И ты к мурзе чтоб своему
Была сурова столь и гневна,
И стрелы к сердцу моему
И ты, и ты чтобы бросала,
И пламени души моей
К себе и ты не одобряла?
Довольно без тебя людей,
Довольно без тебя поэту
За кажду мысль, за каждый стих
Ответствовать лихому свету
И от сатир щититься злых!
Довольно золотых кумиров,
Без чувств мои что песни чли;
Довольно кадиев, факиров,
Которы в зависти сочли
Тебе их неприличной лестью;
Довольно нажил я врагов!
Иной отнес себе к бесчестью,
Что не дерут его усов;
Иному показалось больно,
Что он наседкой не сидит;
Иному очень своевольно
С тобой мурза твой говорит;
Иной вменял мне в преступленье,
Что я посланницей с небес
Тебя быть мыслил в восхищеньи
И лил в восторге токи слез;
И словом: тот хотел арбуза,
А тот – соленых огурцов;
Но пусть им здесь докажет муза,
Что я не из числа льстецов;
Что сердца моего товаров
За деньги я не продаю,
И что не из чужих анбаров
Тебе наряды я крою;
Но, венценосна добродетель!
Не лесть я пел и не мечты,
А то, чему весь мир свидетель:
Твои дела суть красоты.
Я пел, пою и петь их буду,
И в шутках правду возвещу;
Татарски песни из-под спуду
Как луч потомству сообщу;
Как солнце, как луну поставлю
Твой образ будущим векам.
Превознесу тебя, прославлю;
Тобой бессмертен буду сам.
Пророческое чувство поэта не обмануло его: поэзия Державина в тех немногих чертах, которые мы представили здесь нашим читателям, есть прекрасный памятник славного царствования Екатерины II и одно из главных прав певца на поэтическое бессмертие.
Другое значение имеют теперь для нас торжественные оды Державина. В них он является более официальным, чем истинно вдохновенным поэтом. В этом отношении они резко отделяются от од, посвященных Фелице. И немудрено: последние имели корень свой в действительности, а первые были плодом похвального обычая согласовать лирный звон с громом пушек и блеском плошек и шкаликов. Притом же легче было чувствовать и понимать мудрость и благость монархини, чем провидеть значение войн и побед ее, объясняющихся причинами чисто политическими. Политические вопросы тогда только могут служить содержанием поэзии, когда они вместе и вопросы исторические и нравственные. Такова была великая война 1812 года, когда обе из тяжущихся сторон – и колоссальное могущество Наполеона и национальное существование России – сошлись решить вопрос: быть или не быть! Победы над турками, как бы ни блистательны были они, могут дать прекрасное содержание для реляций, но не для од. Сверх того, торжественные оды Державина еще и потому утратили теперь свою цену, что самые события, породившие их, нам уже не могут казаться такими, какими видели их современники. Типом всех торжественных од Державина может служить ода «На взятие Варшавы». Она так всем известна, что мы не почитаем за нужное делать из нее выписки. Ее можно разделить на три части: первая из них есть экстатическое излияние чувства удивления к Суворову и Екатерине II. Действительно, вступление оды восторженно: но этот восторг весь заключается не в мыслях, а в восклицаниях, и в нем есть что-то напряженное. Место, начинающееся стихом «Черная туча, мрачные крыла», долго считалось в наших риториках и пиитиках образцом гиперболы, как выражения высочайшего восторга – теперь эта гипербола может служить образцом натянутого восторга, стихотворного крика – не больше. Поэт чувствовал сам пустоту всех этих громких фраз и потому хотел, во второй части своей оды, занять ум читателя каким-нибудь содержанием. Что же он сделал для этого? – он показывает сонм русских царей и вождей, сидящий в «небесном вертограде, на злачных холмах, в прохладе благоуханных рощ, в прозрачных и радужных шатрах»; перед ними поет наш звучный Пиндар Ломоносов, и его хвала пронзает их грудь, как молния; в их пунцовых устах блистает злат мед, а на щеках играют зари; возлегши на мягких зыблющих(ся) перловых облаках, они внимают тихоструйный хор небесных арф и поющих дев (что, однакож, не мешает им внимать и лире нашего звучного Пиндара, Ломоносова): что это за языческая валгалла для христианских царей и вождей? Для этого подлунного мира стихи Ломоносова, конечно, имеют свое значение; но беспрестанно слушать их и на том свете – воля ваша, скучно. Далее поэт заставляет Петра Великого проговорить речь к Пожарскому и потом скрыться в «сень». Все это – голая риторика, свидетельствующая о затруднительном положении поэта, задавшего себе воспеть предмет, которого идеи он не прочувствовал в себе. Третья часть оды кончилась даже смешно плохими четверостишиями с припевом к каждому:
Славься сим, Екатерина,
О великая жена!
В первой части оды поэт называет своего героя, то есть Суворова, Александром по браням: сравнение крайне неудачное! Можно называть Наполеона Цезарем, ибо в жизни и положениях обоих этих лиц было много общего; но что же общего между действительно великим полководцем русской монархини, превосходным выполнителем ее политических предначертаний, и между монархом-завоевателем, героем древнего мира, связавшим Восток с Европою?.. Вообще, Державин не умел хвалить Суворова: он восхищается только его непобедимостию, забывая, что этим были славны и Тамерланы и Атиллы и что в Суворове было что-нибудь замечательное и кроме этого. Хваля Суворова, Державин должен был бы настроить лиру на тот чисто русский лад, которым воспевал он Фелицу; но он хотел видеть своего героя в риторической апофеозе, и потому в его одах Суворов не возбуждает к себе никакого сочувствия.[27 - Отмечая риторичность образа Суворова в одах Державина, Белинский не обратил внимания на стихотворение «Снегирь», написанное по поводу смерти Суворова. В этом стихотворении Державину удалось передать конкретные черты личности великого полководца.]
У Пушкина есть два стихотворения, порожденные почти таким же событием, как и ода Державина, о которой мы говорим. Даже по тону оба эти стихотворения Пушкина напоминают торжественную музу Державина; но какая же разница в содержании! Пушкин поднимает исторические вопросы, говоря, что это —
. . . .спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою.
Пушкин не изрекает оскорбительных приговоров падшему врагу, но благородно, как представитель великой нации, восклицает:
В бореньи падший невредим;
Врагов мы в прахе не топтали;
Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица,
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца.[28 - Первая цитата – из стихотворения «Клеветникам России», вторая – из стихотворения «Бородинская годовщина».]
Оды «На взятие Измаила» и «Переход Альпийских гор», по объему своему, – целые поэмы, герой которых – Суворов. О них можно сказать то же, что и обо всех торжественных одах Державина; они исполнены вдохновения, но риторического, и их можно сравнить с похвальными словами Ломоносова – много грома, много блеска, но мало души. И потому в чтении они утомительны и даже скучны. Что корень их был не в жизни, не в действительности, а в пиитике и риторике того времени, могут служить доказательством эти стихи из оды «На взятие Измаила»:
Злодейство что ни вымышляло,
Поверглось, россы, все на вас!
Зрю ядры, камни, вар и бревны.
Как! неужели защищать отчаянно крепость всеми в войне употребляемыми средствами от осаждающих ее врагов, отчаянно биться с ними и честно умирать за свою веру и своего государя есть злодейство?.. О нет! Державин этого не думал, но это требовалось высоким парением оды, по пиитике того времени. Впрочем, эта ода не без замечательных частностей, как, например, следующая строфа:
Чего не может род сей славный,
Любя царей своих, свершить?
Умейте лишь, главы венчанны,
Его бесценну кровь щадить;
Умейте дать ему вы льготу.
К делам великим дух, охоту,
И правотой сердца пленить.
Вы можете его рукою
Всегда, войной и не войною,
Весь мир себя заставить чтить.
Война, как северно сиянье,
Лишь удивляет чернь одну:
Как светлой радуги блистанье,