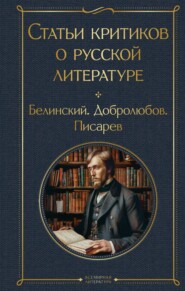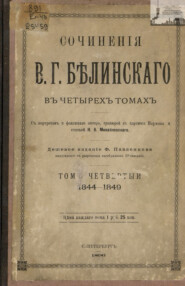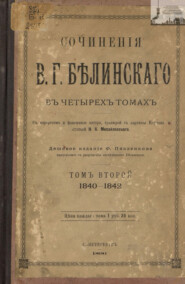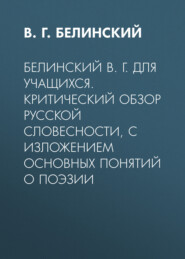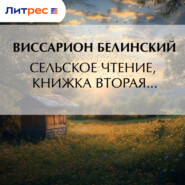По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Письма (1841–1848)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тургенев хочет перевести немцам статью Кавелина «Юридический быт России до Петра Великого».[954 - Этот замысел Тургенева не осуществился.] Скажи ему это, равно как и то, что помещением своих критических статей на книгу Погодина в «Отечественных записках» он растерзал мое сердце и усилил мои немощи.[955 - Этот замысел Тургенева не осуществился.] Кронеберг – только переводчик, а как сотрудник – хуже ничего нельзя придумать. Современное для него не существует, он весь в римских древностях да в Шекспире. При этом страшно ленив, а теперь, как нарочно, на него напала страшная апатия. Педантическая добросовестность его – хуже воровства со взломом. Например, о романе Бульвера[956 - Белинский, вероятно, имеет в виду роман Бульвера «Gaxtons», вышедший в свет в 1846 г. В русском переводе – «Какстоны». М., 1851.] было говорено во всех русских журналах и, разумеется, со слов иностранных журналов, а ему, вишь ты, надобно прочесть роман, а читать он по лености не может ничего. Когда я жил у тебя летом 43 года, сколько в это время интересных статей в «Allgemeine Zeitung»[240 - «Всеобщей газете» (нем.). – Ред.] находил ты; Кронеберг доселе не нашел ни одной, кроме статьи о центральном солнце, да и та оказалась пуфом![957 - Заметка А. И. Кронеберга «Центральное солнце» была напечатана анонимно в «Современнике» 1847, № 2 (отд. IV, стр. 117–121).]
Прочти во 2 № «Отечественных записок» повесть Даля «Игривый». Есть в ней превосходные вещи. Да если ты не читал еще, непременно прочти его же: «Колбасники» и «Бородачи», «Денщик», «Дворник». Всё это найдешь ты в его сочинениях, недавно изданных. Да прочти в прошлом году «Отечественных записок» его же: «Небывалое в былом, или Былое в небывалом»: целое – ничего, но есть дивно-прекрасные частности.[958 - Сочинения В. И. Даля – «Повести, сказки и рассказы казака Луганского. Четыре части» вышли в 1846 г. в Петербурге. В № 2 «Современника» Белинский поместил положительную рецензию на это издание, выделив особо рассказы: «Колбасники», «Бородачи», «Денщик», «Дворник» (отд. III, стр. 134–138; без подписи; ИАН, т. X, № 6). Повесть «Павел Алексеевич Игривый» была напечатана в «Отеч. записках» 1847 г: (№ 2, отд. I, стр. 307–372) за подписью В. Луганский, – «Небывшее в былом, или Былое в небывалом» («Отеч. записки» 1846, №№ 5 и 6, отд. I, стр. 1–70, 151–190, у Белинского: «Бывалое в небывалом, или Небывалое в былом») Белинский отметил во «Взгляде на русскую литературу 1846 года» (ИАН, т. X, стр. 42).] В Питере нашлись люди, которым повесть Панаева очень нравится, они не совсем довольны только концом. Повесть Кудрявцева никому не нравится. Поди ты тут!![959 - См. примеч. 11 и 19 к письму 253.]
Прочел я в «Revue des Deux Mondes»[241 - «Обозрении двух миров» (франц.). – Ред.] статью Сессе о положительной философии Конта и Литтре.[960 - См. письмо 286 и примеч. 8 к нему.] Сколько можно получить понятие о предмете из вторых рук, я понял Конта, в чем мне особенно помогли разговоры и споры с тобою, которые только теперь уяснились для меня. Конт – человек замечательный; но чтоб он был основателем новой философии – далеко кулику до Петрова дня! Для этого нужен гений, которого нет и признаков в Конте. Этот человек – замечательное явление, как реакция теологическому вмешательству в науку, и реакция энергическая, беспокойная и тревожная. Конт – человек богатый познаниями, с большим умом, но его ум сухой, в нем нет той полетистости, которая необходима всему творческому, даже математику, если ему[242 - Далее зачеркнуто: суждено] даны силы раздвинуть пределы науки. Хотя Литтре и ограничился смиренною ролью ученика Конта, но сейчас видно, что он – более богатая натура, чем Конт.
О г. Saisset'e,[243 - Сессе (франц.). – Ред.] изрекающем роковой приговор положительной философии Конта и Литтре, много говорить нечего: для него метафизика – c'est la science de Diou,[244 - божественная наука (франц.). – Ред.] a между тем он поборник опыта и враг немецкого трансцендентализма. О немецкой философии он говорит с презрением, не имея о ней ни малейшего понятия. И здесь я имел случай вновь полюбоваться нахальною недобросовестностию, свойственною французам, и вспомнил Пьера Леру,[961 - О прежнем отношении Белинского к идеям Леру см. примеч. 10 к письму 197.] который, обругав Гегеля, восхвалил Шеллинга, предполагая в последнем своего союзника и оправдываясь, когда его уличали в невежестве, тем, что он узнал всё это от достоверного человека. – Между тем, в нападках Saisset много дельного, и прежде всего смешная претензия Конта – слово идея заменить законом природы. Хорошо будет Конту, если его противники будут ратовать с остервенением за слово; но что с ним станется, если они будут так благоразумны, что согласятся с ним? Ведь дело тут не в деле (по-моему, не в идее), а в новом названии старой вещи, нисколько не изменяющем ее сущности, с тою только разницею, что старое название имеет за собою великое преимущество исторического происхождения и основанной на вековой давности привычки к нему и что от него производится слово идеал, необходимое не в одном искусстве. Абсолютная идея, абсолютный закон – это одно и то же, ибо оба выражают нечто общее, универсальное, неизменяемое, исключающее случайность. Итак, Конт пробавляется стариною, думая созидать новое. Это смешно. Конт находит природу несовершенного: в этом я вижу самое поразительное доказательство, что он не вождь, а застрельщик, не новое философское учение, а реакция, т. е. крайность, вызванная крайностию. Пиэтисты удивляются совершенству природы, для них в ней всё премудро рассчитано и размерено, они верят, что должна быть великая польза даже от гнусной и плодущей породы грызущих, т. е. крыс и мышей, потому только, что природа сдуру не скупится производить их в чудовищном количестве. И вот Конт их нелепости, по чувству противоречия и необходимости реакции, противопоставляет новую нелепость, что природа-де несовершенна и могла б быть совершеннее. Последнее – чепуха, первое справедливо, да в несовершенстве-то природы и заключается ее совершенство. Совершенство есть идея абстрактного трансцендентализма, и потому оно – подлейшая вещь в мире. Человек смертен, подвержен болезни, голоду, должен отстаивать с бою жизнь свою – это его несовершенство, но им-то и велик он, им-то и мила и дорога ему жизнь его. Застрахуй его от смерти, болезни, случая, горя – и он – турецкий паша, скучающий в ленивом блаженстве, хуже – он превратится в скота. Конт не видит исторического прогресса, живой связи, проходящей живым нервом по живому организму истории человечества. Из этого я вижу, что область истории закрыта для его ограниченности. Ломоносов был в естественных науках великим ученым своего времени, а по части истории он был равен ослу Тредьяковскому: явно, что область истории была вне его натуры. Конт уничтожает метафизику не как науку трансцендентальных нелепостей, но как науку законов ума; для него последняя наука, наука наук – физиология. Это доказывает, что область философии так же вне его натуры, как и область истории, и что исключительно доступная ему сфера знания есть математические и естественные науки. Что действия, т. е. деятельность, ума есть результат деятельности мозговых органов – в этом нет никакого сомнения; но кто же подсмотрел акт этих органов при деятельности нашего ума? Подсмотрят ли ее когда-нибудь? Конт возложил свое упование на дальнейшие успехи френологии; но эти успехи подтвердят только тождество физической природы (человека) с его духовною природою – не больше. Духовную природу человека не должно отделять от его физической природы, как что-то особенное и независимое от нее, но должно отличать от нее, как область анатомии отличают от области физиологии. Законы ума должны наблюдаться в действиях ума. Это дело логики, науки, непосредственно следующей за физиологией, как физиология следует за анатомиею. Метафизику к чорту: это слово означает сверхнатуральное, следовательно, нелепость, а логика, по самому своему этимологическому значению, значит и мысль и слово. Она должна идти своею дорогою, но только не забывать ни на минуту, что предмет ее исследований – цветок, корень которого в земле, т. е. духовное, которое есть не что иное, как деятельность физического. Освободить науку от призраков трансцендентализма и th?ologie,[245 - теологии (франц.). – Ред.] показать границы ума, в которых его деятельность плодотворна, оторвать его навсегда от всего фантастического и мистического – вот, что сделает основатель новой философии, и вот, чего не сделает Конт, но что, вместе со многими подобными ему замечательными умами, он поможет сделать призванному. Сам же он слишком узко построен для такого широкого, многообъемлющего дела. Он реактор, а не зиждитель, он зарница, предвестница бури, а не буря, он одно из тревожных явлений, предсказывающих близость умственной революции, но не революция. Гений – великое дело: он, как Петрушка Гоголя, носит с собою собственный запах;[962 - Персонаж из «Мертвых душ» Гоголя, лакей Чичикова.] от Конта не пахнет гениальностию. Может быть, я ошибаюсь, но таково мое мнение.
В том же № «Revue des Deux Mondes»[246 - «Обозрение двух миров» (франц.). – Ред.] меня очень заинтересовала небольшая статья какого-то Тома: «Un nouvel ?crit de M. de Shelling»[247 - «Новое о Шеллинге» (франц.). – Ред.].[963 - Статья Александра Жерара Тома (1818–1857) о Шеллинге была напечатана в «Revue des Deux Mondes» 1846, т. XV, № 5, стр. 351–416.] У меня было какое-то смутное понятие о новом мистическом учении Шеллинга. Тома говорит, что Ш<еллинг> деизм называет imb?cile[248 - слабоумием (франц.). – Ред.] (с чем и поздравляю Пьера Леру) и презирает его больше атеизма, который он несказанно презирает. Кто же он? – он пантеист-христианин и создал для избранных натур (аристократии человечества) удивительно изящную церковь, в которой обителей много. Бедное человечество! Добрый Одоевский раз не шутя уверял меня, что нет черты, отделяющей сумасшествие от нормального состояния ума, и что ни в одном человеке нельзя быть уверенным, что он не сумасшедший. В приложении не к одному Шеллингу как это справедливо! У кого есть система, убеждение, тот должен трепетать за нормальное состояние своего рассудка. Ведь почти все сумасшедшие удивляют в разговоре ясностию своего рассудка, пока не нападут на свою id?e fixe.[249 - навязчивую идею (франц.). – Ред.]
Я позволил себе сделать некую мерзость с письмом Анненкова, т. е. вычеркнуть его суждение о Лукр<еции> Флориани; мне была невыносима мысль, что в «Современнике» явится такого рода суждение. Как ты думаешь, не осердится он за мою неделикатность?[964 - Во «Втором письме из Парижа» Анненкова от 4/I 1847 г. («Современник» 1847, № 2, отд. IV, стр. 149) Белинский изъял следующие строки о романе Санд «Лукреция Флориани» (выделены курсивом): «…этот перл романов Ж. Санда, в котором не знаешь, чему более удивляться, широте ли кисти, глубине ли характеров, мастерству ли рассказа, и который многие приняли за снятие всякого запрещения, между тем как он есть напротив самое строгое наложение правил на праздношатание страстей, по моему мнению, разумеется, и моральный вопрос разрешается превосходно…». Роман этот в переводе А. И. Кронеберга был дан в особом приложении к I тому «Современника» 1847 г.]
Прочти в 35 № (15 февраля) «Санкт-Петербургских ведомостей» статью Губера о книге Гоголя: это замечательное и отрадное явление.[965 - О статье Э. И. Губера «Выбранные места из переписки с друзьями Н. Гоголя». СПб., 1846, напечатанной в «С.-Петербургских ведомостях» 1847, № 35 от 15/II, см. также письмо 292.] Прочел ли ты книгу Макса Штирнера?[966 - «Der Einzige und Sein Eigentum» («Единственный и его достояние»). Leipzig, 1845. Эта книга – апология индивидуализма и анархии; см. о ней: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. IV, «Немецкая идеология», гл. III («Святой Макс»). В январе 1846 г. она была запрещена в России Цензурным комитетом (см. «Каторга и ссылка» 1929, № 6, стр. 195). Об интересе Белинского к книге Штирнера см. в «Литературных воспоминаниях» П. В. Анненкова (М. – Л., 1928, стр. 558–563).] Кстати, чуть было не забыл – презабавный анекдот о Достоевском. Воспользовавшись крайнею нуждою Кр<аевско>го в повестях, он превосходно надул этого умного, практического человека. Он забрал у него более 4 тысяч асс. и заключил с ним контракт, по которому обязался 5 декабря доставить ему 1-ю часть нового своего большого романа, 5 января – 2-ю, 5 февраля – 3-ю, 5 марта – 4-ю часть.[967 - Речь идет, очевидно, о повести «Неточка Незванова», написанной несколько позднее (см. Ф. М. Достоевский. Письма, т. I. М. – Л., 1928, стр. 97 и 493). О ней Краевский сообщал в объявлении «Об издании «Отечественных записок» в 1848 году» (стр. 7).] Проходит декабрь – Дост<оевский> не является к Кр<аевскому>, проходит январь – тоже (а где найти его, Кр<аевский> не знает); наконец в нынешнем месяце, в одно прекрасное утро, раздается в прихожей Кр<аевского> звонок, человек отворяет дверь и видит Дост<оевского>, снимает с него шинель и бежит доложить. Кр<аевский>, разумеется, обрадовался, говорит – проси, человек идет в переднюю и – не видит ни калош, ни шинели, ни самого Достоевского…
Что это делается с твоею головою? Уж не поветрие ли теперь на эту болезнь? У меня до сих пор остались еще корни этой болезни, и при кашле иногда голова сильно трещит, хоть и легче, чем прежде. Да что ты ни слова не скажешь мне: обжился ли ты в Москве до того, чтобы известные отношения тебя уже больше не смущали и не беспокоили?[968 - Белинский намекает на развод Боткина с Арманс. См. письмо 213 и примеч. 6 к нему.] Хочу знать это не из бабьего любопытства, а по участию к тебе. Если всё это хорошо уладилось, то, разумеется, без особенно важных причин было бы нелепо переезжать тебе в Питер.
Что за чудак Мельгунов! Пишет он к Панаеву, чтобы делать нам авансы Павлову для получения от него в «Современник» писем к Гоголю.[969 - См. письмо 287 и примеч. 6 к нему, а также письмо 298.] Для этого нам должно перевести из каких-то немецких журналов отзывы о Павлове, вероятно, преувеличенные. К чему это? «Теперь (говорит М<ельгунов>), когда звезда Гоголя закатилась, звезда Павлова опять засияет». Что за ерунда! <…> имеет больше отношения к звезде Гоголя, нежели звезда Павлова: по крайней мере, рифма, да еще богатая, а притом и Гоголь сделался теперь <…>. Я не отрицаю в Павлове блестящего беллетристического дарования, но не вижу ничего общего между ним и Гоголем. Говорят, покойный Давыдов был доблестный партизан и не плохой генерал, но не смешно ли было бы, если б кто из его друзей сказал ему: «Звезда Наполеона закатилась, твоя засияет теперь». Прощай. Твой
В. Б.
Это письмо было написано вчера поутру; а вчера вечером Тютчев принес мне твое письмо и дикое письмо Кавелина; ответы на оба пойдут завтра.[970 - Ни упомянутые письма Боткина и Кавелина, ни ответы на них Белинского не сохранились. О содержании письма Кавелина и ответа Белинского см. письмо 290, стр. 334.]
290. И. С. Тургеневу
СПб. 19 февраля (3 марта) 1847
Любезнейший, дражайший и милейший мой Иван Сергеевич, наконец-то я собрался писать к Вам.[971 - Тургенев уехал в Берлин около 15 января 1847 г.] Не поверите, сколько писем написал я в последнее время – даже рука одеревенела от них. Вы скажете, что Вам от этого не веселее, но всё нужные, иначе я не стал бы мучить себя ими. Вот теперь, решившись засесть на беседу с Вами, увидел, что нет почтовой бумаги, и пишу Вам на лоскутках.
Когда Вы сбирались в путь, я знал вперед, чего лишаюсь а Вас, но когда Вы уехали, я увидел, что потерял в Вас больше, нежели сколько думал, и что Ваши набеги на мою квартиру за час перед обедом или часа на два после обеда, в ожидании начала театра, были одно, что давало мне жизнь. После Вас я отдался скуке с каким-то апатическим самоотвержением и скучаю, как никогда в жизнь мою не скучал. Ложусь в 11, иногда даже в 10 часов, засыпаю до 12, встаю в 7, 8 и около 9 и целый день, особенно целый вечер (с после обеда), дремлю – вот жизнь моя!
Что сказать Вам нового? С Некрасовым у меня всё порешено: я получаю на тот год 12 тысяч асс. и остаюсь сотрудником. Мне предлагали контракт: 8 тысяч платы, да после двух, тысяч подписчиков по 5 к. с рубля и, в случае болезни или смерти, получение процентов до истечения десятилетия журнала. Я отказался и предпочел сохранить мою свободу и брать плату, как обыкновенный сотрудник и работник. Что, юный друг мой, кто из нас ребенок – Вы или я?.. Признаться, я и не хотел было распространяться с Вами об этой материи, но полученное мною от Кавелина письмо решило меня познакомить Вас с положением дел. Кавелин пишет, что Боткин им всё рассказал, что Н<екрасов> в их глазах тот же Кр<аевский>, а «Современник» то же, что «Отечественные записки», и потому он, К<авелин>, будет писать (для денег) и в том и другом журнале. Мало этого: выдумал он, что по 2 № «Современника» видно, что это журнал положительно подлый, и указал на две мои статьи, которые он считает принадлежащими Н<екрасо>ву. Объявление о 2 изданиях «Современника» поставлено им в страшно подлую проделку. Всё это глупо, и я отделал его, как следует, в письме на 4? больших почтовых листах. Но касательно главного пункта я мог только просить его, что, так как это дело ко мне ближе, чем к кому-нибудь, и я, так сказать, его хозяин, – чтобы он лучше захотел видеть меня простым сотрудником и работником «Современника», нежели без куска хлеба, и потому, не обращая внимания на П<анаева> и Н<екрасова>, думая о них, как угодно, попрежнему усердствовал бы к журналу, не подрывал бы его успеха и <не> ссорил бы меня с его хозяевами. Видите ли: я писал, значит, с тем, чтобы спасти журнал. Глупые обвинения мне легко отстранить, но я хорошо знаю наших москвичей – честь Н<екрасо>ва в их глазах погибла без возврата, без восстания, и теперь, кто ни сплети им про него нелепицу, что он, например, что-нибудь украл или сделал другую гадость – они всему поверят. Еще прежде П<анаев> получил от Кетчера ругательное письмо, которого не показал Н<екрасо>ву. Последний ничего не знает, но догадывается, а делает всё-таки свое. При объяснении со мною он был не хорош: кашлял, заикался, говорил, что на то, чего я желаю, он, кажется, для моей же пользы согласиться никак не может по причинам, которые сейчас же объяснит, и по причинам, которых не может мне сказать. Я отвечал, что не хочу знать никаких причин, и сказал мои условия. Он повеселел и теперь при свидании протягивает мне обе руки – видно, что доволен мною вполне, бедняк! По тону моего письма Вы можете видеть ясно, что я не в бешенстве и не в преувеличении. Я любил его, так любил, что мне и теперь иногда то жалко его, то досадно на него за него, а не за себя. Но мне трудно переболеть внутренним разрывом с человеком, а потом ничего. Природа мало дала мне способности ненавидеть за лично нанесенные мне несправедливости; я скорее способен возненавидеть человека за разность убеждений или за недостатки и пороки, вовсе для меня лично безвредные. Я и теперь высоко ценю Н<екрасо>ва за его богатую натуру и даровитость; но тем не менее он в моих глазах – человек, у которого будет капитал, который будет богат, а я знаю, как это делается.[972 - Либеральное крыло московских друзей Белинского считало более правильным сохранение двух органов оппозиционной печати и несколько опасалось связывать свою судьбу с «Современником». Кроме того, московские друзья Белинского были возмущены тем обстоятельством, что Некрасов и Панаев не пригласили его в соредакторы «Современника» и считали, что он поставлен в положение «наемного работника». Это ложное представление о роли Белинского в новом журнале вызвало у Боткина, Кавелина, Герцена, Грановского и Кетчера несколько враждебное отношение к «Современнику». Результатом недоверия к Некрасову и Панаеву явилось одновременное сотрудничество московских литераторов в «Отеч. записках» и в «Современнике», сильно подрывавшее авторитет последнего. Огорчение и недоумение по поводу поведения «москвичей» отразилось в письмах Белинского (294, 317, 319, 32), 322), Панаева к Кетчеру от 1/Х 1846 г. (Письма, т. III, стр. 362–364) и Некрасова к нему же от 4/XI 1847 г. и к Боткину от 11/IV 1847 г. (Полн. собр. соч. Некрасова. М., 1952, т. X, стр. 66–68, 85–87).Впоследствии, в 1869 г., Некрасов в письме к M. E. Салтыкову-Щедрину объяснял отношение к Белинскому опасениями, что в случае смерти последнего ему и Панаеву пришлось бы иметь дело с вдовой критика (там же. М., 1952, т. XI, стр. 130–137). См. также н. т., письмо 285.О письме Кавелина см. письмо 289, примеч. 25 к ному.] Вот уж начал с меня. Но довольно об этом. Да, чуть было не забыл: так как Толстой, вместо денег, прислал им только вексель, и то на половинную сумму, и когда уже и в деньгах-то журнал почти не нуждался, – то они отстранен от всякого участия в «Современнике», а вексель ему возвращен.[973 - Толстой Григорий Михайлович (1808–1871), богатый казанский помещик, приятель Панаева; в 1844–1847 гг., находясь за границей, познакомился с Марксом и Энгельсом. Некрасов вместе с Панаевым были летом 1846 г. в имении Толстого Казанской губ. Ново-Спасском, где они и договорились об издании «Современника». – О Толстом см. статью К. И. Чуковского «Григорий Толстой и Некрасов. К истории журнала «Современник»«– ЛН, т. 49–50, 1949, стр. 365–396.] Стало быть, Н<екрасов> отстранил меня от равного с ним значения в отношении к «Современнику» даже не потому, что 1/4 меньше 1/3, а потому, что 1/3 меньше 1/2-ой… Расчет простой и верный.
Еще слово: если Вы не хотите поступить со мною, как враг, ни слова об этом никому, Н<екрасо>ву всего менее. Подобное дело и лично распутать нельзя! (это Вы уже и испытали на себе), а переписка только еще больше запутает его, и всех больше потерплю тут я, разумеется.
Скажу Вам новость: я, может быть, буду в Силезии. Боткин достает мне 2500 р. асс.[974 - См. об этом письмо 285 и примеч. 8 к нему.] Я было начисто отказался, ибо с чем же бы я оставил семейство, а просить, чтобы мне выдавали жалованье за время отсутствия, мне не хотелось. Но после объяснения с Н<екрасовым> я подумал, что церемониться глупо, а надо брать всё, что можно взять. Он был даже рад, он готов сделать всё, только бы я… Я написал к Б<отки>ну, и теперь ответ его решит дело.
Достоевского переписка шулеров, к удивлению моему, мне просто не понравилась – насилу дочел.[975 - «Роман в девяти письмах» Достоевского, напечатанный в «Современнике» 1847, № 1 (отд. IV, стр. 45–54).] Это общее впечатление. Кстати: вот Вам анекдот об этом молодце. Он забрал у Кр<аевско>го более 4 тысяч асс. и обязался контрактом 5 декабря доставить ему 1-ую часть своего большого романа, 5 января – 2-ю, 5 февраля – 3-ю, 5 марта – 4-ю.[976 - См. письмо 289 и примеч. 22 к нему.] Проходит декабрь и январь – Дост<оевский> не является, а где его найти, Кр<аевский> не знает. Наконец в феврале в одно прекрасное утро в прихожей Кр<аевского> раздается звонок. Человек отворяет – и видит Дост<оевского>. Наскоро схвативши с него шинель, бежит доложить – Кр<аевский>, разумеется, обрадовался, человек выходит сказать – дескать, пожалуйте, но не видит ни калош, ни шинели Дост<оевско>го, ни самого его – и след простыл… Не правда ли, что это точь-в-точь сцена из «Двойника»?
Ваш «Русак» – чудо как хорош, удивителен, хотя и далеко ниже «Хоря и Калиныча». Вы и сами не знаете, что такое «Хорь и Калиныч». Это общий голос «Русак» тоже всем нравится очень. Мне кажется, у Вас чисто творческого таланта или нет, или очень мало, и Ваш талант однороден с Далем. Судя по «Хорю», Вы далеко пойдете. Это Ваш настоящий род. Вот хоть бы «Ермолай и мельничиха» – не бог знает что, безделка, а хорошо, потому что умно и дельно, с мыслию. А в «Бретере», я уверен, Вы творили. Найти свою дорогу, узнать свое место – в этом всё для человека, это для него значит сделаться самим собою. Если не ошибаюсь, Ваше призвание – наблюдать действительные явления и передавать их, пропуская через фантазию; но не опираться только на фантазию. Еще раз: не только «Хорь», но и «Русак», обещает в Вас замечательного писателя в будущем. Только, ради аллаха, не печатайте ничего такого, что ни то ни се, не то, чтобы не хорошо, да и не то, чтоб очень хорошо. Это страшно вредит тоталитету известности (извините за кудрявое выражение – лучшего не придумалось). А «Хорь» Вас высоко поднял – говорю это не как мое мнение, а как общий приговор.[977 - «Русак» – первоначальное заглавие рассказа Тургенева «Петр Петрович Каратаев» (см. о нем письмо 253, примеч. 11). – «Хорь и Калиныч» (с подзаголовком «Из записок охотника») был напечатан в «Современнике» 1847 г. (№ 1, отд. IV, стр. 55–64). – «Ермолай и мельничиха» – там же (№ 5, отд. I, стр. 130–141). – Рассказ «Бретер» появился в «Отеч. записках» 1847 г. (№ 1, отд. I, стр. 1–6).В обзоре «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский подробно остановился на «Записках охотника», особенно высоко оценив «Хоря и Калиныча» (см. ИАН, т. X, стр. 344–347).]
Некр<асов> написал недавно страшно хорошее стихотворение. Если не попадет в печать (а оно назначается в 3 №), то пришлю к Вам в рукописи. Что за талант у этого человека! И что за топор его талант![978 - Очевидно, речь идет о стихотворении Некрасова «Нравственный человек», напечатанном в мартовском номере «Современника» 1847 г. (отд. I, стр. 239–240).Слово «топор», по определению К. И. Чуковского, – «грозное боевое оружие, наносящее смертельные раны врагу» (К. И. Чуковский. Мастерство Некрасова. М., 1952, стр. 164–165).]
Повесть Кудрявцева не имела никакого успеха, откуда ни послышишь – не то что бранят, а холодно отзываются.[979 - См. письмо 253 и примеч. 19 к нему.]
Здоровье мое уже около месяца, как будто, всё лучше.
Все наши об Вас вспоминают, все любят Вас, я больше всех. Не знаю, почему, но когда думаю о Вас, юный друг мой, мне всё лезут в голову эти стихи:
Страстей неопытная сила
Кипела в сердце молодом…[980 - Цитата из стихотворения Пушкина «Чертог сиял. Гремели хором…», вошедшего в повесть «Египетские ночи». Здесь Белинский, вероятно, намекает на отношение Тургенева к Полине Виардо (см. о ней письмо 304 и примеч. 1 к нему).] и пр.
Вот Вам и загвоздка; нельзя же без того: на то и дружба…
Что бы еще Вам сказать, право, не знаю, а потому крепко жму Вам руку и обнимаю Вас заочно, от всей души желая всего хорошего и приятного. Жена моя и все мои домашние, не исключая Вашего крестника,[981 - Сын Белинского, Владимир, которого крестил Тургенев. См. о нем письмо 288 и примеч. 8 к нему.] кланяются Вам; все они Вас любят и часто о Вас вспоминают. Итак, прощайте. Ваш
В. Белинский.
Гоголь покаран сильно общественным мнением и разруган во всех почти журналах, даже друзья его, московские славеноперды, и те отступились если не от него, то от гнусной его книги[982 - Книга Гоголя – «Выбранные места из переписки с друзьями». См. письма 285–287, 292, 298.].
291. В. П. Боткину
СПб. 26 февраля 1847
Спасибо тебе за доброе письмо твое, Боткин.[983 - Это письмо не сохранилось.] Право, я отроду не хлопотал так о самом себе, как ты обо мне. Меня не одно то трогает, что ты всюду собираешь для меня деньги и жертвуешь своими, но еще больше то, что ты занят моею поездкою, как своим собственным сердечным интересом. А я всё браню тебя, да пишу тебе грубости. Недавно истощил я весь площадной словарь ругательств, браня и тебя и себя. Сколько раз говорил я с тобою о твоих письмах из Испании, – и не могу понять, как мог я забыть сказать тебе то, о чем так долго собирался говорить с тобою! Это о неуместности фраз на испанском языке – что отзывается претензиею. Мне кажется, что в следующих статьях ты бы хорошо сделал, выкинув эти фразы. Но еще за это тебя бранить не за что, а вот за что я проклинал тебя: эти фразы, равно как и все испанские слова, ты должен был не написать, а нарисовать, так чтобы не было ни малейшей возможности опечатки, а ты их нацарапал, и если увидишь, что от них равно откажутся и в Мадриде и в Марокко или равно признают их своими и там и сям, то пеняй на себя. А я помучился за корректурою твоей статьи довольно, чтобы проклясть и тебя и испанский язык, глаза даже ломом ломили. Вот и Кавелин: пишет Шеволье, а ну как это не Шеволье, а Шевалье?[984 - Белинский по ошибке назвал Кавелиным П. В. Анненкова. В письме из Парижа Анненкова от 4/I 1847 г. неоднократно упоминается французский буржуазный экономист Шевалье («Современник» 1847, № 2, отд. IV, стр. 143–144).] Так нет – везде о, кроме двух раз, вот тут и держи корректуру. Скажу тебе пренеприятную вещь: статью твою Куторга порядочно поцарапал – говорит: политика.[985 - Куторга Степан Семенович (1805–1861), профессор Петербургского университета по кафедре зоологии; с 1835 по 1848 г. – член Петербургского цензурного комитета, цензуровавший «Современник». – «Поцарапанная» Куторгой статья Боткина – первое письмо из Испании, напечатанное в мартовском номере «Современника» (см. письмо 285 и примеч. 3 к нему).] Действительно, у тебя много вышло резко, особенно эпитеты, прилагаемые тобою к испанскому правительству, – терпимость на этот раз изменила тебе. Вот тут и пиши! Впрочем, Некр<асов> говорит, что выкинуто строк 30, но ты понимаешь каких. Не знаю, как это известие подействует на тебя, но знаю, что если ты и огорчишься, то не больше меня: я до сих пор не могу привыкнуть к этой отеческой расправе, которую испытываю чуть не ежедневно.
Я понимаю, какое содержание письма Анненкова.[986 - О письме П. В. Анненкова к Боткину см. письма 292, примеч. 2, и 293, примеч. 1.] Это меня нисколько не удивило. Я давно знаю, что за человек Анненков, и знаю, что он любит меня. Тем не менее, с нетерпением жду этого письма. А что касается до 300 р. серебром Н<екрасо>ва, то это дело плохо, и на него нельзя рассчитывать. Н<екрасов> сказал мне, что у него денег ни копейки, но что он может отдать мне эти 300 р. с., взявши их из кассы «Современника». Теперь рассуди сам: за 47 год я должен получить с них 2000 р. с., а я уже забрал 1400 р. – стало быть, остается 600. Я должен забирать, без меня жена будет забирать, я приеду – опять начну забирать – за будущий год. Положим, Некр<асов> отдаст тебе 300 р. с.; тогда мне меньше можно будет забирать, а без забору мне хоть умирать. Итак, если[250 - Далее зачеркнуто: без этого] нельзя обойтись, не рассчитывая на эти 300 р., то хоть брось всё дело. Отвечай мне на это скорее: только в случае ответа, что-де можно и не рассчитывать на эти 300 р., я буду уверен окончательно, что еду за границу, и примусь готовиться серьёзно. Пока прощай.
Твой В. Белинский.
292. В. П. Боткину
СПб. 28 февраля 1847
Нечего говорить тебе, как удивило и огорчило меня письмо твое. Вижу, что оно от тебя, хотя рука и незнакомая, а всё не могу увериться, что это точно от тебя.[987 - Это письмо не сохранилось. – Боткин диктовал его, так как некоторое время не владел рукой, поврежденной наехавшими на него санями (см. «П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, стр. 528–529).] Вот уже с другим из близких мне людей в Москве случилось нынешнею зимою это несчастие. У нас в Питере случаются подобные несчастия, но редко, и то не с пешеходами, а с теми, кто едет в санях, да сзади наедет экипаж с дышлом. Это случается очень редко, и то при разъезде из театров, в страшной тесноте. У нас на это славный порядок: если экипаж на кого наехал, кучер в солдаты, а лошади в пожарное депо, чьи бы они ни были. Оттого и редки эти случаи. Я нахожу эту меру мудрою и в высшей степени справедливою – с русским человеком иначе не справиться – иной нарочно наедет для потехи.
Спасибо тебе за пересылку письма Анненкова. Я знаю, что при его средствах (ведь он не богач же какой) и, живя за границею, 400 франков – деньги; но этого я всегда ожидал от него, и это меня нисколько не удивило. Но его выражение, что мое положение отравляет все его похождения там <поразило меня>. Разумеется, я не принял этих слов в буквальном их значении, но понял, что в них истинного – и это тронуло меня до слез. А его решимость переменить свои планы путешествия для меня?[988 - Боткин писал Анненкову 28/II 1847 г.: «Зная, какую радость письмо Ваше принесет Белинскому, я послал его к нему» («П. В. Анненков и его друзья», стр. 529). См. письмо 293.] Нет, если б он дал мне две тысячи франков, – это бы далеко так не тронуло меня. Говорю тебе без фраз и без лицемерства, что любовь ко мне друзей моих часто меня конфузит и грустно на меня действует, ибо, по совести, не чувствую, не сознаю себя стоящим ее.
Ехать я должен на первом пароходе, а когда он пойдет, – этого теперь знать нельзя, ибо это зависит от раннего или позднего очищения моря от льду. Могу сказать только, что не раньше 3-го и не позже 17-го мая (3, 10 и 17-е приходятся в субботы – день, в который отходят пароходы из Питера в Кронштадт с пассажирами).[989 - Белинский выехал за границу 5 мая 1847 г. (см. письма 301 и 302).]
Бедный Кронеберг, действительно, болен серьёзно. Тяжело думать о нем!
К Анненкову пишу завтра же; к Тургеневу тож.[990 - Письма 293, 294.] О статье моей о Гоголе[991 - См. письмо 286 и примеч. 4 к нему.] мне не хотелось бы писать к тебе, ибо я положил себе за правило – никогда и ни с кем не спорить о моих статьях, защищая их. Но на этот раз нарушаю мое правило потому, что ты болен и что в твоем положении письмо приятеля тем приятнее, чем больше в нем разных вздоров (для этого я считаю за обязанность писать теперь к тебе чаще, не ожидая от тебя ответов). Видишь ли, в чем дело: ты решительно не понимаешь меня, хотя и знаешь меня довольно. Я не юморист, не остряк; ирония и юмор – не мои оружия. Если мне удалось в жизнь мою написать статей пяток, в которых ирония играет видную роль и с большим или меньшим уменьем выдержана, – это произошло совсем не от спокойствия, а от крайней степени бешенства, породившего своею сосредоточенностью другую крайность – спокойствие. Когда я писал тип на Шевырку и статью о «Тарантасе»,[992 - Речь идет о «Педанте» (см. письмо 189 и примеч. 5 к нему) и статье о. «Тарантасе» В. А. Соллогуба, в которой дана памфлетная характеристика И. В. Киреевского («Отеч. записки» 1845, № 6; ИАН, т. IX, стр. 81–117).] я был не красен, а бледен, и у меня сохло во рту, отчего на губах и не было пены. Я могу писать порядочно только на основании моей натуры, моих естественных средств. Выходя из них по расчету или по необходимости, – я делаюсь ни то ни се, ни рак ни рыба. Теперь слушай: кроме того, что я болен и что мне опротивела и литература и критика так, что не только писать, читать ничего не хотелось бы, – я еще принужден действовать вне моей натуры, моего характера. Природа осудила меня лаять собакою и выть шакалом, а обстоятельства велят мне мурлыкать кошкою, вертеть хвостом по-лисьи. Ты говоришь, что статья «написана без довольной обдуманности и несколько сплеча, тогда <как> за дело надо было взяться с тонкостью». Друг ты мой, потому-то, напротив, моя статья и не могла никак своею замечательностию соответствовать важности (хотя и отрицательной) книги, на которую писана, что я ее обдумал. Как ты мало меня знаешь! Все лучшие мои статьи нисколько не обдуманы, это импровизации, садясь за них, я не знал, что я буду писать. Если первая строка хватит издалека – статья болтлива, о деле мало сказано; если первая строка ближе к делу – статья хороша. И чем больше я ее запущу, чем меньше мне времени писать ее, тем она энергичнее и горячее. Вот как я пишу! Если б мне надо было обдумывать, я не мог бы кормиться литературою и каждый месяц, кроме мелких статей, поставлять по критике. Статья о гнусной книге Гоголя могла бы выйти замечательно хорошею, если бы я в ней мог, зажмурив глаза, отдаться моему негодованию и бешенству. Мне очень нравится статья Губера[993 - См. письмо 289 и примеч. 20 к нему.] (читал ли ты ее?) именно потому, что она писана прямо, без лисьих верчений хвостом. Мне кажется, что она – моя, украдена у меня и только немножко ослаблена. Но мою статью я обдумал, и потому вперед знал, что отличною она не будет, и бился из того только, чтоб она была дельна и показала гнусность подлеца. И она такою и вышла у меня, а не такою, какою ты прочел ее. Вы живете в деревне и ничего не знаете. Эффект этой книги был таков, что Никит<енко>, <ее> пропустивший, вычеркнул у меня часть выписок из книги, да еще дрожал и за то, что оставил в моей статье. Моего он и цензора вычеркнули целую треть, а в статье обдуманной помарка слова – важное дело. Ты упрекаешь меня, что я рассердился и не совладел с моим гневом? Да этого и не хотел. Терпимость к заблуждению я еще понимаю и ценю, по крайней мере в других, если не в себе, но терпимости к подлости я не терплю. Ты решительно не понял этой книги, если видишь в ней только заблуждение, а вместе с ним не видишь артистически рассчитанной подлости. Гоголь – совсем не, К. С. Аксаков. Это – Талейран, кардинал Феш, который всю жизнь обманывал бога, а при смерти надул сатану.[994 - Талейран Шарль Морис (1754–1838), французский дипломат, известный своей политической беспринципностью.Феш Жозеф (1763–1839), французский дипломат (дядя Наполеона). Вовремя революции, отказавшись от духовного сана, служил в Военном министерстве; в 1799 г., обвиненный в хищениях и удаленный из интендантства, снова принял духовное звание; с 1803 г. – кардинал; с 1804 г. – французский посол при папском дворе.] Вообще, ты с твоею терпимостию доходишь до нетерпимости именно тем, что исключаешь нетерпимость из числа великих и благородных источников силы и достоинства человеческого. Берегись впасть в односторонность и ограниченность. Вспомни, что говорит Анненков по поводу новой пьесы Понсара о том, что и здравый смысл может порождать нелепости, да еще скучные.[995 - Белинский имеет в виду рассказ Анненкова о провале драмы Понсара «Agn?s de Meranie» («Агнесса де Мерани») в третьем письме из Парижа от февраля 1847 г., который заканчивался словами: «…последствия доказали, что здравый смысл может производить точно такие же нелепости, как и всякий другой смысл, и даже хуже – производить скучные нелепости» («Современник» 1847, № 3. отд. IV, стр. 42).] И отзыв Анненкова о книге Гоголя тоже не отзывается терпимостию. Повторяю тебе: умею вчуже понимать и ценить терпимость, но останусь гордо и убежденно нетерпимым. И если сделаюсь терпимым – знай, что с той минуты я – кастрат и что во мне умерло то прекрасное человеческое, за которое столько хороших людей (а в числе их и ты) любили меня больше, нежели сколько я стоил того.
Что Михаил Семенович?[996 - М. С. Щепкин.] Здоров ли он? До меня доходят на его счет не совсем радостные слухи. Попроси кого-нибудь уведомить меня о нем. Если его положение не так дурно, как мне кажется, нельзя ли напомнить ему о его мне обещании. Крайне нужно для статьи о театре, которая для него будет интересна.[997 - Этот замысел Белинского не осуществился (см. о нем письмо 273).]
293. П. В. Анненкову
СПб. 1/13 марта 1847
Дражайший мой Павел Васильевич, Боткин переслал мне Ваше письмо к нему, в котором так много касающегося до меня. Не могу выразить Вам, какое впечатление произвело оно на меня, мой добрый и милый Анненков! Я знаю, что Вы человек обеспеченный, и порядочно обеспеченный, но отнюдь не богач, и я знаю, что и не с Вашими средствами за границею 400 фр. никогда не могут быть лишними. Но всё-таки не в этом дело: это я всегда ожидал <от> Вас и это меня нисколько не удивило, не взволновало. Но Ваши строки: «Грустную новость сообщили Вы мне о Бел<инском>, новость, которая, сказать признательно, отравляет все мои похождения здесь» – тронули меня до слез. Я не был так самолюбив и прост, чтобы вообразить, что Вы близки к отчаянию и, пожалуй, наложите на себя руки, не принял их даже в буквальном значении; но понял всё истинное, действительно в них заключающееся, понял, что мысль о моем положении иногда делает неполными Ваши удовольствия. Но это не всё: для меня вы изменяете план своих путешествий и, вместо Греции и Константинополя, располагаетесь ехать ко мне в Силезию, около Швейдница и Фрейбурга, недалеко от Бреславля! Вот что скажу я Вам на последнее в особенности: если бы не чувствовал, как много и сильно люблю я Вас, – Ваше письмо, вместо того, чтобы преисполнить меня радостью, которую я теперь чувствую, возбудило бы во мне неудовольствие и досаду.[998 - Об этом письме Анненкова к Боткину см. письмо 292. – Анненков ответил Белинскому из Парижа 25 марта н. с. (Письма, т. III, стр. 368). В тот же день Анненков писал братьям в Петербург о перемене своего маршрута (ЛН, т. 56, стр. 190).] Но довольно об этом. Думаю я отправиться на первом пароходе, а когда именно пойдет он, теперь знать нельзя – зависеть это будет от очистки льду на Балтике. Пароход с пассажирами отходит из Питера в Кронштадт по субботам; последняя суббота в апреле приходится 26 апреля (по вашему 8 мая), первая суббота в мае – 3/15, вторая – 10/22, третия – 17/29. Итак, всего вероятнее: не раньше 3/15 и не позже 17/29 мая. Как только сам узнаю наверное, сейчас же извещу Вас и Тургенева.
Да, я было струхнул порядком за свое положение, но теперь поправляюсь. Тильман ручается за выздоровление весною даже и в Питере, но всегда прибавляет: «а лучше бы ехать, если можно». Когда я сказал ему, что нельзя, он видимо насупился, а когда потом сказал, что еду – он просиял. Из этого я заключаю, что в Питере можно меня починить до осени, а за границею можно закрепить готовый развязаться и расползтись узел жизни. Вот уже с месяц чувствую я себя лучше, но упадок сил у меня – страшный: устаю от всякого движения, иногда задыхаюсь оттого, что переворочусь на кушетке с одного бока на другой.
Письма Ваши – наша отрада. В 2-м письме я был совсем готов принять Вашу сторону против добродетельных врагов введения науки земледелия и ремесл, но когда увидел, что это введение направлено против древних языков – я на попятный двор. У меня на этот счет есть убеждение, немножко даже фанатическое, и если я за что уважаю Гизо, так это за то, что в 1835, кажется, году он отстоял преподавание во Франции древних языков. Но об этом поговорим при свидании. Выходка «добродетельной» партии против эфира привела меня на минуту в то состояние, в которое приводит эфир. Этот факт окончательно объяснил мне, что такое эти новые музульмане, у которых Руссо – алла, а Р<обеспье>р пророк его, и почему эта партия только шумлива, а в сущности бессильна и ничтожна.[999 - Речь идет о втором «Письме из Парижа» Анненкова (от 4/I 1847 г.), напечатанном в февральском номере «Современника» 1847 г. (отд. IV, стр. 142–153). В нем Анненков рассказывает о полемике по поводу образования нового факультета Сорбонны – механических искусств, ремесел и земледелия, а также о борьбе партий в Палате депутатов.]
Все наши живут, как жили; только бедный Кронеберг болен и, кажется, серьезно. Богатый Краевский тоже болен и, говорят, тоже серьезно, но о нем я не жалею, хотя и не желаю ему зла.
Приеду к Вам с запасом новостей, а для письма как-то и не помнится ничего. Привезу Вам «Современника». Перед отъездом заеду к Вашим братьям, заранее предупредив их – всё сделаю, как следует человеку, который раздумал умирать и разохотился жить. Жена моя и все мои Вам кланяются – все Вас любят и помнят, от всех Вы своим уездом отняли много удовольствия.
Кланяйтесь от меня милому Петру Николаевичу.[1000 - П. Н. Кудрявцев, бывший в это время за границей.] Если б и с ним столкнуться там – да уж не слишком ли я многого хочу, уж не зазнался ли я?
Прочти во 2 № «Отечественных записок» повесть Даля «Игривый». Есть в ней превосходные вещи. Да если ты не читал еще, непременно прочти его же: «Колбасники» и «Бородачи», «Денщик», «Дворник». Всё это найдешь ты в его сочинениях, недавно изданных. Да прочти в прошлом году «Отечественных записок» его же: «Небывалое в былом, или Былое в небывалом»: целое – ничего, но есть дивно-прекрасные частности.[958 - Сочинения В. И. Даля – «Повести, сказки и рассказы казака Луганского. Четыре части» вышли в 1846 г. в Петербурге. В № 2 «Современника» Белинский поместил положительную рецензию на это издание, выделив особо рассказы: «Колбасники», «Бородачи», «Денщик», «Дворник» (отд. III, стр. 134–138; без подписи; ИАН, т. X, № 6). Повесть «Павел Алексеевич Игривый» была напечатана в «Отеч. записках» 1847 г: (№ 2, отд. I, стр. 307–372) за подписью В. Луганский, – «Небывшее в былом, или Былое в небывалом» («Отеч. записки» 1846, №№ 5 и 6, отд. I, стр. 1–70, 151–190, у Белинского: «Бывалое в небывалом, или Небывалое в былом») Белинский отметил во «Взгляде на русскую литературу 1846 года» (ИАН, т. X, стр. 42).] В Питере нашлись люди, которым повесть Панаева очень нравится, они не совсем довольны только концом. Повесть Кудрявцева никому не нравится. Поди ты тут!![959 - См. примеч. 11 и 19 к письму 253.]
Прочел я в «Revue des Deux Mondes»[241 - «Обозрении двух миров» (франц.). – Ред.] статью Сессе о положительной философии Конта и Литтре.[960 - См. письмо 286 и примеч. 8 к нему.] Сколько можно получить понятие о предмете из вторых рук, я понял Конта, в чем мне особенно помогли разговоры и споры с тобою, которые только теперь уяснились для меня. Конт – человек замечательный; но чтоб он был основателем новой философии – далеко кулику до Петрова дня! Для этого нужен гений, которого нет и признаков в Конте. Этот человек – замечательное явление, как реакция теологическому вмешательству в науку, и реакция энергическая, беспокойная и тревожная. Конт – человек богатый познаниями, с большим умом, но его ум сухой, в нем нет той полетистости, которая необходима всему творческому, даже математику, если ему[242 - Далее зачеркнуто: суждено] даны силы раздвинуть пределы науки. Хотя Литтре и ограничился смиренною ролью ученика Конта, но сейчас видно, что он – более богатая натура, чем Конт.
О г. Saisset'e,[243 - Сессе (франц.). – Ред.] изрекающем роковой приговор положительной философии Конта и Литтре, много говорить нечего: для него метафизика – c'est la science de Diou,[244 - божественная наука (франц.). – Ред.] a между тем он поборник опыта и враг немецкого трансцендентализма. О немецкой философии он говорит с презрением, не имея о ней ни малейшего понятия. И здесь я имел случай вновь полюбоваться нахальною недобросовестностию, свойственною французам, и вспомнил Пьера Леру,[961 - О прежнем отношении Белинского к идеям Леру см. примеч. 10 к письму 197.] который, обругав Гегеля, восхвалил Шеллинга, предполагая в последнем своего союзника и оправдываясь, когда его уличали в невежестве, тем, что он узнал всё это от достоверного человека. – Между тем, в нападках Saisset много дельного, и прежде всего смешная претензия Конта – слово идея заменить законом природы. Хорошо будет Конту, если его противники будут ратовать с остервенением за слово; но что с ним станется, если они будут так благоразумны, что согласятся с ним? Ведь дело тут не в деле (по-моему, не в идее), а в новом названии старой вещи, нисколько не изменяющем ее сущности, с тою только разницею, что старое название имеет за собою великое преимущество исторического происхождения и основанной на вековой давности привычки к нему и что от него производится слово идеал, необходимое не в одном искусстве. Абсолютная идея, абсолютный закон – это одно и то же, ибо оба выражают нечто общее, универсальное, неизменяемое, исключающее случайность. Итак, Конт пробавляется стариною, думая созидать новое. Это смешно. Конт находит природу несовершенного: в этом я вижу самое поразительное доказательство, что он не вождь, а застрельщик, не новое философское учение, а реакция, т. е. крайность, вызванная крайностию. Пиэтисты удивляются совершенству природы, для них в ней всё премудро рассчитано и размерено, они верят, что должна быть великая польза даже от гнусной и плодущей породы грызущих, т. е. крыс и мышей, потому только, что природа сдуру не скупится производить их в чудовищном количестве. И вот Конт их нелепости, по чувству противоречия и необходимости реакции, противопоставляет новую нелепость, что природа-де несовершенна и могла б быть совершеннее. Последнее – чепуха, первое справедливо, да в несовершенстве-то природы и заключается ее совершенство. Совершенство есть идея абстрактного трансцендентализма, и потому оно – подлейшая вещь в мире. Человек смертен, подвержен болезни, голоду, должен отстаивать с бою жизнь свою – это его несовершенство, но им-то и велик он, им-то и мила и дорога ему жизнь его. Застрахуй его от смерти, болезни, случая, горя – и он – турецкий паша, скучающий в ленивом блаженстве, хуже – он превратится в скота. Конт не видит исторического прогресса, живой связи, проходящей живым нервом по живому организму истории человечества. Из этого я вижу, что область истории закрыта для его ограниченности. Ломоносов был в естественных науках великим ученым своего времени, а по части истории он был равен ослу Тредьяковскому: явно, что область истории была вне его натуры. Конт уничтожает метафизику не как науку трансцендентальных нелепостей, но как науку законов ума; для него последняя наука, наука наук – физиология. Это доказывает, что область философии так же вне его натуры, как и область истории, и что исключительно доступная ему сфера знания есть математические и естественные науки. Что действия, т. е. деятельность, ума есть результат деятельности мозговых органов – в этом нет никакого сомнения; но кто же подсмотрел акт этих органов при деятельности нашего ума? Подсмотрят ли ее когда-нибудь? Конт возложил свое упование на дальнейшие успехи френологии; но эти успехи подтвердят только тождество физической природы (человека) с его духовною природою – не больше. Духовную природу человека не должно отделять от его физической природы, как что-то особенное и независимое от нее, но должно отличать от нее, как область анатомии отличают от области физиологии. Законы ума должны наблюдаться в действиях ума. Это дело логики, науки, непосредственно следующей за физиологией, как физиология следует за анатомиею. Метафизику к чорту: это слово означает сверхнатуральное, следовательно, нелепость, а логика, по самому своему этимологическому значению, значит и мысль и слово. Она должна идти своею дорогою, но только не забывать ни на минуту, что предмет ее исследований – цветок, корень которого в земле, т. е. духовное, которое есть не что иное, как деятельность физического. Освободить науку от призраков трансцендентализма и th?ologie,[245 - теологии (франц.). – Ред.] показать границы ума, в которых его деятельность плодотворна, оторвать его навсегда от всего фантастического и мистического – вот, что сделает основатель новой философии, и вот, чего не сделает Конт, но что, вместе со многими подобными ему замечательными умами, он поможет сделать призванному. Сам же он слишком узко построен для такого широкого, многообъемлющего дела. Он реактор, а не зиждитель, он зарница, предвестница бури, а не буря, он одно из тревожных явлений, предсказывающих близость умственной революции, но не революция. Гений – великое дело: он, как Петрушка Гоголя, носит с собою собственный запах;[962 - Персонаж из «Мертвых душ» Гоголя, лакей Чичикова.] от Конта не пахнет гениальностию. Может быть, я ошибаюсь, но таково мое мнение.
В том же № «Revue des Deux Mondes»[246 - «Обозрение двух миров» (франц.). – Ред.] меня очень заинтересовала небольшая статья какого-то Тома: «Un nouvel ?crit de M. de Shelling»[247 - «Новое о Шеллинге» (франц.). – Ред.].[963 - Статья Александра Жерара Тома (1818–1857) о Шеллинге была напечатана в «Revue des Deux Mondes» 1846, т. XV, № 5, стр. 351–416.] У меня было какое-то смутное понятие о новом мистическом учении Шеллинга. Тома говорит, что Ш<еллинг> деизм называет imb?cile[248 - слабоумием (франц.). – Ред.] (с чем и поздравляю Пьера Леру) и презирает его больше атеизма, который он несказанно презирает. Кто же он? – он пантеист-христианин и создал для избранных натур (аристократии человечества) удивительно изящную церковь, в которой обителей много. Бедное человечество! Добрый Одоевский раз не шутя уверял меня, что нет черты, отделяющей сумасшествие от нормального состояния ума, и что ни в одном человеке нельзя быть уверенным, что он не сумасшедший. В приложении не к одному Шеллингу как это справедливо! У кого есть система, убеждение, тот должен трепетать за нормальное состояние своего рассудка. Ведь почти все сумасшедшие удивляют в разговоре ясностию своего рассудка, пока не нападут на свою id?e fixe.[249 - навязчивую идею (франц.). – Ред.]
Я позволил себе сделать некую мерзость с письмом Анненкова, т. е. вычеркнуть его суждение о Лукр<еции> Флориани; мне была невыносима мысль, что в «Современнике» явится такого рода суждение. Как ты думаешь, не осердится он за мою неделикатность?[964 - Во «Втором письме из Парижа» Анненкова от 4/I 1847 г. («Современник» 1847, № 2, отд. IV, стр. 149) Белинский изъял следующие строки о романе Санд «Лукреция Флориани» (выделены курсивом): «…этот перл романов Ж. Санда, в котором не знаешь, чему более удивляться, широте ли кисти, глубине ли характеров, мастерству ли рассказа, и который многие приняли за снятие всякого запрещения, между тем как он есть напротив самое строгое наложение правил на праздношатание страстей, по моему мнению, разумеется, и моральный вопрос разрешается превосходно…». Роман этот в переводе А. И. Кронеберга был дан в особом приложении к I тому «Современника» 1847 г.]
Прочти в 35 № (15 февраля) «Санкт-Петербургских ведомостей» статью Губера о книге Гоголя: это замечательное и отрадное явление.[965 - О статье Э. И. Губера «Выбранные места из переписки с друзьями Н. Гоголя». СПб., 1846, напечатанной в «С.-Петербургских ведомостях» 1847, № 35 от 15/II, см. также письмо 292.] Прочел ли ты книгу Макса Штирнера?[966 - «Der Einzige und Sein Eigentum» («Единственный и его достояние»). Leipzig, 1845. Эта книга – апология индивидуализма и анархии; см. о ней: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. IV, «Немецкая идеология», гл. III («Святой Макс»). В январе 1846 г. она была запрещена в России Цензурным комитетом (см. «Каторга и ссылка» 1929, № 6, стр. 195). Об интересе Белинского к книге Штирнера см. в «Литературных воспоминаниях» П. В. Анненкова (М. – Л., 1928, стр. 558–563).] Кстати, чуть было не забыл – презабавный анекдот о Достоевском. Воспользовавшись крайнею нуждою Кр<аевско>го в повестях, он превосходно надул этого умного, практического человека. Он забрал у него более 4 тысяч асс. и заключил с ним контракт, по которому обязался 5 декабря доставить ему 1-ю часть нового своего большого романа, 5 января – 2-ю, 5 февраля – 3-ю, 5 марта – 4-ю часть.[967 - Речь идет, очевидно, о повести «Неточка Незванова», написанной несколько позднее (см. Ф. М. Достоевский. Письма, т. I. М. – Л., 1928, стр. 97 и 493). О ней Краевский сообщал в объявлении «Об издании «Отечественных записок» в 1848 году» (стр. 7).] Проходит декабрь – Дост<оевский> не является к Кр<аевскому>, проходит январь – тоже (а где найти его, Кр<аевский> не знает); наконец в нынешнем месяце, в одно прекрасное утро, раздается в прихожей Кр<аевского> звонок, человек отворяет дверь и видит Дост<оевского>, снимает с него шинель и бежит доложить. Кр<аевский>, разумеется, обрадовался, говорит – проси, человек идет в переднюю и – не видит ни калош, ни шинели, ни самого Достоевского…
Что это делается с твоею головою? Уж не поветрие ли теперь на эту болезнь? У меня до сих пор остались еще корни этой болезни, и при кашле иногда голова сильно трещит, хоть и легче, чем прежде. Да что ты ни слова не скажешь мне: обжился ли ты в Москве до того, чтобы известные отношения тебя уже больше не смущали и не беспокоили?[968 - Белинский намекает на развод Боткина с Арманс. См. письмо 213 и примеч. 6 к нему.] Хочу знать это не из бабьего любопытства, а по участию к тебе. Если всё это хорошо уладилось, то, разумеется, без особенно важных причин было бы нелепо переезжать тебе в Питер.
Что за чудак Мельгунов! Пишет он к Панаеву, чтобы делать нам авансы Павлову для получения от него в «Современник» писем к Гоголю.[969 - См. письмо 287 и примеч. 6 к нему, а также письмо 298.] Для этого нам должно перевести из каких-то немецких журналов отзывы о Павлове, вероятно, преувеличенные. К чему это? «Теперь (говорит М<ельгунов>), когда звезда Гоголя закатилась, звезда Павлова опять засияет». Что за ерунда! <…> имеет больше отношения к звезде Гоголя, нежели звезда Павлова: по крайней мере, рифма, да еще богатая, а притом и Гоголь сделался теперь <…>. Я не отрицаю в Павлове блестящего беллетристического дарования, но не вижу ничего общего между ним и Гоголем. Говорят, покойный Давыдов был доблестный партизан и не плохой генерал, но не смешно ли было бы, если б кто из его друзей сказал ему: «Звезда Наполеона закатилась, твоя засияет теперь». Прощай. Твой
В. Б.
Это письмо было написано вчера поутру; а вчера вечером Тютчев принес мне твое письмо и дикое письмо Кавелина; ответы на оба пойдут завтра.[970 - Ни упомянутые письма Боткина и Кавелина, ни ответы на них Белинского не сохранились. О содержании письма Кавелина и ответа Белинского см. письмо 290, стр. 334.]
290. И. С. Тургеневу
СПб. 19 февраля (3 марта) 1847
Любезнейший, дражайший и милейший мой Иван Сергеевич, наконец-то я собрался писать к Вам.[971 - Тургенев уехал в Берлин около 15 января 1847 г.] Не поверите, сколько писем написал я в последнее время – даже рука одеревенела от них. Вы скажете, что Вам от этого не веселее, но всё нужные, иначе я не стал бы мучить себя ими. Вот теперь, решившись засесть на беседу с Вами, увидел, что нет почтовой бумаги, и пишу Вам на лоскутках.
Когда Вы сбирались в путь, я знал вперед, чего лишаюсь а Вас, но когда Вы уехали, я увидел, что потерял в Вас больше, нежели сколько думал, и что Ваши набеги на мою квартиру за час перед обедом или часа на два после обеда, в ожидании начала театра, были одно, что давало мне жизнь. После Вас я отдался скуке с каким-то апатическим самоотвержением и скучаю, как никогда в жизнь мою не скучал. Ложусь в 11, иногда даже в 10 часов, засыпаю до 12, встаю в 7, 8 и около 9 и целый день, особенно целый вечер (с после обеда), дремлю – вот жизнь моя!
Что сказать Вам нового? С Некрасовым у меня всё порешено: я получаю на тот год 12 тысяч асс. и остаюсь сотрудником. Мне предлагали контракт: 8 тысяч платы, да после двух, тысяч подписчиков по 5 к. с рубля и, в случае болезни или смерти, получение процентов до истечения десятилетия журнала. Я отказался и предпочел сохранить мою свободу и брать плату, как обыкновенный сотрудник и работник. Что, юный друг мой, кто из нас ребенок – Вы или я?.. Признаться, я и не хотел было распространяться с Вами об этой материи, но полученное мною от Кавелина письмо решило меня познакомить Вас с положением дел. Кавелин пишет, что Боткин им всё рассказал, что Н<екрасов> в их глазах тот же Кр<аевский>, а «Современник» то же, что «Отечественные записки», и потому он, К<авелин>, будет писать (для денег) и в том и другом журнале. Мало этого: выдумал он, что по 2 № «Современника» видно, что это журнал положительно подлый, и указал на две мои статьи, которые он считает принадлежащими Н<екрасо>ву. Объявление о 2 изданиях «Современника» поставлено им в страшно подлую проделку. Всё это глупо, и я отделал его, как следует, в письме на 4? больших почтовых листах. Но касательно главного пункта я мог только просить его, что, так как это дело ко мне ближе, чем к кому-нибудь, и я, так сказать, его хозяин, – чтобы он лучше захотел видеть меня простым сотрудником и работником «Современника», нежели без куска хлеба, и потому, не обращая внимания на П<анаева> и Н<екрасова>, думая о них, как угодно, попрежнему усердствовал бы к журналу, не подрывал бы его успеха и <не> ссорил бы меня с его хозяевами. Видите ли: я писал, значит, с тем, чтобы спасти журнал. Глупые обвинения мне легко отстранить, но я хорошо знаю наших москвичей – честь Н<екрасо>ва в их глазах погибла без возврата, без восстания, и теперь, кто ни сплети им про него нелепицу, что он, например, что-нибудь украл или сделал другую гадость – они всему поверят. Еще прежде П<анаев> получил от Кетчера ругательное письмо, которого не показал Н<екрасо>ву. Последний ничего не знает, но догадывается, а делает всё-таки свое. При объяснении со мною он был не хорош: кашлял, заикался, говорил, что на то, чего я желаю, он, кажется, для моей же пользы согласиться никак не может по причинам, которые сейчас же объяснит, и по причинам, которых не может мне сказать. Я отвечал, что не хочу знать никаких причин, и сказал мои условия. Он повеселел и теперь при свидании протягивает мне обе руки – видно, что доволен мною вполне, бедняк! По тону моего письма Вы можете видеть ясно, что я не в бешенстве и не в преувеличении. Я любил его, так любил, что мне и теперь иногда то жалко его, то досадно на него за него, а не за себя. Но мне трудно переболеть внутренним разрывом с человеком, а потом ничего. Природа мало дала мне способности ненавидеть за лично нанесенные мне несправедливости; я скорее способен возненавидеть человека за разность убеждений или за недостатки и пороки, вовсе для меня лично безвредные. Я и теперь высоко ценю Н<екрасо>ва за его богатую натуру и даровитость; но тем не менее он в моих глазах – человек, у которого будет капитал, который будет богат, а я знаю, как это делается.[972 - Либеральное крыло московских друзей Белинского считало более правильным сохранение двух органов оппозиционной печати и несколько опасалось связывать свою судьбу с «Современником». Кроме того, московские друзья Белинского были возмущены тем обстоятельством, что Некрасов и Панаев не пригласили его в соредакторы «Современника» и считали, что он поставлен в положение «наемного работника». Это ложное представление о роли Белинского в новом журнале вызвало у Боткина, Кавелина, Герцена, Грановского и Кетчера несколько враждебное отношение к «Современнику». Результатом недоверия к Некрасову и Панаеву явилось одновременное сотрудничество московских литераторов в «Отеч. записках» и в «Современнике», сильно подрывавшее авторитет последнего. Огорчение и недоумение по поводу поведения «москвичей» отразилось в письмах Белинского (294, 317, 319, 32), 322), Панаева к Кетчеру от 1/Х 1846 г. (Письма, т. III, стр. 362–364) и Некрасова к нему же от 4/XI 1847 г. и к Боткину от 11/IV 1847 г. (Полн. собр. соч. Некрасова. М., 1952, т. X, стр. 66–68, 85–87).Впоследствии, в 1869 г., Некрасов в письме к M. E. Салтыкову-Щедрину объяснял отношение к Белинскому опасениями, что в случае смерти последнего ему и Панаеву пришлось бы иметь дело с вдовой критика (там же. М., 1952, т. XI, стр. 130–137). См. также н. т., письмо 285.О письме Кавелина см. письмо 289, примеч. 25 к ному.] Вот уж начал с меня. Но довольно об этом. Да, чуть было не забыл: так как Толстой, вместо денег, прислал им только вексель, и то на половинную сумму, и когда уже и в деньгах-то журнал почти не нуждался, – то они отстранен от всякого участия в «Современнике», а вексель ему возвращен.[973 - Толстой Григорий Михайлович (1808–1871), богатый казанский помещик, приятель Панаева; в 1844–1847 гг., находясь за границей, познакомился с Марксом и Энгельсом. Некрасов вместе с Панаевым были летом 1846 г. в имении Толстого Казанской губ. Ново-Спасском, где они и договорились об издании «Современника». – О Толстом см. статью К. И. Чуковского «Григорий Толстой и Некрасов. К истории журнала «Современник»«– ЛН, т. 49–50, 1949, стр. 365–396.] Стало быть, Н<екрасов> отстранил меня от равного с ним значения в отношении к «Современнику» даже не потому, что 1/4 меньше 1/3, а потому, что 1/3 меньше 1/2-ой… Расчет простой и верный.
Еще слово: если Вы не хотите поступить со мною, как враг, ни слова об этом никому, Н<екрасо>ву всего менее. Подобное дело и лично распутать нельзя! (это Вы уже и испытали на себе), а переписка только еще больше запутает его, и всех больше потерплю тут я, разумеется.
Скажу Вам новость: я, может быть, буду в Силезии. Боткин достает мне 2500 р. асс.[974 - См. об этом письмо 285 и примеч. 8 к нему.] Я было начисто отказался, ибо с чем же бы я оставил семейство, а просить, чтобы мне выдавали жалованье за время отсутствия, мне не хотелось. Но после объяснения с Н<екрасовым> я подумал, что церемониться глупо, а надо брать всё, что можно взять. Он был даже рад, он готов сделать всё, только бы я… Я написал к Б<отки>ну, и теперь ответ его решит дело.
Достоевского переписка шулеров, к удивлению моему, мне просто не понравилась – насилу дочел.[975 - «Роман в девяти письмах» Достоевского, напечатанный в «Современнике» 1847, № 1 (отд. IV, стр. 45–54).] Это общее впечатление. Кстати: вот Вам анекдот об этом молодце. Он забрал у Кр<аевско>го более 4 тысяч асс. и обязался контрактом 5 декабря доставить ему 1-ую часть своего большого романа, 5 января – 2-ю, 5 февраля – 3-ю, 5 марта – 4-ю.[976 - См. письмо 289 и примеч. 22 к нему.] Проходит декабрь и январь – Дост<оевский> не является, а где его найти, Кр<аевский> не знает. Наконец в феврале в одно прекрасное утро в прихожей Кр<аевского> раздается звонок. Человек отворяет – и видит Дост<оевского>. Наскоро схвативши с него шинель, бежит доложить – Кр<аевский>, разумеется, обрадовался, человек выходит сказать – дескать, пожалуйте, но не видит ни калош, ни шинели Дост<оевско>го, ни самого его – и след простыл… Не правда ли, что это точь-в-точь сцена из «Двойника»?
Ваш «Русак» – чудо как хорош, удивителен, хотя и далеко ниже «Хоря и Калиныча». Вы и сами не знаете, что такое «Хорь и Калиныч». Это общий голос «Русак» тоже всем нравится очень. Мне кажется, у Вас чисто творческого таланта или нет, или очень мало, и Ваш талант однороден с Далем. Судя по «Хорю», Вы далеко пойдете. Это Ваш настоящий род. Вот хоть бы «Ермолай и мельничиха» – не бог знает что, безделка, а хорошо, потому что умно и дельно, с мыслию. А в «Бретере», я уверен, Вы творили. Найти свою дорогу, узнать свое место – в этом всё для человека, это для него значит сделаться самим собою. Если не ошибаюсь, Ваше призвание – наблюдать действительные явления и передавать их, пропуская через фантазию; но не опираться только на фантазию. Еще раз: не только «Хорь», но и «Русак», обещает в Вас замечательного писателя в будущем. Только, ради аллаха, не печатайте ничего такого, что ни то ни се, не то, чтобы не хорошо, да и не то, чтоб очень хорошо. Это страшно вредит тоталитету известности (извините за кудрявое выражение – лучшего не придумалось). А «Хорь» Вас высоко поднял – говорю это не как мое мнение, а как общий приговор.[977 - «Русак» – первоначальное заглавие рассказа Тургенева «Петр Петрович Каратаев» (см. о нем письмо 253, примеч. 11). – «Хорь и Калиныч» (с подзаголовком «Из записок охотника») был напечатан в «Современнике» 1847 г. (№ 1, отд. IV, стр. 55–64). – «Ермолай и мельничиха» – там же (№ 5, отд. I, стр. 130–141). – Рассказ «Бретер» появился в «Отеч. записках» 1847 г. (№ 1, отд. I, стр. 1–6).В обзоре «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский подробно остановился на «Записках охотника», особенно высоко оценив «Хоря и Калиныча» (см. ИАН, т. X, стр. 344–347).]
Некр<асов> написал недавно страшно хорошее стихотворение. Если не попадет в печать (а оно назначается в 3 №), то пришлю к Вам в рукописи. Что за талант у этого человека! И что за топор его талант![978 - Очевидно, речь идет о стихотворении Некрасова «Нравственный человек», напечатанном в мартовском номере «Современника» 1847 г. (отд. I, стр. 239–240).Слово «топор», по определению К. И. Чуковского, – «грозное боевое оружие, наносящее смертельные раны врагу» (К. И. Чуковский. Мастерство Некрасова. М., 1952, стр. 164–165).]
Повесть Кудрявцева не имела никакого успеха, откуда ни послышишь – не то что бранят, а холодно отзываются.[979 - См. письмо 253 и примеч. 19 к нему.]
Здоровье мое уже около месяца, как будто, всё лучше.
Все наши об Вас вспоминают, все любят Вас, я больше всех. Не знаю, почему, но когда думаю о Вас, юный друг мой, мне всё лезут в голову эти стихи:
Страстей неопытная сила
Кипела в сердце молодом…[980 - Цитата из стихотворения Пушкина «Чертог сиял. Гремели хором…», вошедшего в повесть «Египетские ночи». Здесь Белинский, вероятно, намекает на отношение Тургенева к Полине Виардо (см. о ней письмо 304 и примеч. 1 к нему).] и пр.
Вот Вам и загвоздка; нельзя же без того: на то и дружба…
Что бы еще Вам сказать, право, не знаю, а потому крепко жму Вам руку и обнимаю Вас заочно, от всей души желая всего хорошего и приятного. Жена моя и все мои домашние, не исключая Вашего крестника,[981 - Сын Белинского, Владимир, которого крестил Тургенев. См. о нем письмо 288 и примеч. 8 к нему.] кланяются Вам; все они Вас любят и часто о Вас вспоминают. Итак, прощайте. Ваш
В. Белинский.
Гоголь покаран сильно общественным мнением и разруган во всех почти журналах, даже друзья его, московские славеноперды, и те отступились если не от него, то от гнусной его книги[982 - Книга Гоголя – «Выбранные места из переписки с друзьями». См. письма 285–287, 292, 298.].
291. В. П. Боткину
СПб. 26 февраля 1847
Спасибо тебе за доброе письмо твое, Боткин.[983 - Это письмо не сохранилось.] Право, я отроду не хлопотал так о самом себе, как ты обо мне. Меня не одно то трогает, что ты всюду собираешь для меня деньги и жертвуешь своими, но еще больше то, что ты занят моею поездкою, как своим собственным сердечным интересом. А я всё браню тебя, да пишу тебе грубости. Недавно истощил я весь площадной словарь ругательств, браня и тебя и себя. Сколько раз говорил я с тобою о твоих письмах из Испании, – и не могу понять, как мог я забыть сказать тебе то, о чем так долго собирался говорить с тобою! Это о неуместности фраз на испанском языке – что отзывается претензиею. Мне кажется, что в следующих статьях ты бы хорошо сделал, выкинув эти фразы. Но еще за это тебя бранить не за что, а вот за что я проклинал тебя: эти фразы, равно как и все испанские слова, ты должен был не написать, а нарисовать, так чтобы не было ни малейшей возможности опечатки, а ты их нацарапал, и если увидишь, что от них равно откажутся и в Мадриде и в Марокко или равно признают их своими и там и сям, то пеняй на себя. А я помучился за корректурою твоей статьи довольно, чтобы проклясть и тебя и испанский язык, глаза даже ломом ломили. Вот и Кавелин: пишет Шеволье, а ну как это не Шеволье, а Шевалье?[984 - Белинский по ошибке назвал Кавелиным П. В. Анненкова. В письме из Парижа Анненкова от 4/I 1847 г. неоднократно упоминается французский буржуазный экономист Шевалье («Современник» 1847, № 2, отд. IV, стр. 143–144).] Так нет – везде о, кроме двух раз, вот тут и держи корректуру. Скажу тебе пренеприятную вещь: статью твою Куторга порядочно поцарапал – говорит: политика.[985 - Куторга Степан Семенович (1805–1861), профессор Петербургского университета по кафедре зоологии; с 1835 по 1848 г. – член Петербургского цензурного комитета, цензуровавший «Современник». – «Поцарапанная» Куторгой статья Боткина – первое письмо из Испании, напечатанное в мартовском номере «Современника» (см. письмо 285 и примеч. 3 к нему).] Действительно, у тебя много вышло резко, особенно эпитеты, прилагаемые тобою к испанскому правительству, – терпимость на этот раз изменила тебе. Вот тут и пиши! Впрочем, Некр<асов> говорит, что выкинуто строк 30, но ты понимаешь каких. Не знаю, как это известие подействует на тебя, но знаю, что если ты и огорчишься, то не больше меня: я до сих пор не могу привыкнуть к этой отеческой расправе, которую испытываю чуть не ежедневно.
Я понимаю, какое содержание письма Анненкова.[986 - О письме П. В. Анненкова к Боткину см. письма 292, примеч. 2, и 293, примеч. 1.] Это меня нисколько не удивило. Я давно знаю, что за человек Анненков, и знаю, что он любит меня. Тем не менее, с нетерпением жду этого письма. А что касается до 300 р. серебром Н<екрасо>ва, то это дело плохо, и на него нельзя рассчитывать. Н<екрасов> сказал мне, что у него денег ни копейки, но что он может отдать мне эти 300 р. с., взявши их из кассы «Современника». Теперь рассуди сам: за 47 год я должен получить с них 2000 р. с., а я уже забрал 1400 р. – стало быть, остается 600. Я должен забирать, без меня жена будет забирать, я приеду – опять начну забирать – за будущий год. Положим, Некр<асов> отдаст тебе 300 р. с.; тогда мне меньше можно будет забирать, а без забору мне хоть умирать. Итак, если[250 - Далее зачеркнуто: без этого] нельзя обойтись, не рассчитывая на эти 300 р., то хоть брось всё дело. Отвечай мне на это скорее: только в случае ответа, что-де можно и не рассчитывать на эти 300 р., я буду уверен окончательно, что еду за границу, и примусь готовиться серьёзно. Пока прощай.
Твой В. Белинский.
292. В. П. Боткину
СПб. 28 февраля 1847
Нечего говорить тебе, как удивило и огорчило меня письмо твое. Вижу, что оно от тебя, хотя рука и незнакомая, а всё не могу увериться, что это точно от тебя.[987 - Это письмо не сохранилось. – Боткин диктовал его, так как некоторое время не владел рукой, поврежденной наехавшими на него санями (см. «П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, стр. 528–529).] Вот уже с другим из близких мне людей в Москве случилось нынешнею зимою это несчастие. У нас в Питере случаются подобные несчастия, но редко, и то не с пешеходами, а с теми, кто едет в санях, да сзади наедет экипаж с дышлом. Это случается очень редко, и то при разъезде из театров, в страшной тесноте. У нас на это славный порядок: если экипаж на кого наехал, кучер в солдаты, а лошади в пожарное депо, чьи бы они ни были. Оттого и редки эти случаи. Я нахожу эту меру мудрою и в высшей степени справедливою – с русским человеком иначе не справиться – иной нарочно наедет для потехи.
Спасибо тебе за пересылку письма Анненкова. Я знаю, что при его средствах (ведь он не богач же какой) и, живя за границею, 400 франков – деньги; но этого я всегда ожидал от него, и это меня нисколько не удивило. Но его выражение, что мое положение отравляет все его похождения там <поразило меня>. Разумеется, я не принял этих слов в буквальном их значении, но понял, что в них истинного – и это тронуло меня до слез. А его решимость переменить свои планы путешествия для меня?[988 - Боткин писал Анненкову 28/II 1847 г.: «Зная, какую радость письмо Ваше принесет Белинскому, я послал его к нему» («П. В. Анненков и его друзья», стр. 529). См. письмо 293.] Нет, если б он дал мне две тысячи франков, – это бы далеко так не тронуло меня. Говорю тебе без фраз и без лицемерства, что любовь ко мне друзей моих часто меня конфузит и грустно на меня действует, ибо, по совести, не чувствую, не сознаю себя стоящим ее.
Ехать я должен на первом пароходе, а когда он пойдет, – этого теперь знать нельзя, ибо это зависит от раннего или позднего очищения моря от льду. Могу сказать только, что не раньше 3-го и не позже 17-го мая (3, 10 и 17-е приходятся в субботы – день, в который отходят пароходы из Питера в Кронштадт с пассажирами).[989 - Белинский выехал за границу 5 мая 1847 г. (см. письма 301 и 302).]
Бедный Кронеберг, действительно, болен серьёзно. Тяжело думать о нем!
К Анненкову пишу завтра же; к Тургеневу тож.[990 - Письма 293, 294.] О статье моей о Гоголе[991 - См. письмо 286 и примеч. 4 к нему.] мне не хотелось бы писать к тебе, ибо я положил себе за правило – никогда и ни с кем не спорить о моих статьях, защищая их. Но на этот раз нарушаю мое правило потому, что ты болен и что в твоем положении письмо приятеля тем приятнее, чем больше в нем разных вздоров (для этого я считаю за обязанность писать теперь к тебе чаще, не ожидая от тебя ответов). Видишь ли, в чем дело: ты решительно не понимаешь меня, хотя и знаешь меня довольно. Я не юморист, не остряк; ирония и юмор – не мои оружия. Если мне удалось в жизнь мою написать статей пяток, в которых ирония играет видную роль и с большим или меньшим уменьем выдержана, – это произошло совсем не от спокойствия, а от крайней степени бешенства, породившего своею сосредоточенностью другую крайность – спокойствие. Когда я писал тип на Шевырку и статью о «Тарантасе»,[992 - Речь идет о «Педанте» (см. письмо 189 и примеч. 5 к нему) и статье о. «Тарантасе» В. А. Соллогуба, в которой дана памфлетная характеристика И. В. Киреевского («Отеч. записки» 1845, № 6; ИАН, т. IX, стр. 81–117).] я был не красен, а бледен, и у меня сохло во рту, отчего на губах и не было пены. Я могу писать порядочно только на основании моей натуры, моих естественных средств. Выходя из них по расчету или по необходимости, – я делаюсь ни то ни се, ни рак ни рыба. Теперь слушай: кроме того, что я болен и что мне опротивела и литература и критика так, что не только писать, читать ничего не хотелось бы, – я еще принужден действовать вне моей натуры, моего характера. Природа осудила меня лаять собакою и выть шакалом, а обстоятельства велят мне мурлыкать кошкою, вертеть хвостом по-лисьи. Ты говоришь, что статья «написана без довольной обдуманности и несколько сплеча, тогда <как> за дело надо было взяться с тонкостью». Друг ты мой, потому-то, напротив, моя статья и не могла никак своею замечательностию соответствовать важности (хотя и отрицательной) книги, на которую писана, что я ее обдумал. Как ты мало меня знаешь! Все лучшие мои статьи нисколько не обдуманы, это импровизации, садясь за них, я не знал, что я буду писать. Если первая строка хватит издалека – статья болтлива, о деле мало сказано; если первая строка ближе к делу – статья хороша. И чем больше я ее запущу, чем меньше мне времени писать ее, тем она энергичнее и горячее. Вот как я пишу! Если б мне надо было обдумывать, я не мог бы кормиться литературою и каждый месяц, кроме мелких статей, поставлять по критике. Статья о гнусной книге Гоголя могла бы выйти замечательно хорошею, если бы я в ней мог, зажмурив глаза, отдаться моему негодованию и бешенству. Мне очень нравится статья Губера[993 - См. письмо 289 и примеч. 20 к нему.] (читал ли ты ее?) именно потому, что она писана прямо, без лисьих верчений хвостом. Мне кажется, что она – моя, украдена у меня и только немножко ослаблена. Но мою статью я обдумал, и потому вперед знал, что отличною она не будет, и бился из того только, чтоб она была дельна и показала гнусность подлеца. И она такою и вышла у меня, а не такою, какою ты прочел ее. Вы живете в деревне и ничего не знаете. Эффект этой книги был таков, что Никит<енко>, <ее> пропустивший, вычеркнул у меня часть выписок из книги, да еще дрожал и за то, что оставил в моей статье. Моего он и цензора вычеркнули целую треть, а в статье обдуманной помарка слова – важное дело. Ты упрекаешь меня, что я рассердился и не совладел с моим гневом? Да этого и не хотел. Терпимость к заблуждению я еще понимаю и ценю, по крайней мере в других, если не в себе, но терпимости к подлости я не терплю. Ты решительно не понял этой книги, если видишь в ней только заблуждение, а вместе с ним не видишь артистически рассчитанной подлости. Гоголь – совсем не, К. С. Аксаков. Это – Талейран, кардинал Феш, который всю жизнь обманывал бога, а при смерти надул сатану.[994 - Талейран Шарль Морис (1754–1838), французский дипломат, известный своей политической беспринципностью.Феш Жозеф (1763–1839), французский дипломат (дядя Наполеона). Вовремя революции, отказавшись от духовного сана, служил в Военном министерстве; в 1799 г., обвиненный в хищениях и удаленный из интендантства, снова принял духовное звание; с 1803 г. – кардинал; с 1804 г. – французский посол при папском дворе.] Вообще, ты с твоею терпимостию доходишь до нетерпимости именно тем, что исключаешь нетерпимость из числа великих и благородных источников силы и достоинства человеческого. Берегись впасть в односторонность и ограниченность. Вспомни, что говорит Анненков по поводу новой пьесы Понсара о том, что и здравый смысл может порождать нелепости, да еще скучные.[995 - Белинский имеет в виду рассказ Анненкова о провале драмы Понсара «Agn?s de Meranie» («Агнесса де Мерани») в третьем письме из Парижа от февраля 1847 г., который заканчивался словами: «…последствия доказали, что здравый смысл может производить точно такие же нелепости, как и всякий другой смысл, и даже хуже – производить скучные нелепости» («Современник» 1847, № 3. отд. IV, стр. 42).] И отзыв Анненкова о книге Гоголя тоже не отзывается терпимостию. Повторяю тебе: умею вчуже понимать и ценить терпимость, но останусь гордо и убежденно нетерпимым. И если сделаюсь терпимым – знай, что с той минуты я – кастрат и что во мне умерло то прекрасное человеческое, за которое столько хороших людей (а в числе их и ты) любили меня больше, нежели сколько я стоил того.
Что Михаил Семенович?[996 - М. С. Щепкин.] Здоров ли он? До меня доходят на его счет не совсем радостные слухи. Попроси кого-нибудь уведомить меня о нем. Если его положение не так дурно, как мне кажется, нельзя ли напомнить ему о его мне обещании. Крайне нужно для статьи о театре, которая для него будет интересна.[997 - Этот замысел Белинского не осуществился (см. о нем письмо 273).]
293. П. В. Анненкову
СПб. 1/13 марта 1847
Дражайший мой Павел Васильевич, Боткин переслал мне Ваше письмо к нему, в котором так много касающегося до меня. Не могу выразить Вам, какое впечатление произвело оно на меня, мой добрый и милый Анненков! Я знаю, что Вы человек обеспеченный, и порядочно обеспеченный, но отнюдь не богач, и я знаю, что и не с Вашими средствами за границею 400 фр. никогда не могут быть лишними. Но всё-таки не в этом дело: это я всегда ожидал <от> Вас и это меня нисколько не удивило, не взволновало. Но Ваши строки: «Грустную новость сообщили Вы мне о Бел<инском>, новость, которая, сказать признательно, отравляет все мои похождения здесь» – тронули меня до слез. Я не был так самолюбив и прост, чтобы вообразить, что Вы близки к отчаянию и, пожалуй, наложите на себя руки, не принял их даже в буквальном значении; но понял всё истинное, действительно в них заключающееся, понял, что мысль о моем положении иногда делает неполными Ваши удовольствия. Но это не всё: для меня вы изменяете план своих путешествий и, вместо Греции и Константинополя, располагаетесь ехать ко мне в Силезию, около Швейдница и Фрейбурга, недалеко от Бреславля! Вот что скажу я Вам на последнее в особенности: если бы не чувствовал, как много и сильно люблю я Вас, – Ваше письмо, вместо того, чтобы преисполнить меня радостью, которую я теперь чувствую, возбудило бы во мне неудовольствие и досаду.[998 - Об этом письме Анненкова к Боткину см. письмо 292. – Анненков ответил Белинскому из Парижа 25 марта н. с. (Письма, т. III, стр. 368). В тот же день Анненков писал братьям в Петербург о перемене своего маршрута (ЛН, т. 56, стр. 190).] Но довольно об этом. Думаю я отправиться на первом пароходе, а когда именно пойдет он, теперь знать нельзя – зависеть это будет от очистки льду на Балтике. Пароход с пассажирами отходит из Питера в Кронштадт по субботам; последняя суббота в апреле приходится 26 апреля (по вашему 8 мая), первая суббота в мае – 3/15, вторая – 10/22, третия – 17/29. Итак, всего вероятнее: не раньше 3/15 и не позже 17/29 мая. Как только сам узнаю наверное, сейчас же извещу Вас и Тургенева.
Да, я было струхнул порядком за свое положение, но теперь поправляюсь. Тильман ручается за выздоровление весною даже и в Питере, но всегда прибавляет: «а лучше бы ехать, если можно». Когда я сказал ему, что нельзя, он видимо насупился, а когда потом сказал, что еду – он просиял. Из этого я заключаю, что в Питере можно меня починить до осени, а за границею можно закрепить готовый развязаться и расползтись узел жизни. Вот уже с месяц чувствую я себя лучше, но упадок сил у меня – страшный: устаю от всякого движения, иногда задыхаюсь оттого, что переворочусь на кушетке с одного бока на другой.
Письма Ваши – наша отрада. В 2-м письме я был совсем готов принять Вашу сторону против добродетельных врагов введения науки земледелия и ремесл, но когда увидел, что это введение направлено против древних языков – я на попятный двор. У меня на этот счет есть убеждение, немножко даже фанатическое, и если я за что уважаю Гизо, так это за то, что в 1835, кажется, году он отстоял преподавание во Франции древних языков. Но об этом поговорим при свидании. Выходка «добродетельной» партии против эфира привела меня на минуту в то состояние, в которое приводит эфир. Этот факт окончательно объяснил мне, что такое эти новые музульмане, у которых Руссо – алла, а Р<обеспье>р пророк его, и почему эта партия только шумлива, а в сущности бессильна и ничтожна.[999 - Речь идет о втором «Письме из Парижа» Анненкова (от 4/I 1847 г.), напечатанном в февральском номере «Современника» 1847 г. (отд. IV, стр. 142–153). В нем Анненков рассказывает о полемике по поводу образования нового факультета Сорбонны – механических искусств, ремесел и земледелия, а также о борьбе партий в Палате депутатов.]
Все наши живут, как жили; только бедный Кронеберг болен и, кажется, серьезно. Богатый Краевский тоже болен и, говорят, тоже серьезно, но о нем я не жалею, хотя и не желаю ему зла.
Приеду к Вам с запасом новостей, а для письма как-то и не помнится ничего. Привезу Вам «Современника». Перед отъездом заеду к Вашим братьям, заранее предупредив их – всё сделаю, как следует человеку, который раздумал умирать и разохотился жить. Жена моя и все мои Вам кланяются – все Вас любят и помнят, от всех Вы своим уездом отняли много удовольствия.
Кланяйтесь от меня милому Петру Николаевичу.[1000 - П. Н. Кудрявцев, бывший в это время за границей.] Если б и с ним столкнуться там – да уж не слишком ли я многого хочу, уж не зазнался ли я?