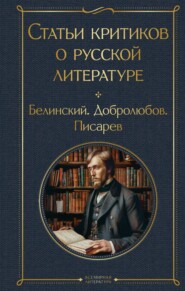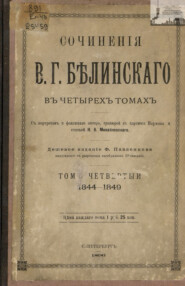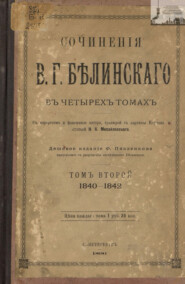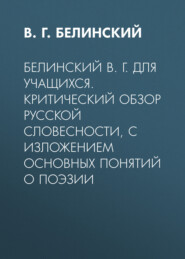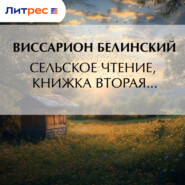По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Письма (1841–1848)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Второе письмо мое к тебе было вложено в письмо к Некрасову; уже с лишком пять недель, как оно отправлено. Но вот уже ровно 31 день, как послал я к тебе мое третье письмо, прося адресовать его на имя Анненкова.[1100 - Речь идет о письмах 311 и 312. Письмо к Некрасову не сохранилось.] И до сих пор нет ответа. В ожидании его я нарочно промедлил в Париже дня три. Что это значит? Боюсь отвечать себе на этот вопрос. Сегодня отдам это письмо на почту, завтра пойдет оно в Петербург, – и завтра же выезжаю и я сам из Парижа. Письмо мое[309 - Далее зачеркнуто: во всяком] должно упредить меня, потому что мне придется, может быть, ждать в Берлине несколько дней (сколько именно – не знаю), когда пойдет пароход. Попроси кого-нибудь из наших повидаться с Гончаровым и попросить его, нельзя ли ему доставить мне некую протекцию в таможне.[1101 - И. А. Гончаров служил в то время столоначальником в Департаменте внешней торговли.] Это, я думаю, не мудрено, потому что все мои товары состоят единственно в игрушках Оле. Наталья Александровна Г<ерцен> посылает ей, от имени своей дочери Таты (Наташи) великолепную игрушку с музыкою; от себя – платье; Марья Федоровна Корш – швейцарский дом. Я купил кое-какой дряни, франков на десяток.
Здоровье мое в хорошем положении. Больше писать не о чем, да и некогда. Если буду иметь счастие обнять вас всех живых и здоровых, тогда расскажу всё, чего в письмах не перепишешь. Прощай, до скорого свидания, друг мой.
Твой В. Б.
Если в Берлине мне придется прожить больше трех дней, то буду писать оттуда.
315. П. В. Анненкову
Берлин. 29 сентября <н. с.> 1847
Вот я и в Берлине, и уже третий день, дражайший мой Павел Васильевич. Приехал я сюда часов около 5-ти, в понедельник. Надо рассказать Вам мой плачевно-комический вояж от Парижа до Берлина. Начну с минуты, в которую мы с Вами расстались. Огорченный неприятною случайностию, заставившею меня ехать без Фредерика,[1102 - Провожатый, рекомендованный Белинскому Анненковым, портье в доме, где он жил, участник похода 1812 г. в Россию.] и боясь за себя остаться в Париже, заплативши деньги за билет, я побежал к поезду и задохнулся от этого движения до того, что не мог сказать ни слова, ни двинуться с места, я думал, что пришел мой последний час, и в тоске бессмысленно смотрел, как двинется поезд без меня. Однако минуты через три я пришел немного в себя, мог подойти к кондуктору и сказать: premi?re place.[310 - первое место (франц.). – Ред.] Только что он толкнул меня в карету и захлопнул дверцы, как поезд двинулся. Я пришел в себя совершенно не прежде, как около первой станции. Тогда овладели мною две мысли: таможня и Фредерик. Спать хотелось смертельно, но лишь задремлю – и греза переносит меня в таможню; я вздрагиваю судорожно и просыпаюсь. Так мучился я до самого Брюсселя, не имея силы ни противиться сну, ни заснуть. Таково свойство нервической натуры! Что мне делать в таможне? Объявить мои игрушки? Но для этого меня ужасали 40 фр. пошлины, заплаченные Герценом за игрушки же. Утаить? Но это вещи (особенно та, что с музыкою) большие – найдут и конфискуют. Это еще хуже 40 фр. пошлины, потому что (и об этом Вы можете по секрету сообщить Марье Федоровне и Наталье Александровне) я очень дорожу этими игрушками, – и когда подумаю о радости моей дочери, то делаюсь ее ровесником по летам. Где ни остановится поезд, всё думаю: вот здесь будут меня пытать, а Фредерика-то со мною нет, и чорт знает, кто за меня будет говорить. Наконец, действительно – вот и таможня. Ищу моих вещей – нет. Обращаюсь к одному таможенному: Je ne trouve pas mes effets. – O? allez-vous? – A Bruxelles. – C'est ? Bruxelles qu'on visitra vos effets.[311 - Я не нахожу моих вещей. – Куда вы едете? – В Брюссель. – В Брюсселе и будут осматривать ваши вещи. (Франц.) – Ред.] – Ух! словно гора с плеч – отсрочка пытке! Наконец я в Брюсселе. «Нет ли у вас товаров – объявите!» – сказал мне голосом пастора или исповедника таможенный. Подлая манера! коварная, предательская уловка! Скажи – нет, да найдет – вещь-то и конфискуют, да еще штраф сдерут. Я говорю – нет. Он начал рыться в белье, по краям чемодана, и уж совсем было сбирался перейти в другую половину чемодана, как чорт дернул его на полвершка дальше засунуть руку для последнего удара – и он ощупал игрушку с музыкой. Еще прежде он нашел сверток шариков – я говорю, что это игрушки, безделушки, и он положил их на место. Вынувши игрушку, он обратился к офицеру и донес ему, что я не рекламировал этой вещи. Вижу – дело плохо. Откуда взялся у меня французский язык (какой – не спрашивайте, но догадайтесь сами). Говорю – я объявлял. – Да, когда я нашел. – Офицер спросил мой паспорт. Дело плохо. Я объявил, что у меня и еще есть игрушка. Я уже почувствовал какую-то трусливую храбрость – стою, словно под пулями и ядрами, но стою смело, с отчаянным спокойствием. Пошли в другую половину чемодана; достали игрушку М<арьи> Ф<едоро>вны. Разбойник ощупал в кармане пальто коробочку с оловянными игрушками. Думаю – вот дойдет дело до вещей Павла Васильевича. Однако дело кончилось этим. Офицер возвратил мне паспорт и потребовал, чтоб я объявил ценность моих вещей. Вижу, что смиловались и дело пошло к лучшему – и от этого опять потерялся. Вместо того, чтобы оценить 1-ю игрушку в 10 фр., 2-ю – в 5, а оловянные в 1 1/2, – я начал толковать, что не знаю цены, что это подарки и что я купил только оловянные игрушки за 5 фр. Поспоривши со мною и видя, что я глуп до святости, они оценили всё в 35 фр. и взяли пошлины – 3 1/2 франка. Так вот из чего я страдал и мучился столько – из трех с половиною можне. Вышел я из нее, словно из ада в рай. Но мысль о Фредерике всё-таки беспокоила. Однако ж в отеле тотчас расспросил и узнал, что поезд из Парижа приходит в 8 часов утра, а в Кёльн отходит в 10 1/2. Поутру отправился я на извозчике в таможню, нашел там моего bon homme[312 - доброго малого (франц.). – Ред.] в крайнем замешательстве на мой счет и привез его с чемоданом к себе в трактир. До Кёльна ехал уже довольно спокойно. Думаю: Бельгия – страна промышленная, со всех сторон запертая для сбыта своих произведений – стало быть, таможни ее должны быть свирепы; но Германия – страна больше религиозная, философская, честная и глупая, нежели промышленная: вероятно, в ней и таможни филистерски добры. Но когда очутился в таможне, то опять струсил от мысли: где меньше ожидаешь, там-то и наткнешься на беду; игрушки-то я уже объявлю, да чтоб вещей Анненкова-то не нашли бы. А кончилось только осмотром Фредерикова чемодана и ящика с лекарствами. В мой чемодан плут-таможенный и не заглянул, но, схвативши его, понес в дилижанс, – за что я дал ему франк. Поутру ехать надо было рано. Встали во-время и убрались. Но Фредерик сделал глупость – уверил меня, что до железной дороги близехонько, и мы пошли пешком, перешли по мосту через Рейн и еще довольно прошли в гору до места. Я еле-еле дотащился. Но беда этим не кончилась – пожитки наши повез носильщик; звонят во второй раз, а их нет! Фр<едерик> бросился в кабриолет и поехал навстречу нашим чемоданам. Я пошел в залу, но ее уже затворяли, и я, только показавши билет, заставил себя пустить. Вообразите мою тоску! Иду на галерею: там всё отзывается последнею суетою. Слышу – звонят в 3-ий раз; бегу в залу – о радость! – Фр<едерик> весит пожитки. Я сел – и видел, как пронесли наши чемоданы. Я решился брать везде первые места, чтоб не страдать от сигар и не жить там, где живут другие. Из Гама до Ганновера я проехал лучше, чем ожидал. Во-1-х, ехали мы не 30 часов, а ровно 24 1/4; во-2-х, Фред<ерик> как-то умел всегда пихнуть меня в купе, где и просторно, и светло, и свежо. А это было нелегко, потому что на каждой станции дилижансы переменялись, чорт знает зачем. Только последнюю станцию сделал я внутри дилижанса, как будто для того, чтобы понять, от какой муки избавил меня Фред<ерик> на ночь. Вообще, в этот переезд он был мне особенно полезен, и без него я пропал бы. В воскресенье ночевали в Брауншвейге, где, сверх всякого чаяния, я опять наткнулся на таможню. Но тут я уже был совершенно спокоен, потому что не спрашивали, а осматривали молча; вынули большую игрушку, свесили, и взяли с меня 7 зильбергрошей. Тем и кончилось. В Кёльне и Брауншвейге Фр<едерик> ночевал в одной со мною комнате, и это было хорошо – он во-время будил меня, да и вообще по утрам был мне полезен. Сначала он отговаривался от такой чести; но когда я настаивал, он заметил: «Je suis propre».[313 - «Я чистый». (Франц.). – Ред.] Действительно, белье на нем было безукоризненно. Ночуй-ко в одной комнате, не то что с лакеем, с иным чиновником русским – он и обовшивит тебя, каналья! Заметил я за Фр<едериком> смешную вещь: он со всеми немцами заговаривал по-французски и не скоро замечал, что они его не понимают, так что я часто напоминал ему, чтоб он говорил по-немецки. Эк сила привычки-то! Вчера поутру он со мною простился.
В Кёльне, когда я из таможни ехал в дилижансе в трактир, со мною заговорил какой-то поляк. Вдруг один из пассажиров говорит мне по-русски: «Вы, верно, из Парижа выгнаны, подобно мне, за то, что смотрели на толпы в улице Saint-Honor??»[314 - Сент-Оноре (франц.). – Ред.] Завязался разговор, который продолжался в отели за столом. Как истинный русак, он умеет говорить в духе каждого мнения (т. е. приноровляться), но своего не имеет никакого. Ругает Луи-Филиппа и Гизо,[1103 - Гизо Франсуа Пьер Гильом (1787–1874), французский политический деятель и историк, идеолог крупной буржуазии; в то время – глава кабинета министров, существовавшего до февральской революции 1848 г.] Францию и говорит, что недаром некоторые французы отдают преимущество нашему образу правления. Я его осадил, и он сейчас же согласился со мною. Было говорено и о славянофилах, которых он всех знает, и, между прочим, он сказал: «Да за что их хватать – что они за либералы; вот их петербургские противники, так либералы». Разговор наш кончился вот как: «А вот у нас драгоценный человек!» – Кто? – Белинский. – Другой на моем месте тут-то бы и продолжал разговор; но я постыдно обратился в бегство, под предлогом, что холодно, да и спать пора.
Здоровье мое решительно в лучшем положении, нежели в каком оно было до дня отъезда из Парижа. Первые два дня мне было трудно, потому что было тепло, и я беспрестанно потел; но при выезде из Кёльна погода сделалась такая, что без халата у меня отмерзли бы ноги. В холоде я более уверен, что не простужусь, потому что больше берегусь. Сверх того, я постоянно (кроме переезда из Гама в Ганновер) принимаю лекарство, и даже усилил приемы: вечером три ложки да поутру пять. Кашель, появившийся было в последние дни пребывания в Париже, опять оставил меня, и я дышу вообще свободнее. Вообще, если я в таком состоянии доеду до дома, то ни для меня, ни для других не будет сомнения, что я-таки поправился немного и, в этом отношении, недаром ездил за границу.
Приехав в Берлин, я[315 - Далее зачеркнуто: отправился] велел Фредерику сказать кучеру, чтобы вез в отель, ближайшую к B?renstrasse.[316 - Беренштрассе (нем.). – Ред.] Подвезли к отели, но Фр<едерик> хотел еще ближе, велел поворотить назад и – привез меня в отель целою улицею дальше. Пошел к Щепкину[1104 - Д. М. Щепкин. См. письмо 318 и ИАН, т. XI, письмо 107, примеч. 39.] – думаю – вот одолжит, если переменил квартиру. Однако, нет. Только его не застал – он был в театре, и я вчера поутру увиделся с ним. Он принял меня приятельски, предложил и настоял, чтоб я переехал к нему, и я эту ночь ночевал у него. Спрашивал я его, что делается в Берлине, в Пруссии, по части штандов[1105 - См. письмо 309 и примеч. 1 к нему.] и конституции. Он говорит – ничего. Сначала штанды повели себя хорошо, так что король почувствовал себя в неловком положении; но началось гладью, а кончилось гадью. Началось тем, что Финке[1106 - Финке Георг Эрнст Фридрих (1811–1875), прусский политический деятель, выдвинувшийся в Соединенном ландтаге 1847 г. защитой конституции.] предлагал собранию объявить себя палатою и захватить диктатурою конституционною, а кончилось тем, что король распустил их с полным к ним презрением и теперь держит себя восторжествовавшим деспотом. – Да отчего ж это? – Оттого, что в народе есть потребность на картофель, но на конституцию ни малейшей; ее желают образованные городские сословия, которые ничего не могут сделать. – Так ты думаешь, что из этого ничего не выйдет? – Убежден.
Знаете ли что, Анненков: это грустно, а похоже на дело, особенно по прочтении 1-го тома истории Мишле,[1107 - «Histoire de la R?volution fran?aise» («История французской революции») Мишле (1798–1874), французского историка и публициста, друга Герцена.] где показано, кто во Франции-то сделал революцию?.. Видел я портрет Мирославского с его факсимиле: чудное, благородное, мужественное лицо![1108 - Мирославский (Мерославский) Людвик (1814–1878), польский революционер, участник восстания 1830 г. В 1847 г. был арестован во время подготовки восстания в Познани и приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Был освобожден в дни революции 1848 г.; впоследствии один из виднейших деятелей польской революционной эмиграции.] Щ<епкин> говорит, что, по всем вероятиям, Миросл<авский> будет казнен, ибо король благодарил procureur g?n?rale,[317 - генерального прокурора (франц.). – Ред.] который употреблял все уловки, чтоб запутать и погубить подсудимого. Общественное мнение в Б<ерли>не решительно за поляков: публика часто прерывала речи подсудимых криками браво, так что под конец правительство просило публику вести себя смирнее. А всё-таки будет так, как, угодно деспотизму и неправде, а не как общественному мнению, что бы ни говорил об этом верующий друг мой, Б<акунин>-ъ!..
Вот Вам подробный и даже скучный отчет о моем путешествии. Теперь мне грозит последняя и самая страшная таможня – русская. Щ<епкин> говорит, что она да английская самые свирепые. Будь, что будет. Меня немножко успокоивает то, что не будут спрашивать и исповедывать. А я купил целый кусок голландского полотна, его теперь режут и шьют на простыни.[318 - Далее зачеркнуто: Денег нет, чтобы и В пятницу в] Воля Ваша, а я родился рано – куда ни повернусь, всё вижу, что жить нельзя, а путешествовать и подавно. Что ни говорите, о таможнях, а в моих глазах это гнусная, позорная для человеческого достоинства вещь. Я отвергаю ее не головою, а нервами; мое отвращение к ней – не убеждение только, но и болезнь вместе с тем. Когда дочь моя будет капризничать, я буду пугать ее не шифонье,[319 - В автографе ошибочно: шкоропье.][1109 - От франц. chiffonnier – старьевщик.] как Тату, а таможнею.
Прощайте, милый мой Павел Васильевич, крепко, крепко жму Вам руку и говорю мое горячее дружеское спасибо за всё, что Вы делали для меня; это спасибо Вы разделите с Герц<еном> и Боткиным.[1110 - Боткин Николай Петрович, бывший в это время в Париже.] Наталье Алекс<андровне> и М<арье> Ф<едоров>не тысячу приветствий и добрых слов; Саше поклонитесь, а Тату расцелуйте.[1111 - Наталья Александровна – Герцен. Марья Федоровна – Корш. Саша и Тата – дети Герцена.] Катерине Николаевне Б-ой[1112 - Очевидно, жена Н. П. Боткина.] мое почтение. Вспомнилось мне, что второпях прощания я забыл поблагодарить Константина[1113 - Повар Герцена, грек. См. письмо Герцена к Огареву от 3/VIII н. с. 1847 г. (ПссГ, т. V, стр. 48).] за его чудные макароны, божественный ризот et cetera et cetera:[320 - и так далее и так далее (франц.). – Ред.] поправьте мою оплошность. Ну, еще раз прощайте. Скажите Марье Ф<едоро>вне, что вопреки ее злым предчувствиям, я часто думал о всех жителях avenu Marygni[321 - авеню Мариньи (франц.). – Ред.][1114 - В Париже на авеню Мариньи жила семья Герцена. Отсюда название знаменитых «писем» Герцена (см. о них письмо 321).] и о ней, что мне было грустно, что я с ними расстался, и что я по приезде домой буду часто говорить о них с своими и следить за ними в их вояже.
Поклонитесь от меня Н. И. Сазонову[1115 - Сазонов Николай Иванович (1813–1863), товарищ Герцена и Белинского по университету, в то время политический эмигрант, постоянно живший в Париже. Обещанная Сазоновым статья, – вероятно, об «Эстетике» Гегеля (см. письмо 318, а также ЛН, т. 56, стр. 221).О Сазонове см. главу в «Былом и думах» – «Русские тени. I. Н. И. Сазонов» (ПссГ, т. XIV, 1919, стр. 572–589) и публикацию Б. П. Козьмина в ЛН, т. 41–42, 1941, стр. 178–252.] и напомните ему о его обещании написать статью. Б<акуни>ну крепко жму руку.[1116 - О встречах Белинского в Париже с М. А. Бакуниным Герцен вспоминал в «Былом и думах» (ПссГ, т. XIV, стр. 579–581).]
В. Белинский.
316. В. П. Боткину
<4–8 ноября. 1847 г. Петербург>
СПб. 1847, ноября 4
Виноват я перед тобою, дражайший мой Василий Петрович, как чорт знает кто. Да что ж делать? Приехал я на временную квартиру, отдохнув дня два-три, принялся искать новую. Нашел ее после страшных хлопот и скитаний. Вот уже месяц, как я переехал, а поверишь ли – третьего дни[322 - Первоначально: то вчера] было последнее воскресенье, когда столяр покончил свои услуги по части устройства квартиры. Переезжая, мы перевозились с временной квартиры да перевозили мебель свою от Языкова и книги мои от Тютчева – из трех мест.[1117 - Белинский снял квартиру во флигеле дома И. Ф. Галченкова на Лиговском канале (№ 73 тогдашней нумерации). Она была его последней квартирой (см. ЛН, т. 57, стр. 401–402).] Одна укладка книг взяла у меня дней пять. А там немножко заболел, а тут работа приспичила, и я в шесть дней написал около трех с половиною печатных листов.[1118 - Речь идет о статье «Ответ «Москвитянину»«, напечатанной в «Современнике» 1847, № 11 (отд. III, стр. 29–75), без подписи. См. о ней письма 318 и 319.] Теперь одеревенелая рука отошла, дела нет, всё уложено и уставлено, и я пишу к тебе.
Я приступал к работе со страхом и трепетом; но, к счастию, она-то и убедила меня ясно и несомненно, что поездка моя за границу в отношении к здоровью была благодетельна и что я недаром скучал, зевал и апатически страдал за границею. Во время усиленной работы я чувствовал себя даже здоровее, крепче, сильнее, бодрее и веселее, чем в обыкновенное время. Итак, я еще могу работать, стало быть, пока еще не пропал.
Ноября 5
Начало этого письма написано вчера поутру, а вчера вечером я был в редакции, и там дали мне твое письмо.[1119 - Это письмо не сохранилось.] Ты пишешь, что я кошусь на тебя и что какая-то черная кошка пробежала между нами. Стыдно тебе питать подобные предположения. За что мне на тебя коситься? За разность мнений? Что за вздор – ведь я не мальчишка, и романтико-философические времена, когда никто из нас не смел предаться свободно своему чувству или взгляду, под опасением оказаться в собственных глазах пошлецом и подлецом, для меня так же прошли, как и для тебя. Действительно, бывают такие расхождения в образе мыслей, за которыми необходимо должно следовать и расхождение в знакомстве. Но это бывает там, где существуют партии, где мнение есть дело и жизнь. У нас же это возможно только на условии нравственной смерти одного из приятелей. Но, любезный Боткин, я тебя считаю не только живым, даже здоровым, потому что как ни мало видишь ты во мне терпимости, но ты решительно ошибаешься на мой счет, если думаешь, что я, подобно русским раскольникам, ужасаюсь есть из одной чашки с человеком, который позволяет себе думать, как ему думается, а не как мне угодно, чтобы он думал. Чорт возьми, да это уже был бы не фанатизм, а дуризм. Если в спорах с тобою я бывал резок или неумерен, бога ради, не приписывай это даже моему характеру (который и в этом отношении много изменился), а вспомни, или, лучше сказать, пойми, что прошлого зимою я был на волос от смерти и что Тильман не надеялся дотянуть нити моей жизни до минуты отъезда за границу. Вот почему на меня так болезненно подействовала выходка покойного Майкова,[1120 - Имеется в виду критический разбор В. Н. Майкова «Стихотворений Кольцова», изданных в 1846 г. со вступительной статьей Белинского, помещенный в «Отеч. записках» 1846, №№ 11 и 12 (отд. V, стр. 1–38; 39–70), без подписи. В нем Майков возражал против определения Белинского «гениальный талант», доказывая, что критик приводит читателей к заключению, будто «поэтический талант и поэтический гений две силы существенно различные» (№ 12, отд. V, стр. 68).] и теперь я совершенно с тобою согласен, что не на что было сердиться, а тогда – о, если бы ты знал все мои выходки в семейной жизни! Вспоминая о них, я дивлюсь, как будто дело идет не обо мне, а о ком другом. Вообще, ты очень мало обращаешь внимания на мою болезнь, потому только, что я ни ногах, а не в постели. Но в такой болезни и умирают на ногах, в полном сознании. Если бы ты теперь приехал в Петербург и застал бы меня в таком положении, как я чувствую себя теперь ты бы нашел во мне совершенно другого человека в сравнение с тем, которого видел около года назад тому. А я и теперь еще не вне опасности. Вчера я оставил мое письмо к тебе на столе и жена заглянула в него. Ты, сказала она мне после, пишешь к В<асилию> П<етровичу>, что был недавно немножко нездоров – ты ошибаешься: у тебя опять показались раны на легких, и Тильман струсил. Он говорит, что ты больной исключительный, каких у него не бывало: о всяком другом в этой болезни он может сказать наверное – умрет-де и тогда-то или выздоровеет; о тебе он ничего не может сказать, ибо много раз считал тебя обреченным на смерть и определял ее время; а ты – глядишь – через три, четыре дня опять далеко от смерти. Действительно, дней через 5 раны на легких опять исчезли, и теперь я себя чувствую препорядочно.
Но обращусь к прерванной нити. Мне хочется покончить раз навсегда этот вопрос. Какая еще может быть причина, что я на тебя кошусь? Личные твои ко мне отношения? Но пока ты был в Питере, они выразились тем, что ты всегда являлся ко мне с участием, что ты прощал мне в отношении к моей нетерпимости то, чего другим ты не мог простить и в меньшей степени. Когда же ты уехал в Москву, личные твои ко мне отношения выразились тем, что ты, чорт тебя знает как, устроил мою поездку за границу, которая без тебя, даже при готовности других помочь мне (которые и действительно помогли) никак бы не состоялась. Ну, за это мне на тебя коситься было бы странно. Теперь остается один пункт: твое участие в «Отечественных записках». Да, оно меня огорчает, очень огорчает, и я готов сказать тебе это и в письме и в глаза; но коситься на тебя по этому поводу я не считаю себя вправе и не кошусь. Вообще, первый признак кошения есть молчание о предмете кошения; а я об этом давно хотел говорить с тобою, и если собрался сделать это поздно, то потому же, почему до сих пор не писал, например, к Анненкову, на которого я тоже вовсе не кошусь и который, сверх того, не подал мне ни малейшего повода огорчаться. Благо зашла об этом речь, не поскучай выслушать меня внимательно, несмотря на мое многословие. Вчера я увидел в «Отечественных записках» страницу, наполненную обещанием статей для будущего года: она меня, что называется, положила в лоск.[1121 - В объявлении «Об издании «Отечественных записок» в 1848-м году» Краевский обещал: «Несколько критических статей по русской истории» Кавелина, «Нестор, в двух статьях К. К – на», «Маркиз Помбаль» Грановского, «Взгляд на историю Испании за три последних века» Боткина, «Общественный быт негров» П. Г. Редкина, «Обзор истории Малороссии до присоединения ее к Московскому государству» С. М. Соловьева, повесть Нестроева <Кудрявцева>, повесть Гончарова, повести Достоевского «Слабое сердце» и «Неточка Незванова», «Исследование об историческом развитии политической экономии» В. А. Милютина, «История развития в России экономических понятий и обозрение трудов русских экономистов» К. С. Веселовского, «Ученые и критические статьи по всеобщей истории» Кудрявцева, «Несколько статей из физической географии» Д. М. Перевощикова, «Письма об Англии и англичанах» А. П. Заблоцкого и т. д.4 ноября 1847 г. Некрасов писал Н. X. Кетчеру о странном отношении к «Современнику» некоторых его московских сотрудников. В этом письме были следующие строки: «…объявление в 11-м № «Отечественных записок» (где означены заготовленными статьи многих наших сотрудников, самых капитальных и на которых основывался перевес нашего журнала) нас чрезвычайно сконфузило. Я еще понемногу креплюсь, но Белинский впал в совершенное уныние, которое в самом деле весьма основательно» (Полн. собр. соч. Некрасова, т. X. М., 1952, стр. 85–86).] И потому я пишу теперь об этом предмете подробнее, чем намерен был сделать это прежде.
Да, твое участие в «Отечественных записках» глубоко огорчает меня; но за него я и не думал коситься на тебя, потому что не считаю себя вправе указывать дорогу твоей воле и деятельности. Это было бы и несправедливо и глупо с моей стороны. Приятель мой хочет жениться на А., а мне кажется, что ему следует жениться на Б.: меня может огорчить его решение, но как же бы я мог коситься на него, не будучи смешон не только в его, но и в своих собственных глазах. А в деле твоего участия в «Отечественных записках» мне уже следует коситься не на одного тебя: Кавелин и Грановский как будто уговорились с тобою губить «Современник», отнимая у него, своим участием в «Отечественных записках», возможность стать твердо на ноги. Но их непонятный для меня образ действования огорчает меня, глубоко огорчает, но не заставляет на них коситься. А почему огорчает – выслушай и суди: «Библиотека для чтения» всегда шла своею дорогою, потому что имела свой дух, свое направление. «Отечественные записки» года в два-три стали на одну с нею ногу, потому что со дня моего в них участия приобрели тоже свой дух, свое направление. Оба эти журнала могли не уступать друг другу в успехе, не мешая один другому, и если теперь «Библиотека для чтения» падает, то не по причине успеха «Отечественных записок» и «Современника», а потому, что Сенк<овский> вовсе ею не занимается. Совсем в других отношениях находится «Современник» к «Отечественным запискам»: его успех мог быть основан только на перевесе над ними. Дух и направление его – одинаковы с ними, стало быть, ему для успеха необходимо было доказать чем-нибудь свое право на существование при «Отечественных записках». Тут, стало быть, прямое соперничество, и успех одного журнала необходимо условливается падением другого. В чем же должен состоять перевес «Современника» над «Отечественными записками»? В переходе из них в него главных их[323 - В автографе описка: его] сотрудников и участников, дававших им дух и направление. Об этом переходе и было возвещено публике, и это возвещение было единственною причиною необыкновенного успеха «Современника», приобретшего в первый же год больше 2000 подписчиков, несмотря на то, что его объявление вышло только в ноябре. И это понятно: публика вправе была думать, что настоящее направление «Отечественных записок» перейдет в «Современник», а в «Отечественных записках» останется только тень, призрак этого направления. Но Кр<аевский> – пошлец и мерзавец, стало быть, за него судьба и честные люди – два союзника, вечно обеспечивающие успех негодяев. Я помог «Современнику» только моим именем, а действительного моего участия в нем мало заметно было и до отъезда моего за границу (умирая, мудрено писать хорошо, и даже так, как я писал, умирая, только я мог писать, по моей привычке к делу, обратившейся у меня в натуру), пока я был за границею, в 5 №№, уже буквально не было никакого с моей стороны участия. От этого произошли те важные недостатки «Современника», в которых ты его очень основательно обвиняешь. Это был сборник статей, весьма замечательный, можно сказать, превосходный; но журнал плохой, вовсе не журнал. Публика ожидала моих больших критических статей, особенно о Лермонтове и Гоголе, которые были ей неоднократно обещаны, а вместо того не нашла в «Современнике» даже и библиографии порядочной. Разумеется, ей дела мало до моей болезни или моего отъезда; она видела только, что как сборник (особенно со стороны повестей) «Отечественные записки» упали, но как журнал – имели решительный перевес над «Современником». Судьба за мерзавца! Однако, несмотря на то, подписка на «Современник» шла, хотя и тихо, даже и летом, и до сих пор еще не прекратились требования на «Современник» 1847 года. Но развратная судьба не удовлетворилась только этим в помощи Кузьме Рощину.[1122 - См. примеч. 2 к письму 254.] Есть в Питере некто г. Дудышкин, чиновник,[324 - Первоначально: человек] кончивший курс в Петербургском университете. Ему лет 30. Он никогда ничего не писал и не воображал сделаться литератором.[1123 - Дудышкин Степан Семенович (1820–1866), литературный критик; буржуазный либерал, с 1849 г. фактический редактор «Отеч. записок». Статья Дудышкина «Сочинения Фонвизина. СПб., 1846» появилась в «Отеч. записках» 1847, №№ 8 и 9 (отд. V, стр. 21–40; 23–46), – без подписи.] Покойник Майков убедил его, что он может писать, и заставил писать в «Отечественные записки», – и что же, этот Дудышкин дебютировал статьею о Фонвизине, которая, по моему мнению, просто превосходна. По приезде сейчас пустился я в чтение того, что вышло без меня. Прежде всего мне указали на статью о Фонвизине. Я пришел от нее в восторг, чрезмерность которого понятна только во мне, потому что всякое сколько-нибудь живое и замечательное явление в русской литературе радует меня в тысячу раз больше, нежели действительно огромное явление в европейских литературах. Но вот я читаю в «Отечественных записках» статью на книжку Григорьева о еврейских сектах. Статья прекрасная, фактов в ней больше, чем в книжке, и есть взгляд, которого нет в книжке.[1124 - Статья Дудышкина «Еврейские религиозные секты в России. Сост. В. В. Григорьевым. СПб., 1847» была напечатана в № 6 «Отеч. записок» 1847 г. (отд. V, стр. 23–36) без подписи.] Чья это статья? – Да всё Дудышкина же; он для нее ходил в Публичную библиотеку, рылся в книгах. Читаю в 8 № «Отечественных записок» статью о французской литературе – статья дельная; чья? Всё Дудышкина же. Понравились мне в «Отечественных записках» две или три рецензии; чьи? – Дудышкина. Одна о поэме Вердеревского «Больной»; Майков покойник об этой же поэме писал в «Современнике»; но рецензия «Отечественных записок» прекрасна, а в «Современнике» – пл-о-о-о-ха!![1125 - Обзор Дудышкина «Французская литература» (о книгах Токвиля, Ламартина и других новинках) помещен в «Отеч. записках» 1847, № 8 (отд. VII, стр. 25–46), без подписи. Рецензия его на книгу «Октавы Е. Вердеревского. I. Больной (рассказ в стихах). СПб. 1847» напечатана в «Отеч. записках» 1847, № 9 (отд. VI, стр. 1–8), без подписи; рецензия Майкова на ту же книгу – в «Современнике» 1847, № 9 (отд. IV, стр. 45–54), без подписи.] Ну не <…> ли, не <…> ли судьба? Ведь это всё случай: Д<удышкин> так же мог бы начать и у нас, как и в «Отечественных записках», а случилось же, что он начал в «Отечественных записках». Разумеется, Заблоцкий нам ничего не даст, и если не в «Журнале государственных имуществ», то в «Отечественных записках» будет помещать свои лучшие статьи. Тут нет судьбы и случайности. Но надо же было, чтобы именно в нынешнем году напечатал он в «Отечественных записках» свою архи– и прото-превосходнейшую статью (во мнении о которой – я уверен – ты ? la lettre[325 - буквально (франц.). – Ред.] согласен и пересогласен со мною) о причинах колебания цен на хлеб в России.[1126 - Заблоцкий-Десятовский Андрей Парфенович (1808–1881), экономист и статистик, чиновник Министерства государственных имуществ, буржуазный либерал, один из ближайших сотрудников П. Д. Киселева, автора известной записки «О крепостном состоянии в России»; в 1845–1847 гг. издавал с В. Ф. Одоевским «Сельское чтение».Статья его «Причины колебания цен на хлеб в России» появилась в «Отеч. записках» 1847, №№ 5 и 6 (отд. IV, стр. 1–36 и 31–66).] А там кто-то из неизвестных прислал Краевскому прекрасную и преинтересную статью о золотых приисках в Сибири.[1127 - «Рассказы о сибирских золотых приисках» П. И. Небольсина печатались в «Отеч. записках», начиная с июня 1847 г. из номера в номер, в отделе «Смесь» (№№ 6, 8–12). Сначала они были подписаны инициалами: П. Н., но в № 1 за 1848 г. была поставлена полная подпись. В обзоре «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский назвал их «прекрасной, интересной по содержанию и изложению статьей» (ИАН, т. X, стр. 353).] Счастие подлецу! Но, несмотря на то, наше дело еще далеко не проиграно; даже была бы надежда на победу, ибо для этого есть все средства. Повести у нас – объедение, роскошь – ни один журнал никогда не был так блистательно богат в этом отношении; а русские повести с гоголевским направлением теперь дороже всего для русской публики, и этого не видят только уже вовсе слепые. От Краевского все переходят к нам. Покойник Майков перед смертью решительно перешел было к нам. Пронюхавши о Дудышкине, Некрасов сейчас же бросился в Царское Село, поехал туда для порядка, а воротился пьян,[1128 - Цитата из «Ревизора» Гоголя (д. I, явл. 5).] но и Дудышкина оставил в веселом расположении духа. Я, с своей стороны, тотчас же поспешил с ним познакомиться, расхвалил ему его статьи, и он сказал мне, да я и сам это ясно видел, что ничья похвала не могла польстить его самолюбию столько, как моя. Теперь он наш. Он уже взял сочинения Муравьева, Хемницера, Кантемира (в новом издании Смирдина), чтобы писать о них.[1129 - Статья Дудышкина «Сочинения Кантемира (Полное собрание русских авторов). Изд. А. Смирдина. СПб., 1847» была напечатана в ноябрьском номере «Современника» 1848 г. (отд. III, стр. 1–40) за подписью: Д-н.] Он человек умный и с характером, сразу понял Андрюшку и в глаза язвил его ловкими выходками. Мы даже имеем причину надеяться, что ни одной строки Дудышкина не будет в «Отечественных записках». Теперь есть еще в Петербурге молодой человек Милютин. Он занимается con amore[326 - с любовью (итал.). – Ред.] и специально политическою экономиею. Из его статьи о Мальтусе ты мог видеть, что он следит за наукою и что его направление дельное и совершенно гуманное, без прекраснодушия. Правда, он пишет скоро, а потому многословно, часто повторяется, любит книжные, иностранные словца – принципы, аргументы и тому подобные мерзости; но это от молодости: он еще выпишется, и даже очень скоро, ибо соглашается вполне насчет своих недостатков.[1130 - Милютин Владимир Алексеевич (1826–1855), экономист и литератор, близкий некоторым из петрашевцев, впоследствии профессор русского государственного права в Петербургском университете. См. о нем кн. С. А. Макашина «Салтыков-Щедрин. Биография. I». М., 1951 (стр. по указателю).Статья Милютина «Мальтус и его противники» была напечатана в «Современнике» 1847, №№ 8 и 9 (отд. II, стр. 129–188 и 41–98). В этой статье полемика с взглядами Фурье, Лору, Кабэ и других утопических социалистов сочеталась с популяризацией идеи Прудона.] Он начал у Кр<аевского>, перешел к нам, и есть надежда, что вовсе от него откажется. Я подал Некрасову мысль, так как на будущий год мы значительно раздвинем пределы библиографии, поручить ему в полную редакцию разбор книг по его части. Есть еще в Питере некто г. Веселовский.[1131 - Веселовский Константин Степанович (1819–1905), известный статистик, впоследствии академик; в то время – чиновник Министерства государственных имуществ, сотрудник «Отеч. записок».] Он относится к Заблоцкому, как я относился к Кр<аевско>му, с тою только разницею, что Заблоцкий-то к нему относится не как чугунная голова, пешка, способная загребать жар только чужими руками. Я и теперь помню некоторые рецензии Веселовского в «Отечественных записках» на книги по части сельского хозяйства. Это человек с знанием дела, с убеждением и талантом. Я вчера с ним познакомился и предложил Некрасову – предложить ему редакцию библиографии по части литературы сельского хозяйства. Не знаю, чем кончились их переговоры; но из всего видел ясно, что В<еселовский> Кр<аевско>го презирает, а с нами симпатизирует. Если б это удалось – куда бы хорошо! Сельское хозяйство – статья теперь важная. Если всё это устроится да мое здоровье позволит мне поналечь на дело, было бы хорошо. В первой книжке будет моя большая статья – обзор русской литературы 1847 г. Мне хочется разобрать «Кто виноват?» и «Обыкновенную историю». Эти две вещи дают возможность говорить обо многом таком, что интересно и полезно для русской публики, потому что близко к ней. Во 2 № – о Лермонтове, благо кстати вышло новое его издание. Затем о Ломоносове, Державине и других изданных теперь Смирдиным писателях русских; а там, с сентябрьской книжки, – о Гоголе.[1132 - Перечисленные замыслы Белинскому не удалось выполнить. По состоянию здоровья он смог написать только обзор – «Взгляд на русскую литературу 1847 года» с разбором повестей «Кто виноват?», «Обыкновенная история», «Записки охотника», «Хозяйка» Достоевского и др. («Современник» 1848, №№ 1 и 4; ИАН, т. X, № 28).] Таким образом «Современник» сделается по преимуществу критическим журналом, и лишь бы только здоровье мое позволило, а уж в этом отношении я доставлю «Современнику» огромный перевес над «Отечественными записками». Тут важна мне будет помощь Дудышюша. Кроме того, чтобы критика не была одностороння, можно будет помещать статьи критические по части политической экономии, сельского хозяйства, в чем надеюсь на Милютина и Веселовского. Благодаря Кавелину, критика и библиография по части русской истории уже и была более, чем удовлетворительна; почему же не быть ей вперед такою? Если бы Грановский и Корш хоть статьи по три давали в год, и по части истории «Современник» мог бы щеголять и блистать.
Да, средств у нас пропасть; а дело наше в настоящее время никуда не годится. Ты видишь, что и в Петербурге есть дельные молодые люди; они все не любят Краевского и любят нас. Стало быть, мы нашли там, где не искали и где не думали найти; но зато потеряли там, где не сомневались найти. Московские наши приятели поступают с нами, как враги, и губят нас. Начну с тебя. Ожидая твоего возвращения из-за границы, я был уверен, что ты будешь работать или в одном журнале со мною, или нигде. Что делать? Я привык к этой мысли. Да и другие привыкли видеть нас с тобою всегда вместе. Это известно, особенно в Москве, многим людям, которых мы с тобою даже не знаем. Новости литературные у нас то же самое, что за границею новости политические. Все знают, что я работал в «Телескопе» – и ты тоже; я в «Наблюдателе» – и ты тоже; я в «Отечественных записках» – и ты тоже. Что же подумают эти люди, видя, что теперь ты и в «Современнике» и в «Отечественных записках», и еще в последних больше? Не вправе ли они[327 - Далее зачеркнуто: подумать, что] приписать это тому, что если мы с тобою и не перегрызлись, как собаки, то между нами пробежала черная кошка? Я уже говорил, что фундамент, основание и условие (conditio sine qua non[328 - непременное условие (латин.). – Ред.]) успеха «Современника» есть переход в него главных и важнейших сотрудников и участников «Отечественных записок». Где же теперь этот переход? Его нет. Стало быть, программа «Современника» – пуф, а сам «Современник» – диверсия карманная, нечто вроде угрозы Кр<аевскому>. Почему не подумать публике, что и я, Белинский,[329 - Далее зачеркнуто: я жду] тоже не думал оставлять вовсе «Отечественные записки», а только решился писать, для больших выгод, в двух журналах, т. е. работать и нашим и вашим? И Кр<аевский> в своих программах сильно напирает на то, что его сотрудники и не думали оставлять «Отечественные записки».[1133 - В объявлении «Об издании «Отечественных записок» в 1848-м году» Краевский писал, что «лестное доверие», оказанное публикою «Отечественным запискам», «преимущественно выразилось в нынешнем году, которому, как, вероятно, помнят читатели, предшествовали толки, что «Отечественные записки» погибли, что они оставлены всеми своими сотрудниками, перешедшими будто бы в другие журналы…» (стр. 1). «Состав редакции и главные ее сотрудники остаются те же, программа журнала та же», – утверждал он далее (стр. 4).] Почем знать, что на словах он многих не уверяет, что такие-то и такие-то статьи в «Отечественных записках» – мои? Ведь моего особенного участия в «Современнике» не заметно. Почему не думать многим, что в «Отечественных записках» может явиться повесть или статья Герцена? Почему, наконец, мало-помалу не образоваться в публике убеждению, что «Современник» есть не что иное, как следствие личной ссоры Панаева с Кр<аевски>м или попытка на наживу по примеру Кр<аевско>го и что многие из сотрудников и участников «Отечественных записок»[330 - Далее зачеркнуто: долго не] согласились участвовать в «Современнике» не по особенной к нему симпатии, а потому, что для них «Современник» так же ничем не хуже «Отечественных записок», как и «Отечественные записки» ничем не хуже «Современника»? Какое влияние подобное мнение произведет на подписку будущего года – увидим… И как ожидать в этом отношении успеха, когда самое счастие наше обратилось нам в несчастие?[331 - Далее зачеркнуто: Вот хоть] Например, твои «Письма об Испании» были для нас находкою. Я не скажу, чтобы они произвели в публике фурор; но я скажу утвердительно, что их все хвалят, все довольны ими и нет ни одного против них голоса. Даже Куторга, этот человек, который ничего не хвалит, не раз хвалил твои письма Панаеву. Это успех. Ты теперь составил себе в литературе имя и приобрел в отношении к Испании авторитет. Тут ничего нет удивительного. Когда еще я только полечил твои письма для моего альманаха, я предвидел этот успех, что было вовсе немудрено. В последние десять лет беспрестанно писано было в газетах об Испании, но любопытство публики только было раздражено, а нисколько не удовлетворено, и чем более читала она известий об Испании, тем более Испания оставалась для нее terra incognita[332 - неизведанной областью (латин.). – Ред.]. Теперь понятно, что, если бы кто-нибудь, не зная ни одного слова по-испански, не выезжая никогда из России, по хорошим французским, немецким или английским источникам составил большую статью о нравах современной Испании, – эта статья не могла бы не обратить на себя общего внимания. А тут пишет человек, видевший Испанию собственными глазами, знающий ее язык, и пишет с умом, знанием и талантом, с умением писать для публики, а не для записных читателей и писателей. И потому, говорю тебе, в отношении к Испании ты сделался авторитетом, так что о чем бы ты ни писал другом и как бы хорошо ни писал, всякая твоя статья, касающаяся Испании, будет иметь, в глазах публики, в 1000 раз больше интереса, чем статья о другом предмете. И вот ты теперь испанским перцем поддаешь жизни и бодрости «Отечественным запискам» да еще обещал им статью – «Взгляд на Испанию, за три последние века»!!![1134 - О «Письмах об Испании» Боткина см. письма 285, 287, 289, 291. О С. С. Куторге см. письмо 291 и примеч. 3 к нему.Испанским перцем Белинский назвал анонимную статью Боткина «Антонио Перес и Филипп II. Соч. Минье» («Отеч. записки» 1846, №№ 10 и 11, отд. II, стр. 41–66 и 1–33).] Ты, может быть, в этом случае и совершенно прав перед самим собою и нисколько не виноват передо мною и «Современником», но мне-то от этого не легче, а напротив, тяжело, очень тяжело, горько, прискорбно. Моя жизнь сплетена с твоею моими глупыми, но всё-таки лучшими годами, у меня так много общих с тобою воспоминаний, мы сошлись не на чем-нибудь, но нас связало одно общее, благородное, человеческое стремление. Не думал я, чтобы, приближаясь к сорокалетнему возрасту, мы пойдем врозь и что нас разделит – кто же? – каналья, ничтожный, презренный Кр<аевск>ий!.. Больно мне также, что ты напрасно колеблешься между своим рассудком, который наклоняет тебя на сторону мою и «Современника», и между непосредственным стремлением к «Отечественным запискам». Вижу я, что «Современнику» нечего от тебя ожидать, что если ты, несмотря на данное слово, ничего не мог сделать для него, так это не по лени, а потому, что к чему не лежит сердце, то как ни бейся, а для того ничего не сделаешь. Но опять-таки повторяю тебе: мне больно и тяжело, душа моя прискорбна до смерти, но я на тебя за это не кошусь, не дуюсь, ибо коситься и дуться значит молча сердиться, таить в сердце неудовольствие, а я высказал тебе всё откровенно, прямо. Я всегда и весь наруже – такова моя натура. И еще раз; несмотря на всё, я слишком уважаю свободу человека, в настоящем значении этого слова, чтобы считать тебя виноватым передо мною, а себя вправе сердиться на тебя. Ты прав передо мною, но мне тяжело и грустно; мне тяжело и грустно от тебя и по причине тебя, но я не сержусь, не кошусь, не дуюсь на тебя. Пойми это, умоляю тебя.
Обращаюсь теперь к другим, ибо желаю, чтобы это письмо было прочтено соборне, всем[333 - Далее зачеркнуто: нашим] тем, до кого оно касается, и Николаю Петровичу[1135 - Н. П. Боткин. См. примеч. 6 к письму 179.] тож (последнее для меня очень важно, потому именно, что Н<иколай> П<етрович> не сотрудник «Современника», а человек этому делу посторонний).[334 - Первоначально: чуждый] Я сказал, что подлецам счастие, и докажу это. Мерзавцы во всем успевают, а честные люди осуждены на горе жизни. Когда Герц<ен> не решался отдать мне «Кто виноват?» для альманаха, по ложной деликатности, я писал к нему: подлецы потому и успевают в своих делах, что поступают с честными людьми, как с подлецами, а честные люди поступают с подлецами, как с честными людьми.[1136 - См. письмо 255.] Эта простая и верная мысль привела Г<ерце>на в восторг, а повести-то он мне всё-таки не дал, т. е. всё-таки решился с подлецом Кр<аевски>м поступить, как с честным человеком, – вероятно, для подтверждения фактом теории доктора Крупова[1137 - Герой повести Герцена. См. о ней письмо 253 и примеч. 12 к нему] о повальном сумасшествии людей. Слушай же далее. Когда еще Кр<аевский> далеко не обозначился вполне и на «Отечественные записки» мои московские друзья смотрели более как на мой, нежели как на Кр<аевско>го журнал, – Грановский не дал в них ни строки, отговариваясь недосугом со стороны его профессорских обязанностей. Ну, коли недосуг мешает доброй воле – жаль, а делать нечего! Но что же? Вдруг в «Москвитянине» является большая статья недосужного Тимофея Николаевича![1138 - См. письмо 215 и примеч. 24 к нему.] Почему же она явилась в журнале презираемого им человека, в журнале противного и ненавистного ему направления? Потому только, что Погодин, встретив его, обругал его за леность и пристал к нему – дай статью. Вот она[335 - Далее зачеркнуто: рабская-то] подобострастная-то, запуганная славянская природа! Презирайте после этого русского мужика, который часто несговорчив и груб с тем, кто обращается с ним человечески, и внутренно благоговеет перед тем, любит даже того, кто начинает с ним объяснения с <…> и с треуха по салазкам! Дураки славянофилы, думающие, что европеизм нас выродил и что между русским мужиком и русским профессором легла бездна! Но далее. Судьбе угодно было, чтоб Грановский, наконец, не миновал же «Отечественных записок». Но когда это случилось, когда Кр<аевский> обнаружился вполне, а я отошел от «Отечественных записок». Но тут еще был смысл. Хомяков обругал статью Кавелина, напечатанную в «Отечественных записках» – и ответу прилично было явиться в «Отечественных же записках». И потому, как ни больно нам было видеть имя Гр<ановского> в «Отечественных записках», но ничего: в чем есть смысл, то легче вынести.[1139 - Имеется в виду «Письмо из Москвы» – возражение на статью А. С. Хомякова «О возможностях русской художественной школы», напечатанную в «Московском сборнике» 1847 г. В ней Хомяков обрушился на отзыв Кавелина о «Сборнике исторических и статистических сведений» Валуева («Отеч. записки» 1846, № 6). Грановский указал на ряд фактических ошибок Хомякова в русской истории («Отеч. записки» 1847, № 4, отд. VIII, стр. 200–203).] Но я спрашиваю тебя, Гр<ановского> и всех вас: по какой достаточной причине биография Помбаля, писанная Грановским,[1140 - В объявлении Краевского была обещана статья Грановского «Маркиз Помбаль» (стр. 8).Помбаль, маркиз, Себастиан, гр. де Оэйрас (1699–1782) – португальский политический деятель, фактически управлявший государством при короле Иосифе I, идеолог просвещенного абсолютизма.] явится в «Отечественных записках», а не в «Современнике»? Я знаю, что такое Помбаль; составь об этом предмете статью какой-нибудь Головачев[1141 - Головачев Григорий Филиппович (1818–1880), сотрудник «Отеч. записок», автор компилятивных статей по всеобщей истории. В «Отеч. записках» 1847, №№ 5 и 7 была помещена его статья «Северо-Американские Соединенные штаты» (отд. II, стр. 1–50 и 1–144).] – и тогда она могла бы быть страшно интересною; а у Гр<ановско>го – что и говорить. Что же это значит? Тайное ли, ничем не победимое нерасположение к «Современнику», или – да скажите же, наконец, ради всего святого для вас – что же это такое? У меня голова кружится, я болен от этого вопроса. Объявляет Кр<аевский> о нескольких критических статьях по части русской истории Кавелина и о «Несторе» в двух статьях какого-то К. К – на. Ужас!
Вы, пожалуй, скажете, что я слишком горячо принимаю дело, что не большая-де важность дать что-нибудь и в «Отечественные записки». Нет – большая! Теперь время подписки. Первый год не окупился, и если не прибавится целой тысячи подписчиков новых (предполагая, что 2000 старых останутся), беда еще будет не в том только, что Панаев ничего не получит и на другой год, а Некрасов еще год будет существовать в долг, в надежде будущих благ, но и в том еще, что надо будет съежиться, ибо на прежнем широком основании издавать уже не будет никакой возможности. Надо будет думать не о будущем успехе, а об уравнении расходов с приходом, для этого надо будет убавить число листов и установить новую плату сотрудникам (за исключением немногих), например хоть сравнять ее с платою «Отечественных записок». А это убьет всякую возможность подняться в 1849 году, ибо основательно принято будет за упадок журнала. Но как же надеяться теперь хорошей подписки, когда наши московские друзья, надававши К<раевско>му столько статей, ясно показали этим публике, что все объявления и толки о переходе сотрудников и участников «Отечественных записок» в другой журнал – пуф?.. «Отечественные записки» пользуются перед «Современником» страшным преимуществом – девятилетнею, да еще почетною, давностию; к ним привыкли, их все знают; а известное дело, что у нас журналу легче подняться, чем, поднявшись, упасть. Вот «Библиотека для чтения» – уже мерзость мерзостью, а можно смело пари держать, что и на будущий год у ней будут ее 3000 подписчиков. Но «Отечественные записки», благодаря судьбе, покровительствующей подлецов, и нашим московским друзьям, действующим заодно с судьбою, еще не упали. Они страшно плохи в отношении к повестям; но и это случай, т. е. мой предполагавшийся альманах, так кстати обогативший «Современник» повестями. Направление «Отечественных записок» одно с «Современником». За что же публика променяет старый журнал на новый, который, сверх того, похож на пуф? Не всякий в состоянии подписываться на два журнала, и, конечно, большая часть останется в этом выборе на стороне старого. Нас обвиняли за шарлатанские объявления. Мы сами знаем цену этим объявлениям; но без них нечего было и за дело браться.[1142 - В объявлении «Об издании «Современника» в 1848 году» была обещана библиография всех выходящих в России книг, анонсированы: роман Некрасова «Жизнь и похождения Тихона Тросникова», повесть Достоевского, два новых романа Герцена (Искандера) и Гончарова и издание «Иллюстрированного альманаха».] По прошлогодней подписке видно, что есть целые уезды и полосы, куда не попал ни один экземпляр «Современника» и где, стало быть, не знают о его существовании. Так надо дать знать, надо прокричать. Но пусть только «Современник» станет твердою ногою, пусть на будущий год у него будет 3000 подписчиков, и я ручаюсь честным моим словом, что объявление о продолжении «Современника» на 1849 год будет состоять в нескольких строках такого содержания, что будет-де продолжаться в прежнем духе и что редакция употребит всё от нее зависящее, чтобы еще более улучшить свое издание. Не будет никаких обещаний вперед, перечней обещанных или предполагаемых статей. А теперь без этого невозможно. Вот Кр<аевский> делает это не по нужде, а потому что у него натура лавочника. Журнал его давно обеспечен, а он каждый год пишет огромные объявления гостинодворским слогом, где вечно рассказывает одну и ту же историю о тщетных усилиях врагов «Отечественных записок» поколебать их успех. Но что касается до его последнего объявления о статьях, – это с его стороны умно, потому что необходимо. Он имеет причины бояться «Современника», и ему надо показать на деле, что его прежние сотрудники и теперь его же сотрудники. Видите ли вы, какую ужасную силу даете вы ему и какой, следовательно, ужасной силы лишаете «Современника»? Ведь это просто битье по карману! Как тут надеяться на подписку?
Ты еще имел какие-нибудь причины вязаться с Кр<аевским> и снабжать его своими трудами: ты давно помещал свои статьи в «Отечественных записках», давно лично знаком с Краевским, в последнее время он тебе даже оказал услугу. О Редькине я не говорю; он ко мне не так близок, хотя всё бы (скажу мимоходом) и ему следовало бы сперва исполнить свое обещание дать нам что-нибудь, а потом уже обещать и другим. Нечего и говорить о Соловьеве. Это человек совершенно чуждый нам, да не близкий и вам. Он ее хочет принадлежать никакому журналу исключительно. Он наклонен к славянофильству, но его отношения к Погодину не позволяют ему печатать своих статей в «Москвитянине».[1143 - С. М. Соловьев впоследствии вспоминал: «С самого начала моей литературной деятельности два первые журнала-соперника, «Современник» и «Отечественные записки», просили моего сотрудничества, и я стал участвовать в них обоих» («Записки С. М. Соловьева». Пг., б. г., стр. 135–136). Об отношении Погодина к своему талантливому ученику см. там же.] Поэтому для него «Отечественные записки» и «Современник» – всё равно, и мы очень будем ему благодарны, если, печатая в «Отечественных записках», он будет и нам давать статьи. Но наши друзья-враги совсем другое дело. Мы не того ожидали от них, да и не то обещали они нам. Давай они статьи свои в «Библиотеку для чтения», нам было бы это крайне прискорбно, но всё далеко не так, как видеть их в «Отечественных записках»; еще сноснее было б нам видеть их статьи в каком-нибудь «Москвитянине» (хотя и тоже вовсе не весело), потому что между «Москвитянином» и «Современником» нет никакого соперничества. Сколько я помню, наши московские друзья-враги дали нам свои имена и труды, сколько по желанию работать соединенно в одном журнале, чуждом всяких посторонних влияний, столько и по желанию дать средства к существованию некоему Белинскому. Цель их, кажется, достигнута. «Современник» имеет свои недостатки, действительно, очень важные, но поправимые и происшедшие от положения моего здоровья. Едва ли можно обвинить его даже в неумышленно дурном направлении, не только в умышленном. И другая цель тоже достигнута: я был спасен «Современником». Мой альманах, имей он даже большой успех, помог бы мне только временно. Без журнала я не мог существовать. Я почти ничего не сделал нынешний год для «Современника», а мои 8 тысяч давно уже забрал. Поездка за границу, совершенно лишившая «Современник» моего участия на несколько месяцев, не лишила меня платы. На будущий год я получаю 12 000. Кажется, есть разница в моем положении, когда я работал в «Отечественных записках». Но эта разница не оканчивается одними деньгами: я получаю много больше, а делаю много меньше. Я могу делать, что хочу. Вследствие моего условия с Некрасовым мой труд больше качественный, нежели количественный; мое участие больше нравственное, нежели деятельное. Я уже говорил тебе, что Дудышкину отданы для разбора сочинения Кантемира, Хемницера, Муравьева. А ведь эти книги – прямо мое дело. Но я могу не делать и того, что прямо относится к роду моей деятельности; стало быть, нечего и говорить о том, что выходит из пределов моей деятельности. Не Некрасов говорит мне, что я должен делать, а я уведомляю Некрасова, что я хочу или считаю нужным делать. Подобные условия[336 - Первоначально: отношения] были бы дороги каждому, а тем более мне, человеку больному, не выходящему из опасного положения, утомленному, измученному, усталому повторять вечно одно и то же. А у Кр<аевского> я писал даже об азбуках, песенниках, гадательных книжках, поздравительных стихах швейцаров клубов (право!), о книгах о клопах, наконец, о немецких книгах, в которых я не умел перевести даже заглавия; писал об архитектуре, о которой я столько же знаю, сколько об искусстве плести кружева. Он меня сделал не только чернорабочим, водовозною лошадью, но и шарлатаном, который судит о том, в чем не смыслит ни малейшего толку. Итак, то ли мое новое положение, доставленное мне «Современником»? «Современник» – вся моя надежда; без него я погиб в буквальном, а не в переносном значении этого слова. А между тем, мои московские друзья действуют так, как будто решились погубить меня, но не вдруг, и не прямо, а помаленьку и косвенным путем, под видом сострадания к Кр<аевско>му. Сатин пишет к нам, что московские друзья наши питают к «Современнику» больше симпатии, чем к «Отечественным запискам», и что нам они желают всевозможных успехов, но жалеют также и Кр<аевско>го.[1144 - Это письмо Н. М. Сатина неизвестно.] О милый, добрый, наивный Сатин, о драгоценный субъект для психиатрических наблюдений доктора Крупова над человеческим родом! Ко мне питают больше симпатии, чем к Кр<аевско>му! Quel honneur! Quel bonheur![337 - Какая честь! Какое счастье! (Франц.) – Ред.][1145 - Цитата из песни Беранже «Le s?nateur» («Червяк»).] Услышав об этом, я вырос в собственных глазах и подбежал к зеркалу, чтобы увидеть лик человека, который лучше даже Кр<аевского>. Целый день ходил я индейским петухом, так что жена спросила меня, не получил ли я наследства от богатого дяди, индийского набоба. Нам желают всевозможных успехов, но жалеют и Кр<аевского>! О добрые, чувствительные, сострадательные души! Как глубоко вникли они в мысль писания: блажен кто и скоты милует! Ай да Галахов – молодец! То-то, я думаю, доволен, то-то смеется! И «Отечественным запискам» помог, следовательно, и самому себе, и умных людей заставил поступить по-своему. И как было не надавать Кр<аевско>му статей? Галахов кланялся, ползал, плакал, умолял, хлопоча о своем отце и командире, благодетеле и покровителе, кормильце и милостивце! Форма пошла и гадка, но сущность поступка Галахова разумна.[1146 - А. Д. Галахов играл двусмысленную роль, пытаясь помочь Белинскому, но в то же время соблюсти и интересы Краевского, привлекая сотрудников для «Отеч. записок». См. об этом также письмо 254 и примеч. 6 к нему.] Ему в «Современнике» не может быть ни на столько работы, как в «Отечественных записках», ни такой, как в них, роли. Там он теперь первый и главный; у нас всегда был бы одним из нескольких. Но вы-то, господа процессоры, из чего разжалобились? Девять лет издает Кр<аевский> «Отечественные записки».[1147 - Краевский купил в 1839 г. право на издание «Отеч. записок» у вдовы литератора П. П. Свиньина, основавшего журнал в 1818 г.] Начались они плохо, без всякого направления; я спас их, дав им направление, нелепое и дикое, но направление. С третьего (1841) года начали они поправляться денежно; на 4-й (1842) Краевский был в барышах. Пятый (1843) год был последний, в который он вдове Свиньина заплатил 5000 рублей. Теперь, неужели в пять последних лет он ежегодно получал меньше 30 тысяч серебром? Положим, в <18>43 меньше, зато в <18>46 и <18>47 больше. Значит, у него по крайней мере полтораста тысяч серебром лежит теперь в ломбарде, т. е. больше полумиллиона ассигнациями! Как не пожалеть его, бедняжку! Что вы не сложитесь для него на подписку? Из доходов «Отечественных записок» он не потратил ни копейки. Он всегда жил, как жид, и жил на деньги «Литературной газеты» (которая никогда не давала ему меньше 2 тысяч сер., а в 1845 г. дала 12 тысяч асс), на жалованье за «Инвалид» (4500 асс.),[1148 - Краевский руководил «Литер. приб. к Русск. инвалиду» с 1836 г.] на жалованье по корпусу, где он учит. У него всегда бывало больше 3000 сер. посторонних доходов. Нет, господа, если бы Кр<аевский> и не был подлецом и мерзавцем, и тогда бы, видя его в полумиллионе, вам нечего было бы колебаться между ним, посторонним вам, хотя и хорошим человеком, и мною, которого вы зовете своим, вашим, в благороднейшем значении этого слова, да к тому еще и нищим. Не верю я этой всеобщей любви, равно на всех простирающейся и не отличающей своих от чужих, близких от дальних: это любовь философская, немецкая, романтическая. Может быть, она и хороша, да чорт с ней, непотребною <…>, подымающею хвост равно для всех и каждого! Но ведь вы, к довершению эксцентричности вашего средневековского поступка, еще знали, что Кр<аевский> подлец, Ванька Каин, человек без души, без сердца, вампир, готовый высосать кровь из бедного работника, вогнать его в чахотку и хладнокровно рассчитывать на работу его последних дней, потом, при расчете, обсчитать и гроша медного не накинуть ему на сосновый гроб. Ведь он у тебя, В<асилий> П<етрович>, украл тридцать копеек медью, а не больше, потому, что больше не мог, а не потому, чтоб не хотел. Странное дело! Года два или три назад Кр<аевский> ездил в Москву; тогда еще он только начинал обозначаться, – и его приняли холодно, презрительно и покойник Крюков, и здравствующий доныне Искандер (да продлит аллах дни его в бесконечность, как человека, который уже Кр<аевско>му не дает ни полстроки!), и все вы. А прошлое лето[338 - Первоначально: А теперь] Кр<аевский> приехал в Москву уже с клеймом на лбу за воровство, – и его приняли хорошо; он украл 30 к. меди, и к нему пошли жрать, не будучи даже уверены, что это он дает обед, и положившись только на уверения Боткина, почему-то великодушно отважившегося распинаться за такого благородного субъекта, даже с риском оказаться его козлом грехоносцем.[1149 - См. письмо 318.] Мало того: эта ракалия, этот стервец презренный осмелился предложить тебе, о Василий Петрович, в виде условия его драгоценного у тебя пребывания, чтоб ему не встречаться с Кетчером. Тебе бы следовало заметить ему, что это очень легко, что ему стоит только взять шляпу и уйти, когда войдет Кетчер; но ты, кажется, ничего ему на это не сказал, и вор имел полное право думать, что он предпочтен честному и благородному человеку, нашему общему и старому другу. Кстати уж расскажу[339 - Далее вачеркнуто: еще о нем] новый анекдот о вашем новом друге, чтобы еще более усилить ваше к нему сострадание. Нанял он себе на Невском проспекте великолепный отель, за 4000 асс. Увидев, что у него[340 - Далее зачеркнуто: есть] одна комната лишняя, он решился извлечь из нее всевозможную выгоду и пустил в нее двух своих prot?g?s,[341 - протеже (франц.). – Ред.] взяв с каждого по 100 р. сер. Один из них – Бутков. Кр<аевский> оказал ему важную услугу: на деньги Общества посетителей бедных он выкупил его от мещанского общества и тем избавил от рекрутства. Таким образом, помогши ему чужими деньгами, он решился заставить его расплатиться с собою с лихвою, завалил его работою, – и бедняк уже не раз приходил к Некр<асову> жаловаться на желтого паука, высасывающего из него кровь. Кстати:[342 - Далее зачеркнуто: вскоре] Бутков дал нам повесть, кажется, порядочную (две его повести в «Отечественных записках» нынешнего года куда плохи!); впрочем, если только сносна, – и тогда я рад смертельно. Повестей у нас мало, и те нужны на будущий год, так в последнюю книжку куда ни шло, а главное – Кр<аевскому> одолжение.[1150 - Бутков Яков Петрович (1820? – 1856), писатель из мещан Саратовской губ. В самом крупном его сборнике повестей «Петербургские вершины» (1845–1846) Белинский отметил сатирический талант (см. ИАН, т. IX, стр. 390; ср. т. X, стр. 39).Повесть Буткова, о которой упоминает Белинский, так и не появилась в «Современнике», так как не была окончена (см. письмо 321). В 1848 г. Бутков продолжал по прежнему сотрудничать в «Отеч. записках».Две повести Буткова, напечатанные в «Отеч. записках» 1847 г., – «Горюн» (№ 4, отд. I, стр. 147–180) и «Кредиторы, любовь и заглавия» (№ 9, отд. I, стр. 209–256).] Второй его prot?g?, некто г. Крешев,[1151 - Крешев Иван Петрович (1824–1859), поэт, журналист и переводчик, сотрудник «Отеч. записок» и «Библиотеки для чтения».] он его употребляет и для «Отечественных записок» и для посылок. Раз Кр<аевский> говорит человеку: позвать ко мне Крешева. Крешев является. Сходите туда и туда, да не торопитесь, время терпит, лишь бы только сегодня. Выполнив все поручения, т. е. побывав на разных концах Петербурга, Крешев является к своему патрону, отдает отчет в поручениях и просит целкового, чтоб заплатить извозчику. – Как целковый, на что целковый? – воскликнул в ужасе побледневший Плюшкин, – Да ведь я ездил для Вас же туда и сюда. – Да ведь я же Вам сказал, чтоб Вы не торопились, что время терпит, стало быть, Вы могли б и пешком сходить. – Честные люди всегда имеют дурную привычку со стыдом опускать глаза перед наглою и нахальною подлостию. Крешев струсил, как Грановский перед Погодиным, когда тот, ругая его, просил у него статью, и стал просить целкового в счет следующей ему платы. – А, это другое дело, – сказал смягченный вампир, – на свой счет возьмите, только что Вам за охота мотать деньги!
Хорош! Когда он уехал от тебя, говорят, ты сказал, что, посмотрев его вблизи, тебе стало гадко. Гадко-то тебе стало, а испанского-то перцу ты всё-таки подсыпал в «Отечественные записки», чтоб поперхнуться тебе этим перцем!
Вот еще обстоятельство, о котором меня просили не говорить никому из вас; но как я пишу от себя и у меня от избытка сердца уста глаголят, так уж кстати всё, чтоб потом об этой дряни нечего было больше говорить. Я уже говорил, что если б «Современник» знал заранее, что его московские друзья будут действовать в минуту жизни трудную для него, как его враги, он должен был бы идти поскромнее, основываясь на действительных своих средствах, т. е. на 2000 подписчиков, а не на обещаниях, увы! не всегда надежных даже и со стороны самых, повидимому, надежных людей. Руководствуясь таким правилом, он бы и вовсе не напечатал иного из того, что им напечатано, а за иное не дал бы той цены, которую дал. Для журнала статьи ученого содержания тогда только важны и дороги, когда они по общности интереса и по изложению имеют всю заманчивость и легкость беллетристической статьи. Такова, например, статья Заблоцкого о колебании цен на хлеб: ее прочли многие и из тех, которые, кроме повестей, стихов да рецензий, ничего не читают и о сельском хозяйстве и торговле понятия не имеют. Такова же статья Кавелина о юридическом быте древней России.[1152 - См. письмо 253 и примеч. 13 к нему.] И вот почему статьи Кав<ели>на для нас в 1000 раз важнее и дороже статей Соловьева, и были бы такими даже и тогда, когда бы нам доказали, как 2 ? 2 = 4, что для науки статьи последнего в 1000 раз важнее статей первого. Я никогда не забуду, как Герцен в Париже, прочтя об отношениях князей Рюрикова дома, сказал мне: очень хорошо, только страшно скучно и читать – мука.[1153 - Речь идет о книге С. М. Соловьева «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома». М., 1847.] А ведь Герцен – не публика! Но кафедра – иное дело; и там ценится высоко живое и красноречивое изложение; но, как бы сухо и мертво и неуклюже ни читал профессор, если в его лекции есть крупицы фактов и воззрений чистого золота, молодые служители науки будут от него даже в восторге. Журнал – другое дело. Он занимается и наукою, но не для науки, его цель – не просвещение, а образование; его задача: поставить не занимающегося наукою человека в возможность обратить для себя вопросы науки в вопросы жизни. Вот, например, статья о государственном хозяйстве при Петре Великом – очень дельная статья, но для журнала она не большая находка.[1154 - «Государственное хозяйство при Петре Великом» – статья ученика Кавелина, впоследствии известного этнографа, А. Н. Афанасьева, была напечатана в «Современнике» 1847, №№ 6 и 7 (отд. II, стр. 76–134 и 1–79).] Составление ее стоило автору невероятных трудов; но не иди она в «Современник» от Кавелина, за нее «Современник» не дал бы того, что он за нее дал; а не взяли бы меньше, «Современник» мог бы и без нее обойтись. Но почему же он дал за нее по 150 асс. с своего листа, т. е. 200 р. асс. с листа «Отечественных записок», и еще дал охотно, как говорится, с удовольствием? Разумеется, столько же по желанию сделать приятное сотруднику, которым он дорожит, сколько и по расчету, что излишний расход в частном случае с избытком вознаграждается выгодою в общем исключительном участии в «Современнике» москвичей. Но во всяком случае статья эта не бог знает какая находка для журнала, но напечатания стоила; и если я сказал, что не стоила заплаченной за нее цены, так это потому, что цена определяется обыкновенно не объемом труда, которого вещь стоила, а большею или меньшею степенью нужды в ней покупающего. Но вот статьи г. Фролова, особенно о Гумбольдте, – другое дело. Редакция «Современника» содрогнулась этой статьи, а напечатала ее потому только, что г. Фролов явился в редакцию с толками о Грановском, одном из исключительных сотрудников «Современника», как о своем друге. Фролов бесспорно человек хороший, но литератор он плохой. Он холоден, сух, пишет сонно, нескладно и варварским языком. Будь его статья для одного № – еще куда ни шло; а то ведь, кажется, №№ на десять пойдет пугать читателей и подписчиков «Современника».[1155 - В № 9 «Современника» 1847 г. была помещена статья Н. Г. Фролова «Исправительные тюрьмы в Швейцарии» (отд. II, стр. 1–40), а в №№ 10 и 12 – «Александр Гумбольдт и его Космос» (отд. II, стр. 99–147 и 113–148).] Ужас! Да еще наделал шуму из того, что статью его напечатали сжато, и насилу убедили его в необходимости поправлять слог его статей. А дали ему по 150 с нашего листа, т. е. почти по 200 с листа «Отечественных записок», тогда как, повторяю, было бы во всех отношениях выгоднее ничего не дать, т. е. вовсе не печатать статьи. Так же точно, основываясь на выгодах исключительного участия москвичей в «Современнике», и в Питере многим платили по 150 р. с нашего листа, вместо того, чтоб платить по листу «Отечественных записок». Такая роскошь имела смысл и оправдание только в надеждах, которые подавало редакции «Современника» исключительное сотрудничество моих московских друзей. Без него и за журнал никто бы не взялся, а, взявшись, повели бы дело на основании собственных средств. Тягаться с «Отечественными записками» «Современнику» трудно. Кр<аевский>, как подлец, в сорочке родился. Сколько подарили ему статей Боткин и Герцен! Даже моих две даром напечатано было в отделе наук! Несколько лет сряду какая-то барыня переводила ему оптом всё, что ни назначал он ей, за 600 асс. в год. Правда, ему много труда было выправлять эти переводы, но зато тысяч 10 оставалось у него в кармане. Даровых статей у него всегда много и есть теперь, а за переводы он и теперь платит пакостью. А сколько усчитает, отжилит, сколько возьмет нажимом, наглостью, бесстыдством! Лист его больше, а обходится он ему меньше нашего: его бумага серая, дешевая, а за работу с него он платит меньше, потому уже, что он больше нашего. Расходы наши всячески больше. И вот теперь листок его с обещаниями режет нас без ножа. Обещания хотя и шарлатанские, но тем не менее они возьмут свое. Он обещает повести, явно не написанные (Кудрявцева и Гончарова), статью Милютина и Веселовского, он сам сочинил заглавие, они ему обещали, сами еще не зная, что, только чтоб отвязаться от него. Он обещал статью Перевощикова, обещанную нам, о чем Панаев писал к Перевощикову и получил ответ, что статья наша и что ее Кр<аевско>му не обещал.[1156 - Статья Д. М. Перевощикова «Отрывки из физической географии» действительно была представлена им редакции «Современника» и появилась в №№ 1 и 5 журнала за 1848 г. (отд. II, стр. 41–58 и 1–18).] Всё это пуф, но он грозит нашей подписке. А тут, как нарочно, друзья наши придали пуфу действительность истины, на нашу гибель. А не будь у него этой едва ли ожиданной им помощи, гибнуть-то пришлось бы ему. Его беда – повести; не то, что у него нет хороших повестей, а то, что он печатает мерзости, вроде: «Минут из жизни деревенской дамы» (Жуковой), «Веры» (пошлейшая повесть в 3 №), «Противоречий» (идиотская глупость), «Хозяйки» Достоевского (нервическая <…> да еще без конца.[1157 - «Эпизод из жизни деревенской дамы» – повесть М. С. Жуковой («Отеч. записки» 1847, № 5, отд. I, стр. 1–116); «Вера» – роман в трех частях И. К. О. (№№ 6–8, стр. 197–274, 1–68, 190–256); «Противоречия» – повесть М. Непанова (М. Е. Салтыкова-Щедрина) (№ 11, стр. 1–106).Белинский ошибся, говоря об отсутствии конца в повести Достоевского «Хозяйка» (№ 10, стр. 396–424); ее вторая часть была опубликована в № 12 (стр. 381–414).] Не будь у него чего пообещать – он не даром струсил и натравил на вашу сострадательность холопское усердие Галахова.
Да, счастливы подлецы! А Кр<аевский> и из них-то счастливейший. Примера подобного не бывало в русской литературе. Какой-нибудь Греч и тот не даром приобрел известность, а что-нибудь да сделал. А Кр<аевский> украл свою известность – да еще какую! Ни ума, ни таланта, ни убеждения (не по одному тому, что он подлец, но и потому, что в деревянной башке своей не способен связать двух мыслей, не обращенных в рубли), ни знания, ни образованности – и издает журнал, бывший лучшим русским журналом и доселе один из лучших, журнал с лишком с 4000 подписчиков!!!.. Какой-нибудь Погодин, на которого он всех больше похож по бесстыдству, наглости и скаредной скупости, что-нибудь знает, имеет убеждения, хотя и гнусные, что-нибудь сделал. Конечно, надо сказать правду, и Кр<аевский> имеет перед Погодиным свои преимущества: он меняет часто белье, моет руки, полощет во рту, <…>, а не пятернею, обтирая ее о свое рыло, как это делает трижды гнусный Погодин, вечно воняющий. А впрочем, <…> обоих, подлецов!
Уф! как устал! Но зато, болтая много, всё сказал. Знаю, что не убежду этим москвичей; но люблю во всем, и хорошем и худом, лучше знать, нежели предполагать; это необходимо для истинности отношений. Знаю горьким опытом, что с славянами пива не сваришь, что славянин может делать только от себя, а для совокупного, дружного действия обнаруживает сильную способность только по части обедов на складчину. Никакого практического чутья: что заломил, то и давай ему – никакой уступки ни в самолюбии, ни в убеждении; лучше ничего не станет делать, нежели делать настолько, сколько возможно, а не настолько, насколько хочет. А посмотришь на деле, глядишь – возит на себе Погодина или Краевского, которые едут да посмеиваются над ним же. А послушать: общее дело, мысль, стремление, симпатия, мы, мы и мы: соловьями поют. Эх, братец ты мой Василий Петрович, когда бы ты знал, как мне тяжело жить на свете, как всё тяжелей и тяжелей день ото дня, чем больше старею и хирею!..
* * *
Вероятно, ты уже получил XI-ю книжку «Современника». Там повесть Григоровича, которая измучила меня – читая ее, я всё думал, что присутствую при экзекуциях. Страшно! Вот поди ты: дурак пошлый, а талант! Цензура чуть ее не прихлопнула; конец переделан – выкинута сцена разбоя, в которой Антон участвует.[1158 - Повесть Д. В. Григоровича «Антон Горемыка» («Современник» 1847, № 11, отд. I, стр. 5–118). Белинский писал о ней во «Взгляде на русскую литературу 1847 года»: «Эта повесть трогательная, по прочтении которой в голову невольно теснятся мысли грустные и важные» (ИАН. т. X, стр. 347). См. также письма 318 и 319.] Мою статью страшно ошельмовали. Горше всего то, что совершенно произвольно. Выкинуто о Мицкевиче, о шапке мурмолке, а мелких фраз, строк – без числа.[1159 - Речь идет о статье «Ответ «Москвитянину»«. См. наст. письмо, примеч. 2. Авторский текст ее восстановлен (см. ИАН, т. X, стр. 455–456).] Но об этом я еще буду писать к тебе, потому что это меня довело до отчаяния, и я выдержал несколько тяжелых дней.
Получил я недавно письмо от Тургенева и рад, что этот несовершеннолетний юноша не пропал, а нашелся.[1160 - Это письмо не сохранилось.] Он зиму проводит в Париже, где и Анненков пробудет до нового года, а Герцен уехал в Италию.
* * *
Прощай, Василий Петрович. Да что ты там уселся в своей Москве? Ты ли домосед, ты ли не любишь рыскать? Что бы тебе прокатиться в Питер? Кланяйся от меня милому, доброму Николаю Петровичу, которого я люблю от всей души. Твой
В. Белинский.
Ноября 8
Пока возился с этим письмом, узнал новые черты из жизни великого Кр<аевско>го. Так как мне суждено быть Плутархом сего мужа, то не могу удержаться, чтоб не рассказать вам, как сейчас буду подробно рассказывать Анненкову (равно как и о счастии Кр<аевско>го находить сотрудников в затруднительных обстоятельствах). Бутков ищет квартиры – жить ему у Кр<аевско>го стало невмочь – бежит от него. Кроме того, что барин замучил работою, лакеи (которым он платит 5 р. сер. за метение и топку комнаты) грубят, а комнаты и не метут и не топят, и бедняк замерз. Раз Бутков просит у Некр<асова> «Отечественные записки». – Да зачем вам мои «Отечественные записки»? Ведь вы живете не только в одном доме с Кр<аевским>, но даже у него на квартире – что ж не возьмете у него? – Сколько раз просил – не дает; говорит: подпишитесь. – Продал он Крешеву диван, набитый клопами. Крешеву эта набивка показалась очень неудобною, диван понравился Достоевскому, и Крешев продал ему его за 4 р. с, за ту же цену, которую взял с него Кр<аевский>. В этот вечер Крешев не ночевал дома, и поутру на другой день без него явились ломовые извозчики и потащили диван. Кр<аевский> узнал и взбесился: «Я продал им диван, чтоб у них комната была не пустая, а они его перепродают – вздор!» и остановил диван.
Веселовский принял предложение Некрасова. Он рад, как я думаю, что будет мочь печатать свои статьи с своим именем, а то Краевский их приписывает себе, и недавно Заблоцкий (достойный друг Кр<аевско>го, хотя умный и даровитый человек!) в Географическом обществе прочел статью Веселовского – за свою!! Молодцы![1161 - Белинский говорит о докладе А. П. Заблоцкого-Десятовского «Взгляд на историю развития статистики в России», прочитанном в начале 1847 г. в Русском географическом обществе (см. «Записки Русского географического общества», кн. II, 1847, стр. 116–134). – К. С. Веселовский был членом этого Общества.]
317. П. Н. Кудрявцеву
<8 ноября 1847 г. Петербург.>
Здравствуйте, дражайший Петр Николаевич. Сколько лет, сколько зим не видались мы с Вами. А ведь в Зальцбрунне-то[343 - Далее зачеркнуто: мы] чуть было не увиделись. Вольно Вам было не приехать. Денег ждал из Питера. Да чего же бы лучше, как ждать их в Зальцбрунне, где нас было трое, и у каждого Вы могли взять до получения из Питера столько, сколько Вам нужно было. А как бы весело было вчетвером-то. Да что будешь делать с Вами, мой неисправимый, милый дикарь.
Как Вы поживаете, что поделываете? Дайте о себе весточку. А как жене моей хотелось повидаться с Вами, сколько раз писала она ко мне в Зальцбрунн, чтобы я дал Вам ее адрес. Она Вам, при сей верной оказии, низко кланяется.
Думаю, что Вам пока едва ли до журнальных работ и всяких подобных дрязг. Но если, сверх чаяния, найдется у Вас время и охота написать повесть или что-нибудь вроде повести, – может ли «Современник» надеяться на Вашу готовность быть и ему полезным? Вот еще вопрос в таком же роде: мы и не думаем о Вашем постоянном участии по какой-нибудь отдельной части, но если бы Вам когда пришла охота разобрать какую-нибудь книгу, особенно почему-нибудь Вас интересующую, – можем ли мы надеяться, что Вы дадите нам Вашу рецензию? Нечего и говорить, что и для Вашей ученой статьи всегда найдется почетное место в нашем журнале, лишь бы только Вы захотели занять его.[1162 - Ни одного произведения Кудрявцева в «Современнике» 1848 г. не появилось.]
Затем, желая Вам всего хорошего, остаюсь весь Ваш
В. Белинский.
СПб. 1847, ноября 8 дня.
<Адрес:> Петру Николаевичу Кудрявцеву.