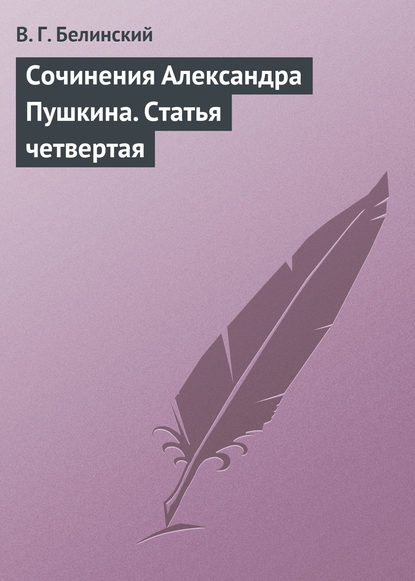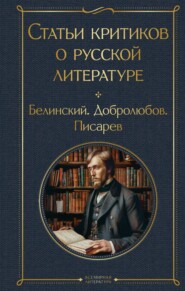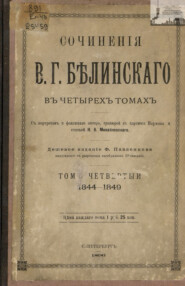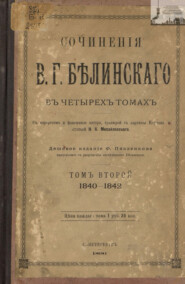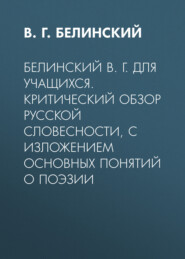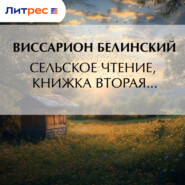По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сочинения Александра Пушкина. Статья четвертая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Привычной думою зовет…
К чему?..
Все окончание этой прекрасной пьесы, заключающее в себе картину гроба юноши, дышит такой светлою, ясною и отрадною грустью, какую знала и дала знать миру только поэтическая душа Пушкина… Пьеса «К Овидию» в целом сбивается несколько на старинный дидактический тон посланий, но в нем много прекрасного, и особенно, начиная с стиха: «Суровый Славянин, я слез не проливал» до стиха: «Неслися издали, как томный стон разлуки»; и лучшую сторону этого стихотворения составляет его элегический тон.
Из «переходных» стихотворений Пушкина слабейшими можно считать: Русалку, Черную шаль, Свод неба мраком обложился. «Русалка» прекрасна по идее, но поэт не совладал с этою идеею, – и кто хочет понять, до какой степени прекрасна и исполнена поэзии эта идея, тот должен видеть превосходное произведение нашего даровитого живописца Моллера. В этой картине художник воспользовался заимствованною им у поэта идеею несравненно лучше, чем сам поэт. «Русалка» Пушкина отзывается юношескою незрелостию; «Русалка» Моллера есть богатое и роскошное создание зрелого таланта. «Черная шаль» при своем появлении возбудила фурор в русской читающей публике, но, подобно «Гусару» Батюшкова, теперь как-то опошлилась и чрезвычайно нравится любителям «песенников». Теперь очень нередкость услышать, как поет эту пьесу какой-нибудь разгульный простолюдин вместе с песнию г. Ф. Глинки: «Вот мчится тройка удалая», или: «Ты не поверишь, как ты мила»… «Свод неба мраком обложился» есть не что иное, как отрывок из новогородской поэмы «Вадим», которую затевал было Пушкин в своей юности и которой суждено было остаться неоконченною. Один отрывок помещен между «лицейскими» стихотворениями, в IX томе, под названием «Сон», и Пушкин не хотел его печатать. Стих отрывка «Свод неба мраком обложился» хорош, но прозаичен.[29 - «Свод неба мраком обложился» – начало «Вадима» (т. IV, стр. 274, под произвольным назв. «Два путника»).] Герои, выставленные Пушкиным в этом отрывке, – славяне; один старик, другой прекрасный юноша с кручиною в глазах —
На нем одежда славянина
И на бедре славянский меч,
Славян вот очи голубые,
Вот их и волосы златые.
Волнами падшие до плеч.
Старик – человек бывалый:
Видал он дальние страны,
По суше, по морю носился[30 - У Пушкина см. вариант: «По суше, по морям носился» (т. IX, стр. 386) и дальше: «В час бури к горным берегам» (там же).]
Во дни былые, дни войны
На западе, на юге бился,
Деля добычу и труды
С суровым племенем Одена,
И перед ним врагов ряды
Бежали, как морская пена
В час бури к черным берегам.
Внимал он радостным хвалам
И арфам скальдов исступленных,[31 - У Пушкина см. вариант: «И арфам скальдов вдохновенных» (т. IX, стр. 386).]
И очи дев иноплеменных
Красою чуждой привлекал.
Очевидно, что это не те славяне, которые, втихомолку от истории и украдкою от человечества, жили да поживали себе в степях, болотах и дебрях нынешней России; но славяне карамзинские, которых существование и образ жизни не подвержены ни малейшему сомнению только в «Истории государства российского». Из таких славян нельзя было сделать поэмы, потому что для поэмы нужно действительное содержание, и ее героями могут быть только действительные люди, а не ученые фантазии и не исторические гипотезы… Кто видал славянские мечи? Дреколья и теперь можно видеть… Кто видал славянскую боевую одежду времен баснословного Вадима или баснословного Гостомысла?.. Лапти и сермяги можно и теперь видеть…
«Песнь о вещем Олеге» – совсем другое дело: поэт умел набросить какую-то поэтическую туманность на эту более лирическую, чем эпическую пьесу – туманность, которая очень гармонирует с историческою отдаленностию представленного в ней героя и события и с неопределенностью глухого предания о них. Оттого пьеса эта исполнена поэтической прелести, которую особенно возвышает разлитый в ней элегический тон и какой-то чисто русский склад изложения. Пушкин умел сделать интересным даже коня олегова, – и читатель разделяет с Олегом желание взглянуть на кости его боевого товарища:
Вот едет могучий Олег со двора,
С ним Игорь и старые гости,
И видят: на холме, у брега Днепра,
Лежат благородные кости;
Их моют дожди, засыпает их пыль,
И ветер волнует над ними ковыль…
Вся пьеса эта удивительно выдержана в тоне и в содержании; последний куплет удачно замыкает собою поэтический смысл целого и оставляет на душе читателя полное впечатление:
Ковши круговые запенясь шипят
На тризне плачевной Олега:
Князь Игорь и Ольга на холме сидят;
Дружина пирует у брега;
Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.
Нельзя того же сказать о всех «переходных» пьесах Пушкина в отношении к выдержанности и целостности: во многих из них не чувствуешь, чтоб они были кончены на месте, или чтоб в них не было сказано лишнего, или чтоб в них было сказано, что бы можно и должно было сказать. Этого недостатка совершенно чужды пьесы чисто пушкинские, и совершенным отсутствием в них этого недостатка Пушкин резко отделяется от всех предшествовавших ему поэтов.
Исчисляя пьесы Пушкина в первой части, мы не упомянули об одной из замечательнейших – «Наполеон». Это стихотворение двойственно: в некоторых куплетах его видишь Пушкина самобытного, а в некоторых чувствуешь что-то переходное. Такие мысли, высказанные такими стихами, как эти, могли принадлежать только великому поэту:
Над урной, где твой прах лежит,
Народов ненависть почила,
И луч бессмертия горит.
. . .
Искуплены его стяжанья
И зло воинственных чудес
Тоскою душного изгнанья
Под сенью чуждою небес.
И знойный остров заточенья
Полночный парус посетит,
И путник слово примиренья
На оном камне начертит,
Где, устремив на волны очи,
Изгнанник помнил звук мечей
И льдистый ужас полуночи,
И небо Франции своей;
Где иногда, в своей пустыне,
Забыв войну, потомство, трон,
Один, один о милом сыне
В изгнанья горьком думал он.
Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!
Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал,
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.
Но все остальное в этой пьесе как-то резко отзывается тоном декламации и несколько напряженною восторженностию, под которой скрывается более раздражения, чем вдохновения. Впрочем, и тут много оригинального, что было до Пушкина неслыхано и невидано в русской поэзии, как, например, выражения: осужденный властитель, могучий баловень побед, изгнанник вселенной, для которого настает потомство, обесславленная земля, своенравная воля, блистательный позор и тому подобные.
Отчасти то же можно сказать и о другом превосходном произведении Пушкина – «Андрей Шенье», которое помещено во второй части и было написано уже в 1825 году.[32 - Элегия «Андрей Шенье» (1825) в посмертном издании была сильно изуродована цензурой (выброшено целых сорок четыре стиха) (т. III, стр. 190–196). Тем значительнее высокая оценка этого произведения Белинским.] Пять куплетов, которыми начинается эта элегия, сильно отзываются декламациею, которая совсем не в натуре пушкинского духа и которая показывает, как долго удерживалось на нем влияние воспитавшей его старой школы русской поэзии. Конец этой пьесы тоже несколько натянут: но середина, от стиха: «Не узрю вас, дни славы, дни блаженства» до стиха: «Ты, слово, звук пустой» – исполнены всей очаровательности пушкинской поэзии.
Есть еще стихотворение, которого мы с умыслом не поименовали, чтобы поговорить о нем особенно: это – «Демон», пьеса, которая, при своем появлении, поразила всех изумлением по глубокости высказанной в ней мысли и по совершенству художнической формы… Сказать ли?.. Эта пьеса теперь пережила свою славу, и время изрекло над ней свой суд. Есть что-то простодушно-юношеское в ее выражении, и теперь нельзя без улыбки читать этих, некогда столь дивных стихов:
В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия —
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья —
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь.
и проч. Сам этот демон, который прекрасное звал мечтою, презирал вдохновение, не верил любви и свободе, насмешливо смотрел на жизнь, – сам он теперь давно уже поступил в разряд демонов средней руки, – и теперь совсем не нужно быть демоном, чтоб от души смеяться над тою любовью, тою свободою, над которыми он смеялся. Словом, этот страшный тогда демон теперь страшен разве только для слишком юного чувства и неопытного ума: сердца возмужалые и умы опытные теперь уже не страшатся и другого демона, пострашнее пушкинского.[33 - То есть «Демона» М. Ю. Лермонтова.] Но о «демоне» мы еще будем говорить.
К чему?..
Все окончание этой прекрасной пьесы, заключающее в себе картину гроба юноши, дышит такой светлою, ясною и отрадною грустью, какую знала и дала знать миру только поэтическая душа Пушкина… Пьеса «К Овидию» в целом сбивается несколько на старинный дидактический тон посланий, но в нем много прекрасного, и особенно, начиная с стиха: «Суровый Славянин, я слез не проливал» до стиха: «Неслися издали, как томный стон разлуки»; и лучшую сторону этого стихотворения составляет его элегический тон.
Из «переходных» стихотворений Пушкина слабейшими можно считать: Русалку, Черную шаль, Свод неба мраком обложился. «Русалка» прекрасна по идее, но поэт не совладал с этою идеею, – и кто хочет понять, до какой степени прекрасна и исполнена поэзии эта идея, тот должен видеть превосходное произведение нашего даровитого живописца Моллера. В этой картине художник воспользовался заимствованною им у поэта идеею несравненно лучше, чем сам поэт. «Русалка» Пушкина отзывается юношескою незрелостию; «Русалка» Моллера есть богатое и роскошное создание зрелого таланта. «Черная шаль» при своем появлении возбудила фурор в русской читающей публике, но, подобно «Гусару» Батюшкова, теперь как-то опошлилась и чрезвычайно нравится любителям «песенников». Теперь очень нередкость услышать, как поет эту пьесу какой-нибудь разгульный простолюдин вместе с песнию г. Ф. Глинки: «Вот мчится тройка удалая», или: «Ты не поверишь, как ты мила»… «Свод неба мраком обложился» есть не что иное, как отрывок из новогородской поэмы «Вадим», которую затевал было Пушкин в своей юности и которой суждено было остаться неоконченною. Один отрывок помещен между «лицейскими» стихотворениями, в IX томе, под названием «Сон», и Пушкин не хотел его печатать. Стих отрывка «Свод неба мраком обложился» хорош, но прозаичен.[29 - «Свод неба мраком обложился» – начало «Вадима» (т. IV, стр. 274, под произвольным назв. «Два путника»).] Герои, выставленные Пушкиным в этом отрывке, – славяне; один старик, другой прекрасный юноша с кручиною в глазах —
На нем одежда славянина
И на бедре славянский меч,
Славян вот очи голубые,
Вот их и волосы златые.
Волнами падшие до плеч.
Старик – человек бывалый:
Видал он дальние страны,
По суше, по морю носился[30 - У Пушкина см. вариант: «По суше, по морям носился» (т. IX, стр. 386) и дальше: «В час бури к горным берегам» (там же).]
Во дни былые, дни войны
На западе, на юге бился,
Деля добычу и труды
С суровым племенем Одена,
И перед ним врагов ряды
Бежали, как морская пена
В час бури к черным берегам.
Внимал он радостным хвалам
И арфам скальдов исступленных,[31 - У Пушкина см. вариант: «И арфам скальдов вдохновенных» (т. IX, стр. 386).]
И очи дев иноплеменных
Красою чуждой привлекал.
Очевидно, что это не те славяне, которые, втихомолку от истории и украдкою от человечества, жили да поживали себе в степях, болотах и дебрях нынешней России; но славяне карамзинские, которых существование и образ жизни не подвержены ни малейшему сомнению только в «Истории государства российского». Из таких славян нельзя было сделать поэмы, потому что для поэмы нужно действительное содержание, и ее героями могут быть только действительные люди, а не ученые фантазии и не исторические гипотезы… Кто видал славянские мечи? Дреколья и теперь можно видеть… Кто видал славянскую боевую одежду времен баснословного Вадима или баснословного Гостомысла?.. Лапти и сермяги можно и теперь видеть…
«Песнь о вещем Олеге» – совсем другое дело: поэт умел набросить какую-то поэтическую туманность на эту более лирическую, чем эпическую пьесу – туманность, которая очень гармонирует с историческою отдаленностию представленного в ней героя и события и с неопределенностью глухого предания о них. Оттого пьеса эта исполнена поэтической прелести, которую особенно возвышает разлитый в ней элегический тон и какой-то чисто русский склад изложения. Пушкин умел сделать интересным даже коня олегова, – и читатель разделяет с Олегом желание взглянуть на кости его боевого товарища:
Вот едет могучий Олег со двора,
С ним Игорь и старые гости,
И видят: на холме, у брега Днепра,
Лежат благородные кости;
Их моют дожди, засыпает их пыль,
И ветер волнует над ними ковыль…
Вся пьеса эта удивительно выдержана в тоне и в содержании; последний куплет удачно замыкает собою поэтический смысл целого и оставляет на душе читателя полное впечатление:
Ковши круговые запенясь шипят
На тризне плачевной Олега:
Князь Игорь и Ольга на холме сидят;
Дружина пирует у брега;
Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.
Нельзя того же сказать о всех «переходных» пьесах Пушкина в отношении к выдержанности и целостности: во многих из них не чувствуешь, чтоб они были кончены на месте, или чтоб в них не было сказано лишнего, или чтоб в них было сказано, что бы можно и должно было сказать. Этого недостатка совершенно чужды пьесы чисто пушкинские, и совершенным отсутствием в них этого недостатка Пушкин резко отделяется от всех предшествовавших ему поэтов.
Исчисляя пьесы Пушкина в первой части, мы не упомянули об одной из замечательнейших – «Наполеон». Это стихотворение двойственно: в некоторых куплетах его видишь Пушкина самобытного, а в некоторых чувствуешь что-то переходное. Такие мысли, высказанные такими стихами, как эти, могли принадлежать только великому поэту:
Над урной, где твой прах лежит,
Народов ненависть почила,
И луч бессмертия горит.
. . .
Искуплены его стяжанья
И зло воинственных чудес
Тоскою душного изгнанья
Под сенью чуждою небес.
И знойный остров заточенья
Полночный парус посетит,
И путник слово примиренья
На оном камне начертит,
Где, устремив на волны очи,
Изгнанник помнил звук мечей
И льдистый ужас полуночи,
И небо Франции своей;
Где иногда, в своей пустыне,
Забыв войну, потомство, трон,
Один, один о милом сыне
В изгнанья горьком думал он.
Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!
Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал,
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.
Но все остальное в этой пьесе как-то резко отзывается тоном декламации и несколько напряженною восторженностию, под которой скрывается более раздражения, чем вдохновения. Впрочем, и тут много оригинального, что было до Пушкина неслыхано и невидано в русской поэзии, как, например, выражения: осужденный властитель, могучий баловень побед, изгнанник вселенной, для которого настает потомство, обесславленная земля, своенравная воля, блистательный позор и тому подобные.
Отчасти то же можно сказать и о другом превосходном произведении Пушкина – «Андрей Шенье», которое помещено во второй части и было написано уже в 1825 году.[32 - Элегия «Андрей Шенье» (1825) в посмертном издании была сильно изуродована цензурой (выброшено целых сорок четыре стиха) (т. III, стр. 190–196). Тем значительнее высокая оценка этого произведения Белинским.] Пять куплетов, которыми начинается эта элегия, сильно отзываются декламациею, которая совсем не в натуре пушкинского духа и которая показывает, как долго удерживалось на нем влияние воспитавшей его старой школы русской поэзии. Конец этой пьесы тоже несколько натянут: но середина, от стиха: «Не узрю вас, дни славы, дни блаженства» до стиха: «Ты, слово, звук пустой» – исполнены всей очаровательности пушкинской поэзии.
Есть еще стихотворение, которого мы с умыслом не поименовали, чтобы поговорить о нем особенно: это – «Демон», пьеса, которая, при своем появлении, поразила всех изумлением по глубокости высказанной в ней мысли и по совершенству художнической формы… Сказать ли?.. Эта пьеса теперь пережила свою славу, и время изрекло над ней свой суд. Есть что-то простодушно-юношеское в ее выражении, и теперь нельзя без улыбки читать этих, некогда столь дивных стихов:
В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия —
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья —
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь.
и проч. Сам этот демон, который прекрасное звал мечтою, презирал вдохновение, не верил любви и свободе, насмешливо смотрел на жизнь, – сам он теперь давно уже поступил в разряд демонов средней руки, – и теперь совсем не нужно быть демоном, чтоб от души смеяться над тою любовью, тою свободою, над которыми он смеялся. Словом, этот страшный тогда демон теперь страшен разве только для слишком юного чувства и неопытного ума: сердца возмужалые и умы опытные теперь уже не страшатся и другого демона, пострашнее пушкинского.[33 - То есть «Демона» М. Ю. Лермонтова.] Но о «демоне» мы еще будем говорить.