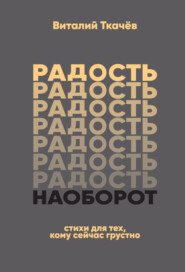По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Любовь издалека. Cтихи для тех, кто одинок…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Любовь издалека. Cтихи для тех, кто одинок…
Виталий Рудольфович Ткачёв
Библиотека умной литературы
Данная книга является продолжением разговора о чувствах, начатого автором в сборнике «Радость наоборот». На этот раз темой размышлений является одиночество и любовь. Как преодолеть одиночество не только физическое, но и духовное? Конечно же, через любовь, это бесспорно. Но что делать тем, кто пока не любит и страдает от одиночества? Как научиться любить? Это же в конце концов самый главный предмет в школе жизни. А все ли понимают однозначно, что из себя представляет любовь? Не существует и не может существовать любви по-своему. А что тогда должен чувствовать влюблённый человек, чтобы безапелляционно утверждать, что он любит? Страсть? Но страсть – это не любовь, это просто жар, спадающий от микстуры времени. Но тогда что же можно назвать любовью, если она не влечение, не вдохновение, настойчиво призывающие душу сочинять стихи?
О непоэтической любви рассуждает поэт. Парадокс? Одно это делает увлекательным чтение монолога самобытного русского поэта-мыслителя.
Рекомендуется тем, кто предпочитает размышлять о вопросах бытия с книжкой в руках, а также всем интеллигентным любителям умной поэзии.
Виталий Рудольфович Ткачёв
Любовь издалека
С благодарностью маме, Эльвире Александровне, научившей меня любить…
© Виталий Ткачёв, 2024
© Издательский дом BookBox, 2024
В земле торчу, как жилистый дуб,
Питает память моя о маме,
Живою с нею ясно смогу
Вечнозелёным всегда быть самым.
Любовь издалека
От автора
Не вы – а я люблю! Не вы – а я богата…
Для вас – по-прежнему осталось всё,
А для меня – весь мир стал полон аромата,
Запело всё и зацвело…
В мою всегда нахмуренную душу
Ворвалась жизнь, ласкаясь и дразня…
Аделаида Герцык. «Не вы – а я люблю! Не вы – а я богата…»
Что вы помните из своего далёкого или, быть может, ещё не очень, но беззаботного, как принято шаблонно считать, детства? Здесь по утверждённому практикой сценарию предполагается многозначительная пауза для широкоформатного углубления в ваше индивидуально-конкретное прошлое, у каждого она, пауза, понятно, будет своя по продолжительности – детство ведь у всех разное во всех смыслах, это надо учитывать при правильной организации монолога. Задумывайтесь, пожалуйста, вспоминайте всласть, вволю, впадайте в полноводную память, как Волга в Каспийское море, я вас совсем не тороплю, барахтайтесь, куда нам спешить, смешивайтесь с морем сколько хотите… А сколько вам надо?
Пауза (продолжительная).
Через некоторое, но неопределённое время молчания с моей стороны всего лишь позволю себе немного сфокусировать ваши воспоминания, чтобы в закромах и закоулках навещённого внезапно незваным гостем мозга обратить судорожно рыскающее или безнадёжно блуждающее внимание на выбранную тему моего нынешнего размышления, чтобы ненароком вы не отчаялись, не ушли, не уплыли, не уехали, не двинулись, не телепортировались слишком далеко от стартового сигнала и смогли бы обратно всё-таки пешочком, спокойненько, не ускоряясь, а наслаждаясь всплывающими видами по сторонам, то там, то тут, всё же вернуться ко мне в компанию. Давайте теперь, когда старательно вытерли ноги о дверной половик и переобулись в домашние уютные и любимые тапочки, попробуем сравнить воспоминания добытые, ваши и мои. Располагайтесь поудобнее. Готовы?
В ответ слышится суетливое молчание, но всё равно я начинаю…
Вы помните, например, с какого возраста задумались о смерти? Неожиданно, да? Я помню – с одного памятного вечера в шесть лет. И это не преувеличение. А с какого времени вы полюбили жизнь и окружающий мир, помните? Я помню – с одного памятного вечера в шесть лет. И это не розыгрыш, я же не королевский шут, и мы не на юмористическом капустнике. А точно ли вы помните, когда начали правильно понимать сущность любви? Я помню точно – с одного памятного вечера в шесть лет. И это не шутка, я же предупреждал уже. И одно, и другое, и третье произошло во мне практически одновременно, с разницей всего в какие-нибудь десять несчастных и обильно плаксивых минут. И это тоже не выдумка, впрочем, вы и сами догадались. А дальше для меня наступило счастье длиною в целую жизнь, потому что с той поры я перестал бояться смерти, мне стало нравиться просто, обычно жить, поскольку я обрёл смысл своего земного существования и сделал первый шаг по осветившемуся вдруг пути познания искусства идеальной и постоянной любви. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин, 4:18) [1 - Здесь и далее цитаты из Библии даются по синодальному переводу.]. Не верите? Вижу, вижу и чутко слышу ваш скептический и снисходительный до моей уже изрядно поседевшей и полысевшей головы с высоким давлением смех.
Кстати сказать, это полное, с размером в обхвате трёх олешинских толстяков [2 - Имеются в виду упитанные фигуры трёх правителей вымышленной страны из сказки Ю. К. Олеши «Три толстяка».] заблуждение, что обычно только взрослые дяди и иногда молодящиеся тёти задумываются о вневременных, предвечных понятиях. Я далеко не одинок в том, что уже с самого детства приобщился к привязчиво- жужжащим размышлениям о них. В этой связи, к слову, вспоминается (чтобы дамы не обижались) именно одна очень своеобразная особа, без всякого преувеличения, вполне себе властительница дум начала ХХ века Зинаида Гиппиус. Зинаида Николаевна как раз подходящий пример, поскольку, вспоминая свои молоденькие годы, любезно оставила мне в помощь для подтверждения памятную фразу: «Я с детства ранена смертью и любовью» [3 - Из воспоминаний З. Н. Гиппиус «Заключительное слово».]. Я, очевидно, тоже как-то оказался на линии огня и был ими ненароком подстрелен в самую голову. Тогда и подскочило, скорее всего, нынешнее внутричерепное давление.
Нас уже двое, а набегут ещё свидетели, и поэтому зря, в общем-то, дружно посмеиваетесь за накрытым во всех отношениях столом или усмехаетесь поодиночке на диване, ещё, уверяю вас, будете завидовать тому, что это не вам было тогда шесть лет и что не вы оказались на моём ситуативно сошедшемся в одной точке бесконечного пространства месте. Вот возьмите, храбро пересиливая свой демонстративный скептицизм в обнимку с не менее публичным цинизмом, и послушайте, что и как произошло на небольшой московской улице одним тёмным вечером давным-давно в действительности, на самом деле, без всякого литературного обмана, без так называемого модного в писательской среде авторского вымысла [4 - Термин autofiction (фр.) введён в современную литературу при издании собственного романа «Fils» («Сын») французским писателем Сержем Дубровским для обозначения вымышленной автобиографии, когда в реальные события жизни автора добавляются придуманные им эпизоды.].
Мне было, как вы уже успели вовремя заметить, полных шесть лет, и мы с мамой возвращались из гостей, от бабушки с дедушкой, домой на громко переключавшем передачи и постоянно ворчащем на пассажиров автобусе № 19, который с видом модели ЗиЛ-158 устало-неторопливо ходил в советское время по довольно замысловатому маршруту от Комсомольской площади до улицы Яблочкова. Мы привычно сели на остановке «Метро “Проспект Мира”», напротив того большого дома, где жили родители моего папы, и минут через двенадцать-тринадцать должны были выйти уже на своей родной остановке «Третий проезд Марьиной Рощи». Это, если что, не совсем те самые десять минут, о которых я упоминал выше, но это именно те самые минуты, когда всё и началось, правда, я совсем не помню с чего именно, при каких обстоятельствах, с какого разговора, с каких конкретно слов, но то, что случилось потом, отпечаталось в моей памяти уже на всю оставшуюся жизнь. В тусклом салоне, видимо, должно было быть какое-то вполне определённое количество вечерних пассажиров, поскольку ну не собственная же мама вдруг ни с того ни с сего озадачила потрясающим открытием, упрямым фактом последствия появления меня в этом наилучшем из миров. Ехал, никого не трогал, и тут бац – нежданно- негаданно для себя узнал, что должен непременно его покинуть, то есть просто умереть, перестать дальше жить, и непременно это должно было произойти очень-очень скоро, я в этом ничуть не сомневался, через совсем короткий промежуток времени. Может быть, уже даже и не поиграю в любимые пластмассовые солдатики в советской полевой форме времён войны с Гитлером, не построю для них подобие Брестской крепости из деревянных кубиков, окрашенных в зелёный цвет, не пойду больше в детский сад, не погуляю во дворе на следующий день, – так я посчитал своим отчаянно-сообразительным, но растерявшимся детским умом. Я явно, как оказалось, был не готов к подобному определению чёткого направления моего пребывания на этом свете. Мне как-то неожиданно и невтерпёж захотелось двигаться несколько иным курсом: в завтра, а не к смерти. Сделаете, надеюсь, всё же скидку на мой совсем малый возраст, ведь я не мог тогда знать, что, направляясь в будущее, к жизни, я прямиком приду именно к смерти без относительности моего противоположного усилия. Но поскольку желанным для себя образом сию же минуту идти я не мог никак, а очень хотелось не покидать этот ещё практически неисследованный мною таинственный горизонт за пределами родительской заботы, а также от безысходности и страха я устроил истерику прямо в самом автобусе, не дожидаясь нужной остановки. Это были уже не детские шалости, но драма.
Росший в интеллигентной строгой среде, я был мальчиком вполне тихим, скорее даже стеснительным и застенчивым, иногда из меня и звука было не выдавить, сколько ни жми, но тут я позволил всем своим эмоциям выйти из своего хранилища и в полный голос заявить о себе, и надо сказать, что вокал у меня оказался ранее скрытым от всех, включая и маму, неоценённым до той поры талантом. Заголосил я, судя по всему, знатно, примечательно, ибо его все сразу же заметили, однако далеко не все отважились признать себя моими восторженными поклонниками, «рук плесканием» [5 - Слова из «Акафиста Пресвятой Деве, виршами переложенного в 1648 году мною, Петровским- Ситняновичем» (песнь 6).] мне не воздали, и дальнейшее моё нахождение в общественном транспорте после этого уже не представлялось возможным совсем. Кроме оглушительного верещания на самых высоких, даже сверхвысоких и неприятных для человеческого уха регистрах, моё тело вышло от подобного напряжения из всякого подчинения и бессловесно, но внятно поддержало убедительное возмущение огорошенной новостью души. Оно пошло в эзотерический пляс, протестующе-отрывистый, никому не понятный (даже мне) набор движений всеми четырьмя конечностями одновременно. Взор зрителей поэтому не мог никак зафиксироваться из-за моментальных их передёргиваний, нескончаемых вариантов причудливо-изогнутой пантомимы. Слава богу, они ещё не отросли на запланированную полную длину, иначе бы своими хаотичными судорогами легко достигали бы живой ткани окрестных свидетелей наглядного проявления активного шаманизма без бубна, но с голосовым аккомпанементом в центральном районе Москвы [6 - Аллюзия на слова Глеба Капустина из рассказа В. М. Шукшина «Срезал»: «Как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера?»].
Меня вывели, возможно и вынесли, словно римского триумфатора после грандиозной победы над злобными варварами, на пару остановок раньше. Нельзя сказать, что мой бенефис, лишившись массового зрителя, сколько-нибудь пострадал звуковой интенсивностью, более того, у меня появилась прекрасная возможность продолжать представление для одного-единственного ценителя, которым в данном случае явилась моя мама, и я этим случаем воспользовался в полной мере: ради сольного концерта для мамы я был готов на всё. Я заливался арией- речитативом с одним-единственным рефреном: «Я не хочу умирать!» Остановить его непрерывность у мамы не было ни единого шанса, и даже бурные овации и восклицания с её стороны абсолютно не влияли на исполнителя. Он вошёл в артистический раж и выходить из него не собирался. При этом со сцены, из-под уличных софитов, он тоже слезать был не намерен в том смысле, что движение вдоль улицы в направлении дома не предполагалось. Облюбованный клочок тротуара под фонарём с жидким жёлтым светом был именно той вершиной проявления характера и имеющихся способностей, на которую смог тогда дотянуться. Артист обрёл свои минуты славы: обещания повышенных гонораров в виде целой пачки мороженого за сорок восемь копеек, отряда железных конников и даже новой большой машинки, похожей на настоящую, не отвлекали от экспромтного вдохновения. Мама выбилась из сил и опустошила свою фантазию до дна, её уговоры, казавшиеся мне восторженными междометиями «Bravissimo!» смолкли.
Как успокоить ребёнка, лишённого здравомыслия от нежелания расставаться с жизнью, о которой он толком ничего не знал, но из детского упрямства держался за неё до последней слезы и полной хрипоты? Как de profundis [7 - De profundis – из глубины (лат.).] своей практически неограниченной материнской любви поднять, извлечь те одни-единственные на данную секунду спасительные слова? Вот вопрос, ответ на который, бесспорно, тянет на присуждение самой престижной премии в области детской педагогики и ускоренной находчивости. Кто-то попытается предложить свой вариант выхода из ситуации, кроме как вмазать настолько увесистый подзатыльник, чтобы ребёнок онемел от лёгкой контузии головного мозга? Придумали? Нет? Ну, хорошо, выделю ещё за счёт фирмы немного времени.
Пауза. Думайте, думайте. Только для вас в качестве комплимента одна чашечка кофе, один стакан воды, одно кресло, одна библиотека, один слюнявый палец, но неограниченный лихорадочный шелест перелистываемых страниц, количество глубоких вздохов и протяжных выдохов по факту. Система. All inclusive [8 - All inclusive – всё включено (англ.).].
Моя мама придумала, и потребовалось ей на всё про всё примерно десять минут грязного времени. Я, конечно, не засекал и не отсчитывал ничего про себя, да и судьи с секундомером и свистком тоже рядом с нами видно не было. Не тот уровень состязаний. Но по ощущению, на глаз, нашлась мама действительно, можно сказать, почти моментально, даже если сравнивать со временем чтения данного повествования. Я, кстати, так и не узнал, как ей пришла эта гениальная идея в голову, просто пришла, и всё, озарение, наитие, голос свыше подсказал, с неба записку с подсказкой незаметно подбросили. Не знаю. Но я знаю точно одно: лично я бы, окажись на мамином месте в своём даже нынешнем возрасте, обогащённый при этом воздействием знаний и опыта, не смог такое сообразить с чьим-то голосом оттуда или без оного. Если бы он и был, голос, я всё равно слова бы не смог разобрать, не хватило бы во мне чуткости слуха любви.
Пауза с ответа снята. Три на четыре, без уголка, в цвете, на память, фас, профиль, квитанция, воскресенье – выходной.
Ладно, пора и честь знать, теперь готовы ответить, нашли выход? Опять нет? Вот, то-то, так же, как и я, от винта. Ну, ничего страшного. Мама же нашла. Она провещала мне уверенным голосом, который бодрым фаготом прорвался ко мне через пискляво-отрывистое ариозо:
– Я знаю, как сделать, чтобы ты жил всегда.
Это фраза моментально показалась мне многообещающей, способной не понятно почему, но непременно обратить меня в моё первоначальное, доавтобусное состояние детского блаженства непонимания окружающей действительности, поэтому подошедшая интрига с убийственным знанием дела хладнокровно задушила эмоции, и я затаённо примолк, правда, моё молчание при этом громко уведомило маму о готовности сесть за стол переговоров.
– Хочешь узнать?
– Да, – натужно выдавил я из себя сопливый и одновременно вразумительно-хлёсткий всхлип, похожий на смачный плевок водопроводного крана после долгого отключения воды.
– Тебе надо каждый день повторять наизусть слова одной доброй песенки, тогда ты сам и все вокруг тебя будут жить всегда.
– Какой песенки? – всё ещё не успокоившись окончательно, спросил я с вызовом, разве только не топнул капризно-требовательно маленькой ножкой.
– А вот какой, повторяй за мной, чтобы запомнить, – и мама начала медленно декламировать каждую строчку по несколько раз из неизвестного мне стихотворения:
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я.
И я, шестилетний ребёнок в 1964 году, подобно четырёхлетнему (!) Коле Баранникову, сочинившему это четверостишие в далёком 1928 году, стал повторять за мамой с нарастающим вдохновением такие простые, но такие проникновенные и важные слова. Мама услышала их по радио, скорее всего, в 1962 году в качестве припева новой совместной песни композитора Аркадия Островского и поэта Льва Ошанина в исполнении неповторимых либо Майи Кристалинской, либо Тамары Миансаровой – теперь уж и не узнаешь, ведь спросить не у кого – услышала и запомнила. Когда же я смог воспроизводить текст без помощи мамы, меня уже было не остановить, и всю оставшуюся до дверей квартиры дорогу я только и твердил запомнившийся текст, чтобы не забыть. На следующий день я встал с этими словами и лёг с ними же вечером спать. Этот распорядок превратился в ежедневный ритуал. Больше у меня не было страха смерти, я знал, что мама и я будем теперь вместе и всегда под синим небом и тёплыми лучами солнца. Через некоторое время я добавил в стихотворение слова пожелания о папе и всех своих близких родственниках, которых тогда знал. Все мои близкие должны были отныне быть со мной вечно – такую судьбу я для них выбрал.
Я обрёл Бога, но не совсем пока ещё того самого, Его, того, кто есть всё и вся, кто есть высший закон. Я не был тогда крещёным и вообще, надо признать, о Нём даже не слышал ни разу и не думал знать. Эпоха атеизма бесцеремонно уселась всем своим массивным задом на нашу историческую веру и плотно придавила всякую надежду на чудо, на бессмертную жизнь. Но я обрёл молитву, или, вернее, некое заклинание, обращённое куда-то вверх, в моё всегдашнее небо, в космическую вечность, к кому-то, кого я никак визуально не представлял, но поверил, что оно, он, она или даже они там непременно имеются, меня услышат и исполнят мои заученные на зубок искренние призывы.
Вот таким образом я одномоментно ответил сразу на несколько жизненно-вечных вопросов, и важнейшим из них, главной темой для нашего обсуждения на этот раз является тот, который касается любви, хотя все они взаимосвязаны и взаимозависимы, переплетены и смотаны в один моток, как верёвочка, состоящая из трёх нитей разного цвета. Нам сегодня есть дело именно до красной нити, а белую и чёрную оставим тем активно-проницательным читателям, которые смогут не полениться, отвлечься от нашего разговора и высказывать мнение относительно своего понимания жизни и смерти, объяснив через пушистый палас времён оставленному нами шестилетнему ребёнку их философский внутренний смысл.
Остальные же продолжат общение со мной, уже заметно повзрослевшим с той рассеивающейся поры. Красная (как принято считать, цвет соблазна) у нас – это, понятно, любовь. Красная-то она, конечно, красная, но это нам ничего не даёт (мы же не среди сияющих искушением красных фонарей), если не определим, что такое красный цвет, какую любовь он таит, в конце концов, нужна некая дефиниция этого чувства.
Ой-ой-ой, берегись, как и следовало ожидать, меня стремительно накрывает словесный оползень, сколько же мнений различной конфигурации о любви готовы постучаться в меня барабанной дробью, словно метеоритный космический дождь, и даже, по возможности, уронить и расплющить по поверхности до толщины папиросной бумаги! Да-да, не надо меня теребить, понятливый, знаю, каждый читающий желает высказаться, ведь любовь – вещь общедоступная и отзывчивая на возможность покрасоваться перед почитателями, словно она прима какая, ведущая балерина на сцене или модель на подиуме. Всё-всё-всё, сдаюсь, вернее, меня уже не видно под этими вашими мнениями, лишь глухой мой голос раздаётся из-под завалов восторженных эпитетов. Любовь – такая штука, о которой все могут сколь угодно много говорить, но не каждый понимает, о чём он говорит. Разберёмся по существу?
Если кого-то любить учит влюблённость, одиночество, страдание, время, пространство, откровение Господа, что-то ещё, то меня любить научила мама, научила своим примером, воплотив собой, своей жизнью одну-единственную и безальтернативную ипостась этого чувства. Именно это проявление, а не какое-то другое, мы и можем назвать любовью, ибо сущность любви предстаёт перед нами раз и навсегда величиной постоянной и однозначной, как формула площади круга или сумма углов квадрата. Эту величину можно сравнить с понятием Всевышнего, у которого только одна сущность, хотя проявлений множество, и этой сущностью является так называемое абсолютное добро. Как Бога ни крути, в каком разрезе его ни рассматривай, как его ни анатомируй (прости, Господи!), всегда будем натыкаться исключительно на добро в абсолютном выражении. И если Он существует, то он именно такой, а не иной. Даже если Он представляется Логосом, Законом, Творцом и Управляющим Вселенной и не сильно обращающим внимание на нас, землян, являющихся для Него в сравнении с бесконечностью и вечностью ничем. Даже тогда, когда Его больше занимает Земля в целом, а не мы по отдельности или все скопом, то всё равно Он – это добро, которое определяет всё сущее. Этот определитель на все сто процентов добр, иначе сущего уже давно бы не было.
Добро (он же Бог) не имеет вообще никаких оттенков, это отнюдь не летняя зелень леса, не гениальный левитановский пейзаж «Озеро в лесу», смотря на который со стороны, замечаешь все эти три десятка тонов одного и того же зелёного цвета. А разве любовь другая? У неё тоже нет ни оттенков, ни ракурсов, она абсолютна: она или есть в своей полноте, или её нет, но если есть, если ты постиг её, допёр своим ничтожным умом и хрупким сердцем до её сути, то она откроется тебе, как Аврора, дарящая утреннее Солнце, как незыблемый канон, прокрустово ложе, эталон, лекало, а не как осиный рой интерпретаций или слесарный набор торцевых ключей разного диаметра для всех случаев сантехнического или автомобильного использования.
Виталий Рудольфович Ткачёв
Библиотека умной литературы
Данная книга является продолжением разговора о чувствах, начатого автором в сборнике «Радость наоборот». На этот раз темой размышлений является одиночество и любовь. Как преодолеть одиночество не только физическое, но и духовное? Конечно же, через любовь, это бесспорно. Но что делать тем, кто пока не любит и страдает от одиночества? Как научиться любить? Это же в конце концов самый главный предмет в школе жизни. А все ли понимают однозначно, что из себя представляет любовь? Не существует и не может существовать любви по-своему. А что тогда должен чувствовать влюблённый человек, чтобы безапелляционно утверждать, что он любит? Страсть? Но страсть – это не любовь, это просто жар, спадающий от микстуры времени. Но тогда что же можно назвать любовью, если она не влечение, не вдохновение, настойчиво призывающие душу сочинять стихи?
О непоэтической любви рассуждает поэт. Парадокс? Одно это делает увлекательным чтение монолога самобытного русского поэта-мыслителя.
Рекомендуется тем, кто предпочитает размышлять о вопросах бытия с книжкой в руках, а также всем интеллигентным любителям умной поэзии.
Виталий Рудольфович Ткачёв
Любовь издалека
С благодарностью маме, Эльвире Александровне, научившей меня любить…
© Виталий Ткачёв, 2024
© Издательский дом BookBox, 2024
В земле торчу, как жилистый дуб,
Питает память моя о маме,
Живою с нею ясно смогу
Вечнозелёным всегда быть самым.
Любовь издалека
От автора
Не вы – а я люблю! Не вы – а я богата…
Для вас – по-прежнему осталось всё,
А для меня – весь мир стал полон аромата,
Запело всё и зацвело…
В мою всегда нахмуренную душу
Ворвалась жизнь, ласкаясь и дразня…
Аделаида Герцык. «Не вы – а я люблю! Не вы – а я богата…»
Что вы помните из своего далёкого или, быть может, ещё не очень, но беззаботного, как принято шаблонно считать, детства? Здесь по утверждённому практикой сценарию предполагается многозначительная пауза для широкоформатного углубления в ваше индивидуально-конкретное прошлое, у каждого она, пауза, понятно, будет своя по продолжительности – детство ведь у всех разное во всех смыслах, это надо учитывать при правильной организации монолога. Задумывайтесь, пожалуйста, вспоминайте всласть, вволю, впадайте в полноводную память, как Волга в Каспийское море, я вас совсем не тороплю, барахтайтесь, куда нам спешить, смешивайтесь с морем сколько хотите… А сколько вам надо?
Пауза (продолжительная).
Через некоторое, но неопределённое время молчания с моей стороны всего лишь позволю себе немного сфокусировать ваши воспоминания, чтобы в закромах и закоулках навещённого внезапно незваным гостем мозга обратить судорожно рыскающее или безнадёжно блуждающее внимание на выбранную тему моего нынешнего размышления, чтобы ненароком вы не отчаялись, не ушли, не уплыли, не уехали, не двинулись, не телепортировались слишком далеко от стартового сигнала и смогли бы обратно всё-таки пешочком, спокойненько, не ускоряясь, а наслаждаясь всплывающими видами по сторонам, то там, то тут, всё же вернуться ко мне в компанию. Давайте теперь, когда старательно вытерли ноги о дверной половик и переобулись в домашние уютные и любимые тапочки, попробуем сравнить воспоминания добытые, ваши и мои. Располагайтесь поудобнее. Готовы?
В ответ слышится суетливое молчание, но всё равно я начинаю…
Вы помните, например, с какого возраста задумались о смерти? Неожиданно, да? Я помню – с одного памятного вечера в шесть лет. И это не преувеличение. А с какого времени вы полюбили жизнь и окружающий мир, помните? Я помню – с одного памятного вечера в шесть лет. И это не розыгрыш, я же не королевский шут, и мы не на юмористическом капустнике. А точно ли вы помните, когда начали правильно понимать сущность любви? Я помню точно – с одного памятного вечера в шесть лет. И это не шутка, я же предупреждал уже. И одно, и другое, и третье произошло во мне практически одновременно, с разницей всего в какие-нибудь десять несчастных и обильно плаксивых минут. И это тоже не выдумка, впрочем, вы и сами догадались. А дальше для меня наступило счастье длиною в целую жизнь, потому что с той поры я перестал бояться смерти, мне стало нравиться просто, обычно жить, поскольку я обрёл смысл своего земного существования и сделал первый шаг по осветившемуся вдруг пути познания искусства идеальной и постоянной любви. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин, 4:18) [1 - Здесь и далее цитаты из Библии даются по синодальному переводу.]. Не верите? Вижу, вижу и чутко слышу ваш скептический и снисходительный до моей уже изрядно поседевшей и полысевшей головы с высоким давлением смех.
Кстати сказать, это полное, с размером в обхвате трёх олешинских толстяков [2 - Имеются в виду упитанные фигуры трёх правителей вымышленной страны из сказки Ю. К. Олеши «Три толстяка».] заблуждение, что обычно только взрослые дяди и иногда молодящиеся тёти задумываются о вневременных, предвечных понятиях. Я далеко не одинок в том, что уже с самого детства приобщился к привязчиво- жужжащим размышлениям о них. В этой связи, к слову, вспоминается (чтобы дамы не обижались) именно одна очень своеобразная особа, без всякого преувеличения, вполне себе властительница дум начала ХХ века Зинаида Гиппиус. Зинаида Николаевна как раз подходящий пример, поскольку, вспоминая свои молоденькие годы, любезно оставила мне в помощь для подтверждения памятную фразу: «Я с детства ранена смертью и любовью» [3 - Из воспоминаний З. Н. Гиппиус «Заключительное слово».]. Я, очевидно, тоже как-то оказался на линии огня и был ими ненароком подстрелен в самую голову. Тогда и подскочило, скорее всего, нынешнее внутричерепное давление.
Нас уже двое, а набегут ещё свидетели, и поэтому зря, в общем-то, дружно посмеиваетесь за накрытым во всех отношениях столом или усмехаетесь поодиночке на диване, ещё, уверяю вас, будете завидовать тому, что это не вам было тогда шесть лет и что не вы оказались на моём ситуативно сошедшемся в одной точке бесконечного пространства месте. Вот возьмите, храбро пересиливая свой демонстративный скептицизм в обнимку с не менее публичным цинизмом, и послушайте, что и как произошло на небольшой московской улице одним тёмным вечером давным-давно в действительности, на самом деле, без всякого литературного обмана, без так называемого модного в писательской среде авторского вымысла [4 - Термин autofiction (фр.) введён в современную литературу при издании собственного романа «Fils» («Сын») французским писателем Сержем Дубровским для обозначения вымышленной автобиографии, когда в реальные события жизни автора добавляются придуманные им эпизоды.].
Мне было, как вы уже успели вовремя заметить, полных шесть лет, и мы с мамой возвращались из гостей, от бабушки с дедушкой, домой на громко переключавшем передачи и постоянно ворчащем на пассажиров автобусе № 19, который с видом модели ЗиЛ-158 устало-неторопливо ходил в советское время по довольно замысловатому маршруту от Комсомольской площади до улицы Яблочкова. Мы привычно сели на остановке «Метро “Проспект Мира”», напротив того большого дома, где жили родители моего папы, и минут через двенадцать-тринадцать должны были выйти уже на своей родной остановке «Третий проезд Марьиной Рощи». Это, если что, не совсем те самые десять минут, о которых я упоминал выше, но это именно те самые минуты, когда всё и началось, правда, я совсем не помню с чего именно, при каких обстоятельствах, с какого разговора, с каких конкретно слов, но то, что случилось потом, отпечаталось в моей памяти уже на всю оставшуюся жизнь. В тусклом салоне, видимо, должно было быть какое-то вполне определённое количество вечерних пассажиров, поскольку ну не собственная же мама вдруг ни с того ни с сего озадачила потрясающим открытием, упрямым фактом последствия появления меня в этом наилучшем из миров. Ехал, никого не трогал, и тут бац – нежданно- негаданно для себя узнал, что должен непременно его покинуть, то есть просто умереть, перестать дальше жить, и непременно это должно было произойти очень-очень скоро, я в этом ничуть не сомневался, через совсем короткий промежуток времени. Может быть, уже даже и не поиграю в любимые пластмассовые солдатики в советской полевой форме времён войны с Гитлером, не построю для них подобие Брестской крепости из деревянных кубиков, окрашенных в зелёный цвет, не пойду больше в детский сад, не погуляю во дворе на следующий день, – так я посчитал своим отчаянно-сообразительным, но растерявшимся детским умом. Я явно, как оказалось, был не готов к подобному определению чёткого направления моего пребывания на этом свете. Мне как-то неожиданно и невтерпёж захотелось двигаться несколько иным курсом: в завтра, а не к смерти. Сделаете, надеюсь, всё же скидку на мой совсем малый возраст, ведь я не мог тогда знать, что, направляясь в будущее, к жизни, я прямиком приду именно к смерти без относительности моего противоположного усилия. Но поскольку желанным для себя образом сию же минуту идти я не мог никак, а очень хотелось не покидать этот ещё практически неисследованный мною таинственный горизонт за пределами родительской заботы, а также от безысходности и страха я устроил истерику прямо в самом автобусе, не дожидаясь нужной остановки. Это были уже не детские шалости, но драма.
Росший в интеллигентной строгой среде, я был мальчиком вполне тихим, скорее даже стеснительным и застенчивым, иногда из меня и звука было не выдавить, сколько ни жми, но тут я позволил всем своим эмоциям выйти из своего хранилища и в полный голос заявить о себе, и надо сказать, что вокал у меня оказался ранее скрытым от всех, включая и маму, неоценённым до той поры талантом. Заголосил я, судя по всему, знатно, примечательно, ибо его все сразу же заметили, однако далеко не все отважились признать себя моими восторженными поклонниками, «рук плесканием» [5 - Слова из «Акафиста Пресвятой Деве, виршами переложенного в 1648 году мною, Петровским- Ситняновичем» (песнь 6).] мне не воздали, и дальнейшее моё нахождение в общественном транспорте после этого уже не представлялось возможным совсем. Кроме оглушительного верещания на самых высоких, даже сверхвысоких и неприятных для человеческого уха регистрах, моё тело вышло от подобного напряжения из всякого подчинения и бессловесно, но внятно поддержало убедительное возмущение огорошенной новостью души. Оно пошло в эзотерический пляс, протестующе-отрывистый, никому не понятный (даже мне) набор движений всеми четырьмя конечностями одновременно. Взор зрителей поэтому не мог никак зафиксироваться из-за моментальных их передёргиваний, нескончаемых вариантов причудливо-изогнутой пантомимы. Слава богу, они ещё не отросли на запланированную полную длину, иначе бы своими хаотичными судорогами легко достигали бы живой ткани окрестных свидетелей наглядного проявления активного шаманизма без бубна, но с голосовым аккомпанементом в центральном районе Москвы [6 - Аллюзия на слова Глеба Капустина из рассказа В. М. Шукшина «Срезал»: «Как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера?»].
Меня вывели, возможно и вынесли, словно римского триумфатора после грандиозной победы над злобными варварами, на пару остановок раньше. Нельзя сказать, что мой бенефис, лишившись массового зрителя, сколько-нибудь пострадал звуковой интенсивностью, более того, у меня появилась прекрасная возможность продолжать представление для одного-единственного ценителя, которым в данном случае явилась моя мама, и я этим случаем воспользовался в полной мере: ради сольного концерта для мамы я был готов на всё. Я заливался арией- речитативом с одним-единственным рефреном: «Я не хочу умирать!» Остановить его непрерывность у мамы не было ни единого шанса, и даже бурные овации и восклицания с её стороны абсолютно не влияли на исполнителя. Он вошёл в артистический раж и выходить из него не собирался. При этом со сцены, из-под уличных софитов, он тоже слезать был не намерен в том смысле, что движение вдоль улицы в направлении дома не предполагалось. Облюбованный клочок тротуара под фонарём с жидким жёлтым светом был именно той вершиной проявления характера и имеющихся способностей, на которую смог тогда дотянуться. Артист обрёл свои минуты славы: обещания повышенных гонораров в виде целой пачки мороженого за сорок восемь копеек, отряда железных конников и даже новой большой машинки, похожей на настоящую, не отвлекали от экспромтного вдохновения. Мама выбилась из сил и опустошила свою фантазию до дна, её уговоры, казавшиеся мне восторженными междометиями «Bravissimo!» смолкли.
Как успокоить ребёнка, лишённого здравомыслия от нежелания расставаться с жизнью, о которой он толком ничего не знал, но из детского упрямства держался за неё до последней слезы и полной хрипоты? Как de profundis [7 - De profundis – из глубины (лат.).] своей практически неограниченной материнской любви поднять, извлечь те одни-единственные на данную секунду спасительные слова? Вот вопрос, ответ на который, бесспорно, тянет на присуждение самой престижной премии в области детской педагогики и ускоренной находчивости. Кто-то попытается предложить свой вариант выхода из ситуации, кроме как вмазать настолько увесистый подзатыльник, чтобы ребёнок онемел от лёгкой контузии головного мозга? Придумали? Нет? Ну, хорошо, выделю ещё за счёт фирмы немного времени.
Пауза. Думайте, думайте. Только для вас в качестве комплимента одна чашечка кофе, один стакан воды, одно кресло, одна библиотека, один слюнявый палец, но неограниченный лихорадочный шелест перелистываемых страниц, количество глубоких вздохов и протяжных выдохов по факту. Система. All inclusive [8 - All inclusive – всё включено (англ.).].
Моя мама придумала, и потребовалось ей на всё про всё примерно десять минут грязного времени. Я, конечно, не засекал и не отсчитывал ничего про себя, да и судьи с секундомером и свистком тоже рядом с нами видно не было. Не тот уровень состязаний. Но по ощущению, на глаз, нашлась мама действительно, можно сказать, почти моментально, даже если сравнивать со временем чтения данного повествования. Я, кстати, так и не узнал, как ей пришла эта гениальная идея в голову, просто пришла, и всё, озарение, наитие, голос свыше подсказал, с неба записку с подсказкой незаметно подбросили. Не знаю. Но я знаю точно одно: лично я бы, окажись на мамином месте в своём даже нынешнем возрасте, обогащённый при этом воздействием знаний и опыта, не смог такое сообразить с чьим-то голосом оттуда или без оного. Если бы он и был, голос, я всё равно слова бы не смог разобрать, не хватило бы во мне чуткости слуха любви.
Пауза с ответа снята. Три на четыре, без уголка, в цвете, на память, фас, профиль, квитанция, воскресенье – выходной.
Ладно, пора и честь знать, теперь готовы ответить, нашли выход? Опять нет? Вот, то-то, так же, как и я, от винта. Ну, ничего страшного. Мама же нашла. Она провещала мне уверенным голосом, который бодрым фаготом прорвался ко мне через пискляво-отрывистое ариозо:
– Я знаю, как сделать, чтобы ты жил всегда.
Это фраза моментально показалась мне многообещающей, способной не понятно почему, но непременно обратить меня в моё первоначальное, доавтобусное состояние детского блаженства непонимания окружающей действительности, поэтому подошедшая интрига с убийственным знанием дела хладнокровно задушила эмоции, и я затаённо примолк, правда, моё молчание при этом громко уведомило маму о готовности сесть за стол переговоров.
– Хочешь узнать?
– Да, – натужно выдавил я из себя сопливый и одновременно вразумительно-хлёсткий всхлип, похожий на смачный плевок водопроводного крана после долгого отключения воды.
– Тебе надо каждый день повторять наизусть слова одной доброй песенки, тогда ты сам и все вокруг тебя будут жить всегда.
– Какой песенки? – всё ещё не успокоившись окончательно, спросил я с вызовом, разве только не топнул капризно-требовательно маленькой ножкой.
– А вот какой, повторяй за мной, чтобы запомнить, – и мама начала медленно декламировать каждую строчку по несколько раз из неизвестного мне стихотворения:
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я.
И я, шестилетний ребёнок в 1964 году, подобно четырёхлетнему (!) Коле Баранникову, сочинившему это четверостишие в далёком 1928 году, стал повторять за мамой с нарастающим вдохновением такие простые, но такие проникновенные и важные слова. Мама услышала их по радио, скорее всего, в 1962 году в качестве припева новой совместной песни композитора Аркадия Островского и поэта Льва Ошанина в исполнении неповторимых либо Майи Кристалинской, либо Тамары Миансаровой – теперь уж и не узнаешь, ведь спросить не у кого – услышала и запомнила. Когда же я смог воспроизводить текст без помощи мамы, меня уже было не остановить, и всю оставшуюся до дверей квартиры дорогу я только и твердил запомнившийся текст, чтобы не забыть. На следующий день я встал с этими словами и лёг с ними же вечером спать. Этот распорядок превратился в ежедневный ритуал. Больше у меня не было страха смерти, я знал, что мама и я будем теперь вместе и всегда под синим небом и тёплыми лучами солнца. Через некоторое время я добавил в стихотворение слова пожелания о папе и всех своих близких родственниках, которых тогда знал. Все мои близкие должны были отныне быть со мной вечно – такую судьбу я для них выбрал.
Я обрёл Бога, но не совсем пока ещё того самого, Его, того, кто есть всё и вся, кто есть высший закон. Я не был тогда крещёным и вообще, надо признать, о Нём даже не слышал ни разу и не думал знать. Эпоха атеизма бесцеремонно уселась всем своим массивным задом на нашу историческую веру и плотно придавила всякую надежду на чудо, на бессмертную жизнь. Но я обрёл молитву, или, вернее, некое заклинание, обращённое куда-то вверх, в моё всегдашнее небо, в космическую вечность, к кому-то, кого я никак визуально не представлял, но поверил, что оно, он, она или даже они там непременно имеются, меня услышат и исполнят мои заученные на зубок искренние призывы.
Вот таким образом я одномоментно ответил сразу на несколько жизненно-вечных вопросов, и важнейшим из них, главной темой для нашего обсуждения на этот раз является тот, который касается любви, хотя все они взаимосвязаны и взаимозависимы, переплетены и смотаны в один моток, как верёвочка, состоящая из трёх нитей разного цвета. Нам сегодня есть дело именно до красной нити, а белую и чёрную оставим тем активно-проницательным читателям, которые смогут не полениться, отвлечься от нашего разговора и высказывать мнение относительно своего понимания жизни и смерти, объяснив через пушистый палас времён оставленному нами шестилетнему ребёнку их философский внутренний смысл.
Остальные же продолжат общение со мной, уже заметно повзрослевшим с той рассеивающейся поры. Красная (как принято считать, цвет соблазна) у нас – это, понятно, любовь. Красная-то она, конечно, красная, но это нам ничего не даёт (мы же не среди сияющих искушением красных фонарей), если не определим, что такое красный цвет, какую любовь он таит, в конце концов, нужна некая дефиниция этого чувства.
Ой-ой-ой, берегись, как и следовало ожидать, меня стремительно накрывает словесный оползень, сколько же мнений различной конфигурации о любви готовы постучаться в меня барабанной дробью, словно метеоритный космический дождь, и даже, по возможности, уронить и расплющить по поверхности до толщины папиросной бумаги! Да-да, не надо меня теребить, понятливый, знаю, каждый читающий желает высказаться, ведь любовь – вещь общедоступная и отзывчивая на возможность покрасоваться перед почитателями, словно она прима какая, ведущая балерина на сцене или модель на подиуме. Всё-всё-всё, сдаюсь, вернее, меня уже не видно под этими вашими мнениями, лишь глухой мой голос раздаётся из-под завалов восторженных эпитетов. Любовь – такая штука, о которой все могут сколь угодно много говорить, но не каждый понимает, о чём он говорит. Разберёмся по существу?
Если кого-то любить учит влюблённость, одиночество, страдание, время, пространство, откровение Господа, что-то ещё, то меня любить научила мама, научила своим примером, воплотив собой, своей жизнью одну-единственную и безальтернативную ипостась этого чувства. Именно это проявление, а не какое-то другое, мы и можем назвать любовью, ибо сущность любви предстаёт перед нами раз и навсегда величиной постоянной и однозначной, как формула площади круга или сумма углов квадрата. Эту величину можно сравнить с понятием Всевышнего, у которого только одна сущность, хотя проявлений множество, и этой сущностью является так называемое абсолютное добро. Как Бога ни крути, в каком разрезе его ни рассматривай, как его ни анатомируй (прости, Господи!), всегда будем натыкаться исключительно на добро в абсолютном выражении. И если Он существует, то он именно такой, а не иной. Даже если Он представляется Логосом, Законом, Творцом и Управляющим Вселенной и не сильно обращающим внимание на нас, землян, являющихся для Него в сравнении с бесконечностью и вечностью ничем. Даже тогда, когда Его больше занимает Земля в целом, а не мы по отдельности или все скопом, то всё равно Он – это добро, которое определяет всё сущее. Этот определитель на все сто процентов добр, иначе сущего уже давно бы не было.
Добро (он же Бог) не имеет вообще никаких оттенков, это отнюдь не летняя зелень леса, не гениальный левитановский пейзаж «Озеро в лесу», смотря на который со стороны, замечаешь все эти три десятка тонов одного и того же зелёного цвета. А разве любовь другая? У неё тоже нет ни оттенков, ни ракурсов, она абсолютна: она или есть в своей полноте, или её нет, но если есть, если ты постиг её, допёр своим ничтожным умом и хрупким сердцем до её сути, то она откроется тебе, как Аврора, дарящая утреннее Солнце, как незыблемый канон, прокрустово ложе, эталон, лекало, а не как осиный рой интерпретаций или слесарный набор торцевых ключей разного диаметра для всех случаев сантехнического или автомобильного использования.