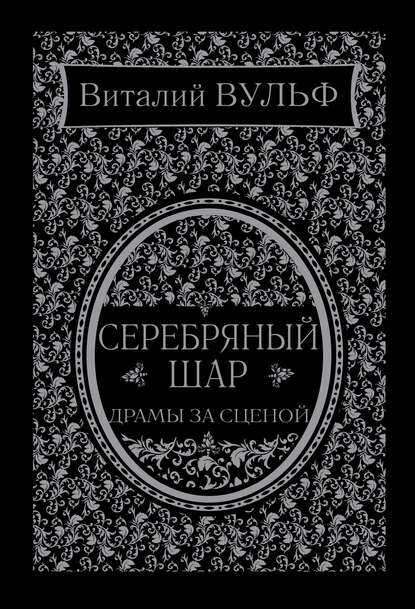По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Серебряный шар. Драма за сценой
Автор
Жанр
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мама, Елена Львовна Вульф (урожденная Беленькая), кончала филологический факультет Бакинского университета. У меня сохранилась ее зачетная книжка, она была любимой ученицей поэта Вячеслава Иванова, он из Баку уехал в Италию. Это было в 1924 году.
Знаю, что первое время от Иванова в Баку приходили вести. Он описывал, как в кафе «Флориана» в Венеции на площади Сан-Марко встретил художницу Александру Экстер. Это было самое знаменитое кафе в Венеции, таким оно и осталось; в нем сиживали за чашкой шоколада Гольдони, Гоцци. Иванов описывал Венецию с ее сотнями таинственных каналов, с домами семнадцатого века, в которых люди живут как в самых обыкновенных домах, только, выходя из подъездов, сразу садятся в лодки. Фисташковое небо, розоватая вода, мостики, фонтаны, колонны. В следующем письме он описывал поездку в Мурано, сотни стеклодувов, маленькие очаровательные магазинчики, продающие венецианское стекло. Рим казался Иванову очень спокойным городом, первое время он бывал в посольстве Советского Союза, потом перестал бывать там, а вскоре и писать, и уже до конца своей жизни мама о нем почти не имела вестей, только, когда сын мхатовского актера А.Л. Вишневского вернулся из Италии, где долгие годы был корреспондентом ТАСС, узнала, что он умер в 1949 году в Риме.
Когда в апреле 2001 года я был в Риме, мне показали дом, где жил Вячеслав Иванов, там сейчас доживает его сын. Я смотрел на красивый особняк русского поэта и невольно вспоминал, как часто мама говорила о нем.
Похоронив мужа, мама начала болеть, хотя долго еще выглядела моложавой, была стройна и умела ограждать то, что любила, от тени сомнений.
Меня спасало, что во мне есть какие-то материнские черты, иначе я бы не выстоял в этой жизни, а мама была умным, трезво оценивающим ситуации и выносливым человеком. После папиной смерти жизнь для нее как бы кончилась, ей было невыносимо тяжело, тем более что в Баку в квартире она осталась одна. Я был в Москве, маме помогала сестра Фирочка (так ее все звали), совсем непохожая на маму по характеру, по привычкам, теплый, светлый человек. Ее семья стала для мамы родным домом. Фирочка очень любила маму и заботилась о ней. Умерла Эсфирь Львовна Беленькая в Нью-Йорке, куда вынуждена была уехать с семьей сына после армянских погромов в Баку, когда интеллигенция всех национальностей уезжала в эмиграцию. Когда недавно я был в Баку, то не узнал его. Город перестал быть интернациональным, и следы драм, которые он пережил, коснувшихся не только армян, но и самих азербайджанцев, были еще видны.
Мама, оставшись в Баку, ездила на кладбище почти ежедневно, в любую погоду, а вечера проводила у сестры или у Беллы, которая все еще продолжала работать зубным врачом. В 1965 году Белла получила приглашение в Швейцарию от моего дяди, родного брата отца. Она видела его последний раз весной 1914 года. Он болел туберкулезом, и бабушка послала его в Швейцарию в санаторий, оплатив его пребывание там на несколько лет вперед. Родители отца были очень состоятельными людьми. Евсей (так звали дядю) уехал в Лозанну с Беллой в 1912 году. Потом она вернулась в Россию, и после революции о дяде мало что было известно. Отец встречался с ним в Германии в 1927 году, а в 1945-м после войны от него пришла из Гааги открытка, где он спрашивал, кто уцелел из семьи. Из страха ему никто не ответил.
1961 год я прожил в Баку, работая в Институте права Академии наук Азербайджана, готовился к защите кандидатской диссертации, она должна была состояться в Москве и состоялась в июне 1962 года, после чего я из Москвы больше не уезжал. Тогда в Баку была организована туристская поездка Франция – Тунис. Перед отъездом группы мама (она никогда ничего не боялась) попросила меня отправить из Парижа открытку в Голландию, где жил папин брат, и дала мне адрес, написанный на открытке, полученной нами в 1945 году. Белле она ничего не говорила.
Приехав в Париж в апреле 1961 года (первый мой выезд в капиталистическую страну – тогда это было событие), я отправил открытку своему дяде Евсею Вульфу и написал, что, если он хочет меня видеть, пусть приедет в Париж 11 апреля (из Туниса мы должны были вернуться 10 апреля) и ждет меня у станции метро на площади Шарль де Голль от четырех часов дня до шести.
У меня в кармане было сто двадцать франков – всё, что нам выдали. Я купил себе тогда очень модный плащ-болонья и в этом плаще шел по Елисейским Полям. Нам разрешали ходить только вдвоем или втроем, но я уговорил нашего руководителя, чтобы он разрешил мне еще раз пойти в музей Родена. При слове «музей» у него сворачивались скулы, и он, строго наказав мне к семи быть в отеле, отпустил меня одного на три часа. На самом деле он был добрым человеком и позволял и в Тунисе, и в Париже иногда пройтись одному.
Я ходил по незнакомому городу в непрестанном возбуждении. В Париже в тот год стояла удивительная весна, я смотрел на этот новый для меня мир с восторгом. Подойдя к станции метро, я остановился, ноги отнялись, и я зарыдал. Люди оглядывались. У входа в метро стоял мой папа. После его смерти прошло пять лет. Потом я уже разглядел, что этот человек выше отца, одет очень элегантно, так у нас не одеваются, у него было красивое лицо и проницательный взгляд, рядом с ним стояла молодая женщина (оказалось, что это его последняя жена). Они пригласили меня в кафе на улицу Бальзака. Я начал волноваться, меня била дрожь: а вдруг за мной следят? Говорил сбивчиво и торопливо. Узнал, что мою открытку дядя получил только вчера. Ему переслали ее в Швейцарию, где он уже давно живет. Почтовое отделение отыскало его адрес. Мать его детей осталась в Голландии, их у него двое: сын и дочь. Они родились перед войной.
Он расспрашивал о папе, о маме, с которой, естественно, не был знаком, узнал, что Ида умерла еще в 1952 году, а любимая им Белла жива, и все время не мог понять, почему я в таком нервном состоянии. Когда я сказал ему, что у меня в семь обед и я должен быть в отеле на бульваре Пуассоньер, он ничего не понял. Он собирался поехать со мной в какой-то дорогой ресторан в отеле Клюни, а потом вместе улететь в Швейцарию. Наш разговор напоминал диалог глухих. Когда я начал торопиться, он грустно спросил: «Так что, я тебя больше не увижу?» Мы договорились, что ночью, если смогу, я прибегу к ступенькам Гранд-Опера. Мне удалось около трех ночи вылезти из постели и незаметно для товарища, с которым я был в одном номере, улизнуть. Евсей меня ждал. Мы присели в ночном кафе, он держал сумку, в ней были подарки, купленные Белле и маме, но я объяснил ему, что все знают, что у меня было только сто двадцать франков, что я купил плащ-болонью, и единственное, что я мог взять, – это маленькая серебряная пепельница, которая до сих пор стоит у меня на столе, два флакончика духов, домашние туфли, вот и все. «Я никогда не верил, что у вас фашизм», – промолвил он. Больше я его никогда не видел, он умер в 1970 году.
Со своими двоюродными братом и сестрой я познакомился уже в 1987 году, ездил к ним по приглашению, жил в Гааге и Утрехте. По-русски они не знают ни одного слова и всё собираются приехать в Россию. Брат, Александр Вульф, умер в 2002 году, остались две девочки, десяти и одиннадцати лет, и молодая жена. Сам он не прожил и шестидесяти лет, дети у него родились слишком поздно.
В туристской группе мои старые бакинские друзья заметили, что я невменяемый, решили, что заболел. В Москву мы прилетели 12 апреля 1961 года. Москва была праздничная, это был день, когда Юрий Гагарин возвратился из космоса.
После этой поездки Белла начала переписываться с братом и изредка звонила ему по телефону. По настоянию мамы она оформила документы и уехала к нему на свидание на месяц в 1965 году. Помню, как я ее провожал (в те годы люди очень редко выезжали за границу, только-только начали давать разрешение тем, у кого за рубежом жили близкие родственники, но туристские группы были в большой моде). При оформлении документов в аэропорту (народу в Шереметьево было мало) пограничник спросил ее: «Совсем уезжаете?» Белла оскорбилась: мысль, что она может оставить родную страну, нас с мамой, ей не приходила в голову. Потом она звонила маме из Швейцарии и говорила, что они подали документы на продление пребывания еще на месяц, Евсей не отпускал ее. Вдруг неожиданно пришла телеграмма, что она возвращается. Я тогда снимал маленькую комнату на Чистых прудах, мама сообщила мне об ее прилете, и я помчался в аэропорт, еле успел. Оказывается, за день до того, как у нее кончалась виза, позвонили из советского посольства, что в продлении визы отказано. Она плакала навзрыд. Уже потом рассказывала о встрече, о детях Евсея, но долго не могла прийти в себя. Я отправил ее в Баку, и мама все время проводила с ней, ей было тогда 82 года.
Умерла Белла спустя десять лет после поездки в Швейцарию. Это было уже после смерти мамы. Пережить ее уход из жизни она не могла. Я был в Варшаве, когда получил телеграмму, что тете плохо. Я вылетел в Баку и успел застать ее в живых. После ее смерти что-то кончилось для меня навсегда. Ушли самые родные люди, любившие и баловавшие меня, пока могли. Первый свой «жигуленок» я купил на то, что она мне оставила.
А мама до переезда в Москву грустно жила в Баку, писала мне письма. Отца не забывала никогда. Он был хрупкий, ранимый, нервный и очень талантливый – блестящий был человек.
Ко мне мама переехала в 1967 году, когда у меня появилась первая собственная московская квартира, однокомнатная на первом этаже в одном из кооперативных домов Всероссийского театрального общества в Волковом переулке. В ней она и умерла внезапно 29 декабря 1974 года. Меня дома не было, я был в филиале МХАТа на премьере пьесы Зорина «Медная бабушка». Пушкина играл Ефремов. За мной приехали в антракте и сказали, что маме нехорошо. Я не понял, что случилась беда. Похоронили маму 31 декабря, и с того дня я никогда шумно не встречаю Новый год.
В страшную для меня ночь с 29 на 30 декабря, когда мама, мертвая, лежала на широкой тахте, прикрытая тканью, я был в невменяемом состоянии, требовал, чтобы все ушли, а народу в квартирке набилось много, меня успокаивали Витя Фогельсон, умеющий быть теплым и мягким (муж актрисы «Современника» Лили Толмачевой), и мой ближайший товарищ Леня Эрман, но, естественно, успокоить меня было нельзя. В конце концов все ушли, и я остался один. Вдруг раздался сильный стук по стеклу (мы жили на первом этаже), явно кто-то влезал в окно и старался его открыть, я вышел в кухню и увидел, что это Олег Ефремов. Он был удивительно тонким человеком и решил в эту ночь не оставлять меня одного. Мы дремали с ним до утра на узеньком диванчике, неутешные слезы мои он вытирал рукой, обращаясь со мной как с младенцем, и помог мне прожить первую ночь после несчастья. Это я помню всегда, и, как бы потом ни складывались отношения с Ефремовым, как бы ни старались люди испортить их, все равно память о той ночи живет во мне по сегодняшний день и Олег Ефремов остался для меня драгоценным человеком, что и определило мою болезненную реакцию на все выпады против него.
Пройдет много лет…
Однажды, зайдя к нему, я застал его в каком-то особенно горьком состоянии. Он, никогда не показывающий, что действительно задевает его, протянул мне газету, и я прочел очередной оскорбительный текст по его адресу, написанный молодой журналисткой в газете «Аргументы и факты». С этой газетой в то время я был связан дружескими отношениями. Главный редактор ее, В.А. Старков, только-только ввел меня в состав редакционного совета, мы много общались с ним, были одновременно в Париже, много гуляли, разговаривали, и все было очень хорошо. Но, придя домой из МХАТа, я сел за стол и немедленно написал статью (она была опубликована в газете «Известия» 6 апреля 1995 года) под названием «Миф столетия, или Театр века». В ней были строчки: «Надо не знать истории МХАТа, чтобы позволить себе описать приход Ефремова во МХАТ, как это оскорбительно позволила себе молодой критик в газете «Аргументы и факты», она написала, что «во МХАТе Ефремов был воспринят как мальчишка-самозванец, ведь те, кто теперь надеялся на боевой задор «пятнадцатилетнего капитана», были когда-то его учителями. Для них он не был авторитетом: один знаменитый артист так и сказал после прихода Ефремова: «Ноги моей в театре не будет, пока отсюда не уберется этот чертов мальчишка». Писать об этом приходится только потому, что безграмотность пишущих о театре становится общим местом. То прославляется Немирович-Данченко за то, что уберег церковные колокола в 1949 году, хотя он умер в 1943-м, то появляется упомянутая статья, свидетельствующая о незнании театральной истории, уже сейчас в 2002 году появилась книга «100 великих театров мира», в ней написано: «Волчек, как в свое время Ефремов, отдавала дань времени – в «Современнике» ставили «Сталеваров» и «Секретаря парткома» Гельмана». Автор – некая К. Смолина. Безграмотность налицо: любой театральный человек знает, что «Сталевары» и «Секретарь парткома» – спектакли Олега Ефремова, поставленные во МХАТе. Если заняться ошибками и неточностями пишущих о театре мало причастных к нему людей, то невольно уйдешь в сторону.
Еще в 1966 году на заседании художественного руководства Ангелина Иосифовна Степанова предлагала Олега Ефремова, летом 1970 года Яншин пригласил Ефремова к себе в дом на обед, где за столом собрались почти все мхатовские старики, кроме Ливанова. Они и просили Олега Ефремова возглавить МХАТ. Ефремову было 43 года».
После этой публикации меня на следующий день вывели из состава редакционного совета газеты «Аргументы и факты», и отношения со Старковым фактически прекратились. Он очень обиделся, как я мог позволить себе критику в адрес его газеты, а Ефремов благодарил за статью. Все это было семь лет назад. Теперь уже нет Старкова в «Аргументах и фактах», умер великий Олег, и, как всегда бывает, когда человек умирает, видишь его во весь рост.
Редкие звонки Ефремова были всегда мне очень дороги. Его немногословие и содержательность того, что он говорил, всегда имели большую цену. Умный, сложный, непохожий на других, незаурядный человек огромного масштаба, какие редко рождаются на свет.
В Баку или в Москве у нас в доме всегда говорили о Художественном театре. Его любили папа, Ида, Белла, это был мир интеллигенции, в него стремились, мечтали попасть.
В годы Второй мировой войны в Баку был объявлен концерт артистов МХАТа, они приехали из Тбилиси, где жили в эвакуации. То был «золотой фонд» театра. Мне было одиннадцать лет, но я до сих пор помню, как Качалов читал сцену Барона и Сатина из «На дне», один за двоих. Книппер-Чехова с Юрием Недзвецким играли сцену из «Дядюшкиного сна». Шевченко и Тарханов показывали отрывок из «Горячего сердца». Успех был громадный, белый зал Бакинской филармонии – переполнен. Вышли на улицу, в кромешную темноту – в городе было затемнение, домой добирались пешком, трамваи ходили редко, но всех переполняло ощущение счастья.
У меня сохранились программки моих первых посещений МХАТа. Я уже учился в восьмом классе. Папа привез меня впервые в Москву – это было уже после войны – и достал билеты во МХАТ, тогда это было почти невозможно. Первый спектакль, который я видел во МХАТе, – «Мертвые души», шедшие в 402-й раз. В программке было написано: «По поэме Гоголя. Текст составлен Булгаковым», Чичикова играл Белокуров, Манилова – Кедров, губернатора – Станицын. В память врезался Ливанов в роли Ноздрева. Тогда еще народный артист РСФСР, лауреат Сталинских премий Б.Н. Ливанов. Его буйный актерский темперамент, острый внешний рисунок мгновенно завораживали зрительный зал. В этом спектакле я впервые увидел Лидию Михайловну Кореневу, знаменитую мхатовскую актрису дореволюционных лет, она играла Софию Ивановну, даму просто приятную, роль была крохотная.
На следующий день мы с отцом были на утреннем спектакле – «Дядюшкин сон» по Достоевскому. Марию Александровну Москалеву играла Вера Николаевна Попова, жена Кторова, замечательная актриса, оставившая сильное впечатление. Спектакль шел в 443-й раз, цифра стояла в программке, тогда это было принято. Мозглякова играл ныне забытый Юрий Недзвецкий (с ним очень любила выходить на сцену Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, первая исполнительница роли Москалевой), а Зинаиду – актриса необыкновенной красоты, с поразительно благородным и одухотворенным лицом. Это была Степанова, она мне казалась совсем молодой, хотя ей было уже более сорока лет, о чем я, конечно, не знал. Программка стоила сорок копеек, спектакль начинался в двенадцать часов дня, и в зале не было ни одного свободного места.
Листаю старенькую уцелевшую программку и читаю, кто был занят в спектакле: Попова, Степанова, Свободин (он играл старого князя), Истрин, Недзвецкий, Елина, Кнебель, Грибков, Хованская, Вронская, Шостко, Комолова, Людвигов, Дементьева, Берестова, Борташевич. Никого не осталось в живых, последней умерла Анна Михайловна Комолова, в 2001 году ей исполнилось девяносто лет, и она до недавнего времени все еще выходила на сцену в одном-единственном спектакле – «Татуированная роза» Теннесси Уильямса, идущем на Малой сцене МХАТа почти двадцать лет.
И тогда же я впервые увидел гениальные «Три сестры», легендарный спектакль Немировича-Данченко, поставленный им в 1940 году. Мы сидели с папой в четвертом ряду, был вторник, 4 июня 1946 года, в 254-й раз Станицын играл Андрея, а его жену Наталию Ивановну – Мария Андреевна Титова, не первая исполнительница этой роли, актриса яркая, с ладной фигурой и острым чувством юмора, она умерла в 1994 году в возрасте 95 лет. Состав был первоклассный: Маша – Тарасова, Ольга – Еланская, Ирина – Степанова. Кулыгина играл Василий Алексеевич Орлов, Вершининым в этот вечер был Ершов, а не первый исполнитель этой роли Михаил Болдуман. Соленый – Ливанов, Чебутыкин – Яншин (это была его неудача, его нельзя было сравнить с гениальным Чебутыкиным – Алексеем Грибовым), Федотик – Дорохин, Роде – Комиссаров, Ферапонт – Волков, Анфиса – Пузырева. Спектакль начинался в семь часов тридцать минут вечера. В программке было указано: «После начала спектакля вход в зрительный зал не разрешается», что неукоснительно соблюдалось.
Прошло столько лет, а я до сих пор помню, как бесшумный занавес открывал празднично светлую комнату с барскими окнами. Замечательно описала начало спектакля, пожалуй, самый выдающийся критик кино и театра Майя Туровская: узкая фигура Ирины – Степановой в белом платье, виолончельный голос Еланской – Ольги и лицо Тарасовой с вздрагивающими породистыми ноздрями.
Тарасова – Маша занимала все мое внимание. Тогда только-только на экранах появился фильм «Без вины виноватые» с Тарасовой в роли Кручининой, и успех у нее был громадный.
Это была актриса поразительной красоты и темперамента. Она сидела в кресле в черном платье и читала книгу, и весь зал ждал, когда она поднимет лицо и скажет первые слова роли: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том». Лучшей Маши я не видел никогда в жизни.
Последний акт. Березовая аллея, уходящая в глубину, надрывающий сердце марш и незабываемая интонация Тузенбаха: «Я не пил сегодня кофе. Скажешь, чтоб мне сварили». Жизнь, вложенная в одну незначащую фразу, как заметила Майя Туровская. (Тузенбаха играл в тот вечер забытый ныне артист Свободин: первый исполнитель роли, великий Хмелев, умер в 1945 году.) Потом выстрел – и метнувшаяся по аллее фигура Ирины. «Уходят наши. Ну что же… Счастливый им путь».
Наверное, не все играли одинаково, но мне казалось, что ничего более гармоничного и прекрасного я не видел никогда.
Потом я много раз видел «Три сестры»: у Товстоногова, у Ефремова, у Волчек, у Эфроса, у Любимова, у Питера Штайна, но ни разу не текли у меня слезы, горькие и сладкие, о чем-то совсем несбыточном. В последующие годы я много-много раз видел «Три сестры» Немировича-Данченко, естественно, спектакль дряхлел, но никогда не утрачивал благородства, и Маша – Тарасова, сыгравшая вместе со Степановой и Еланской «Три сестры» в последний раз в 1956 году, по-прежнему оставалась для меня единственной и великолепной. Незабываемые три актрисы в великом спектакле!
Сегодня, когда Тарасовой нет в живых (она умерла в 1973 году), когда прошло более полувека с того дня, когда я впервые увидел ее, в день ее столетнего юбилея в нашей печати появились статьи, резко ее критикующие. Талантливая и очень образованная Инна Соловьева в годы нашей близкой дружбы как-то призналась, что в молодости никогда не любила Тарасову, Бабанову и Раневскую, и острая на язык Марина Неелова, узнав об этом, заметила: «Как бы я хотела быть среди тех, кого не любит Инна Соловьева». Ее субъективизм оказался гибельным для молодого поколения, не видевших ни Тарасовой, ни Ливанова, ни Андровской, ни остальных мхатовских стариков. С годами так сложилось, что от любви или нелюбви Инны Соловьевой словно стала зависеть история старого Художественного театра, на ее работах учится молодежь, и все настоящее постепенно уходит в песок.
С МХАТом связано лучшее время моей московской жизни (в Москве я с 17 лет, когда приехал учиться в Университете). Помню, как у касс стояли толпы, как к пяти часам стекались зрители в поисках спекулянтов, чтобы достать билет, и «Анна Каренина», которую спустя пятьдесят лет после премьеры разругала новая критика, производила ошеломляющее впечатление.
С «Анной Карениной» произошла драматическая история. Ее сняли на телевидении в 1953 году. Тарасова была уже очень немолода – 55 лет. Снимать спектакли тогда телевидение не умело, оно только начинало свой путь в нашей стране. Когда мхатовцы увидели, что? получилось, они пришли в ужас. Это не имело никакого отношения к тому, что шло на сцене даже в те годы.
Зерно спектакля – это Анна, как писал когда-то Немирович-Данченко. Красота – живая, естественная, охваченная естественным горением, и рядом красивость – искусственная, выдуманная, порабощенная и убивающая. Живая, прекрасная правда – и мертвая, импозантная декорация.
Массовые сцены были поразительны, больше никто их так не ставил. Гостиная Бетси Тверской с темными стенами, огни свеч, лакеи бесшумно передвигают стулья, разносят чай. Блестят серебро самовара и прозрачный фарфор чайного сервиза. С появлением Бетси – Степановой на сцену накатывался воздух великосветских салонов императорского Петербурга, с их фарисейством, ложью и лицемерием. Знаменитая сцена скачек. Море кисеи, лент, перьев, зонтиков и цветов. На трибунах шумно, ждут начала скачек. Когда начинался заезд, разговоры прекращались. Сцены «Дворца» и «Театра» сливались не в иллюстрации к толстовскому роману, а в спектакль-роман. В нем сочетались пластика, живопись, строго мелодически построенная речь, ритм, динамика развития актерских образов.
Естественно, что с годами все изменилось. Бесспорные достижения терялись, персонажи, окружавшие Анну, превращались в привычный фон, однозначно демонстрирующий фарисейство и лицемерие великосветского Петербурга. Спектакль шел на сцене более тридцати лет. Но в годы моей юности он еще сохранял безупречность формы и пользовался огромным зрительским интересом. А на телевидении спектакль снимали, когда постановочная культура уже резко падала. Казалось, просьба мхатовцев не показывать фильм-спектакль «Анна Каренина» была уважена.
Но прошло почти пятьдесят лет после съемок, и его решили почему-то продемонстрировать на телевизионном экране, словно кто-то хотел умышленно дискредитировать старый Художественный театр. В результате сегодня в печати встречаю высказывания вроде того, что написал Андрей Житинкин: «Тарасовская версия Анны Карениной ужасающая». Сорокалетний режиссер даже не удосужился прочесть, что версия романа была создана Немировичем-Данченко и режиссером Сахновским, а инсценировку романа для МХАТа делал Николай Дмитриевич Волков. Тарасова была только исполнительницей роли. Что-то в этом же духе произнесла в интервью талантливая актриса Вахтанговского театра Юлия Рутберг, хотя любому человеку моего поколения очевидно, что никто из высказывающихся нынешних так называемых звезд близко не приближается талантом к Алле Константиновне Тарасовой. Возникло чувство, что это пренебрежительное отношение к актрисе, владевшей умами России в течение многих десятилетий, возникло как бы в отместку за ее громадный успех, за умение держать власть со сцены над зрительскими душами.
Вот и в этом году отмечали столетие со дня рождения первой звезды советского кино Любови Орловой. Ее знаменитые ленты «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Весна» и сегодня смотрят с превеликим удовольствием, только последние два фильма, в которых она снималась, были неудачны. После просмотра ленты «Скворец и Лира» Любовь Орлова просила ее никогда не показывать. Но именно «Скворца и Лиру» решили продемонстрировать в день ее столетия на Российском телевизионном канале, как будто кто-то преследует цель развенчать, уничтожить, сокрушить легенды прошлого века. Редкое неуважение к собственной истории и забвение того, что когда-то называли «правилами жизни».
На моих глазах разрушилась слава старого Художественного театра. Сильнейшее впечатление производила Фаина Васильевна Шевченко, я видел ее в «На дне», в «Горячем сердце» и в «Плодах просвещения». Каждый ее выход на сцену был событием. Сегодня страна боготворит гениальную Фаину Раневскую, ее все знают по кино, а Раневская с восторгом взирала на Шевченко, потому что Шевченко была актерская глыба не меньше, чем она сама. Но Шевченко давно умерла, о ней не пишут, не говорят, и имя ее известно только знатокам. Слава богу, что Раневскую снимали в кино и память о ней осталась дорога каждому.
Падение МХАТа началось в конце 40-х годов, он превратился в официальный театр. Это привело к тому, что игрались очень плохие пьесы, нужные сталинскому режиму. «Зеленая улица» Сурова, «Заговор обреченных» Вирты. Да и после смерти Сталина МХАТ продолжал ставить всякую чепуху: «Сердце не прощает» Софронова (главную роль играла Тарасова), «Илья Головин» Михалкова (пьеса о композиторах-космополитах: в образе Ильи Головина угадывался гениальный Шостакович) со Степановой, «Залп «Авроры» Большинцова и Чиаурели, бездарнейшая пьеса Якобсона «Ангел-хранитель из Небраски» – глупая, пошлая, откровенная агитка. Все это было. Но Тарасова и Степанова оставались большими актрисами. В самые трудные мхатовские годы на его сцене шли «Плоды просвещения», «Осенний сад», «Милый лжец», «Мария Стюарт».
Вот передо мной томик писем Пастернака жене. 9 февраля 1957 года Борис Леонидович пишет:
«Марию Стюарт», кажется, покажут в этом сезоне. Для меня это менее безразлично, чем в предшествующих случаях. Это все же в прошлом великий театр… и участники, что бы ни говорил Борис (Борис Николаевич Ливанов, друживший с Пастернаком и находившийся в конфликте с теми, кто был занят в «Марии Стюарт» в тот период. – В.В.), люди, избалованные судьбой, много видевшие и много сделавшие. Мне с ними очень хорошо. Эта среда родная, знакомая…
И в следующем письме от 13 февраля:
Вчера я с 10 утра до трех просидел во МХАТе. Тарасова играет с большим благородством и изяществом. Она совершенно овладела образом Марии и им прониклась так, что представление мое о Стюарт уже от нее неотделимо. Еще лучше играет, то есть пользуется возможностями, предоставляемыми текстом, Степанова, но это еще роль, а Тарасова уже реальное лицо, уже история. Обе очень большие, великие артистки. Мы слишком легко ко всему привыкаем, слишком скоро все забываем…
ЗИМы, ЗИСы и Татры.
Сдвинув полосы фар,
Знаю, что первое время от Иванова в Баку приходили вести. Он описывал, как в кафе «Флориана» в Венеции на площади Сан-Марко встретил художницу Александру Экстер. Это было самое знаменитое кафе в Венеции, таким оно и осталось; в нем сиживали за чашкой шоколада Гольдони, Гоцци. Иванов описывал Венецию с ее сотнями таинственных каналов, с домами семнадцатого века, в которых люди живут как в самых обыкновенных домах, только, выходя из подъездов, сразу садятся в лодки. Фисташковое небо, розоватая вода, мостики, фонтаны, колонны. В следующем письме он описывал поездку в Мурано, сотни стеклодувов, маленькие очаровательные магазинчики, продающие венецианское стекло. Рим казался Иванову очень спокойным городом, первое время он бывал в посольстве Советского Союза, потом перестал бывать там, а вскоре и писать, и уже до конца своей жизни мама о нем почти не имела вестей, только, когда сын мхатовского актера А.Л. Вишневского вернулся из Италии, где долгие годы был корреспондентом ТАСС, узнала, что он умер в 1949 году в Риме.
Когда в апреле 2001 года я был в Риме, мне показали дом, где жил Вячеслав Иванов, там сейчас доживает его сын. Я смотрел на красивый особняк русского поэта и невольно вспоминал, как часто мама говорила о нем.
Похоронив мужа, мама начала болеть, хотя долго еще выглядела моложавой, была стройна и умела ограждать то, что любила, от тени сомнений.
Меня спасало, что во мне есть какие-то материнские черты, иначе я бы не выстоял в этой жизни, а мама была умным, трезво оценивающим ситуации и выносливым человеком. После папиной смерти жизнь для нее как бы кончилась, ей было невыносимо тяжело, тем более что в Баку в квартире она осталась одна. Я был в Москве, маме помогала сестра Фирочка (так ее все звали), совсем непохожая на маму по характеру, по привычкам, теплый, светлый человек. Ее семья стала для мамы родным домом. Фирочка очень любила маму и заботилась о ней. Умерла Эсфирь Львовна Беленькая в Нью-Йорке, куда вынуждена была уехать с семьей сына после армянских погромов в Баку, когда интеллигенция всех национальностей уезжала в эмиграцию. Когда недавно я был в Баку, то не узнал его. Город перестал быть интернациональным, и следы драм, которые он пережил, коснувшихся не только армян, но и самих азербайджанцев, были еще видны.
Мама, оставшись в Баку, ездила на кладбище почти ежедневно, в любую погоду, а вечера проводила у сестры или у Беллы, которая все еще продолжала работать зубным врачом. В 1965 году Белла получила приглашение в Швейцарию от моего дяди, родного брата отца. Она видела его последний раз весной 1914 года. Он болел туберкулезом, и бабушка послала его в Швейцарию в санаторий, оплатив его пребывание там на несколько лет вперед. Родители отца были очень состоятельными людьми. Евсей (так звали дядю) уехал в Лозанну с Беллой в 1912 году. Потом она вернулась в Россию, и после революции о дяде мало что было известно. Отец встречался с ним в Германии в 1927 году, а в 1945-м после войны от него пришла из Гааги открытка, где он спрашивал, кто уцелел из семьи. Из страха ему никто не ответил.
1961 год я прожил в Баку, работая в Институте права Академии наук Азербайджана, готовился к защите кандидатской диссертации, она должна была состояться в Москве и состоялась в июне 1962 года, после чего я из Москвы больше не уезжал. Тогда в Баку была организована туристская поездка Франция – Тунис. Перед отъездом группы мама (она никогда ничего не боялась) попросила меня отправить из Парижа открытку в Голландию, где жил папин брат, и дала мне адрес, написанный на открытке, полученной нами в 1945 году. Белле она ничего не говорила.
Приехав в Париж в апреле 1961 года (первый мой выезд в капиталистическую страну – тогда это было событие), я отправил открытку своему дяде Евсею Вульфу и написал, что, если он хочет меня видеть, пусть приедет в Париж 11 апреля (из Туниса мы должны были вернуться 10 апреля) и ждет меня у станции метро на площади Шарль де Голль от четырех часов дня до шести.
У меня в кармане было сто двадцать франков – всё, что нам выдали. Я купил себе тогда очень модный плащ-болонья и в этом плаще шел по Елисейским Полям. Нам разрешали ходить только вдвоем или втроем, но я уговорил нашего руководителя, чтобы он разрешил мне еще раз пойти в музей Родена. При слове «музей» у него сворачивались скулы, и он, строго наказав мне к семи быть в отеле, отпустил меня одного на три часа. На самом деле он был добрым человеком и позволял и в Тунисе, и в Париже иногда пройтись одному.
Я ходил по незнакомому городу в непрестанном возбуждении. В Париже в тот год стояла удивительная весна, я смотрел на этот новый для меня мир с восторгом. Подойдя к станции метро, я остановился, ноги отнялись, и я зарыдал. Люди оглядывались. У входа в метро стоял мой папа. После его смерти прошло пять лет. Потом я уже разглядел, что этот человек выше отца, одет очень элегантно, так у нас не одеваются, у него было красивое лицо и проницательный взгляд, рядом с ним стояла молодая женщина (оказалось, что это его последняя жена). Они пригласили меня в кафе на улицу Бальзака. Я начал волноваться, меня била дрожь: а вдруг за мной следят? Говорил сбивчиво и торопливо. Узнал, что мою открытку дядя получил только вчера. Ему переслали ее в Швейцарию, где он уже давно живет. Почтовое отделение отыскало его адрес. Мать его детей осталась в Голландии, их у него двое: сын и дочь. Они родились перед войной.
Он расспрашивал о папе, о маме, с которой, естественно, не был знаком, узнал, что Ида умерла еще в 1952 году, а любимая им Белла жива, и все время не мог понять, почему я в таком нервном состоянии. Когда я сказал ему, что у меня в семь обед и я должен быть в отеле на бульваре Пуассоньер, он ничего не понял. Он собирался поехать со мной в какой-то дорогой ресторан в отеле Клюни, а потом вместе улететь в Швейцарию. Наш разговор напоминал диалог глухих. Когда я начал торопиться, он грустно спросил: «Так что, я тебя больше не увижу?» Мы договорились, что ночью, если смогу, я прибегу к ступенькам Гранд-Опера. Мне удалось около трех ночи вылезти из постели и незаметно для товарища, с которым я был в одном номере, улизнуть. Евсей меня ждал. Мы присели в ночном кафе, он держал сумку, в ней были подарки, купленные Белле и маме, но я объяснил ему, что все знают, что у меня было только сто двадцать франков, что я купил плащ-болонью, и единственное, что я мог взять, – это маленькая серебряная пепельница, которая до сих пор стоит у меня на столе, два флакончика духов, домашние туфли, вот и все. «Я никогда не верил, что у вас фашизм», – промолвил он. Больше я его никогда не видел, он умер в 1970 году.
Со своими двоюродными братом и сестрой я познакомился уже в 1987 году, ездил к ним по приглашению, жил в Гааге и Утрехте. По-русски они не знают ни одного слова и всё собираются приехать в Россию. Брат, Александр Вульф, умер в 2002 году, остались две девочки, десяти и одиннадцати лет, и молодая жена. Сам он не прожил и шестидесяти лет, дети у него родились слишком поздно.
В туристской группе мои старые бакинские друзья заметили, что я невменяемый, решили, что заболел. В Москву мы прилетели 12 апреля 1961 года. Москва была праздничная, это был день, когда Юрий Гагарин возвратился из космоса.
После этой поездки Белла начала переписываться с братом и изредка звонила ему по телефону. По настоянию мамы она оформила документы и уехала к нему на свидание на месяц в 1965 году. Помню, как я ее провожал (в те годы люди очень редко выезжали за границу, только-только начали давать разрешение тем, у кого за рубежом жили близкие родственники, но туристские группы были в большой моде). При оформлении документов в аэропорту (народу в Шереметьево было мало) пограничник спросил ее: «Совсем уезжаете?» Белла оскорбилась: мысль, что она может оставить родную страну, нас с мамой, ей не приходила в голову. Потом она звонила маме из Швейцарии и говорила, что они подали документы на продление пребывания еще на месяц, Евсей не отпускал ее. Вдруг неожиданно пришла телеграмма, что она возвращается. Я тогда снимал маленькую комнату на Чистых прудах, мама сообщила мне об ее прилете, и я помчался в аэропорт, еле успел. Оказывается, за день до того, как у нее кончалась виза, позвонили из советского посольства, что в продлении визы отказано. Она плакала навзрыд. Уже потом рассказывала о встрече, о детях Евсея, но долго не могла прийти в себя. Я отправил ее в Баку, и мама все время проводила с ней, ей было тогда 82 года.
Умерла Белла спустя десять лет после поездки в Швейцарию. Это было уже после смерти мамы. Пережить ее уход из жизни она не могла. Я был в Варшаве, когда получил телеграмму, что тете плохо. Я вылетел в Баку и успел застать ее в живых. После ее смерти что-то кончилось для меня навсегда. Ушли самые родные люди, любившие и баловавшие меня, пока могли. Первый свой «жигуленок» я купил на то, что она мне оставила.
А мама до переезда в Москву грустно жила в Баку, писала мне письма. Отца не забывала никогда. Он был хрупкий, ранимый, нервный и очень талантливый – блестящий был человек.
Ко мне мама переехала в 1967 году, когда у меня появилась первая собственная московская квартира, однокомнатная на первом этаже в одном из кооперативных домов Всероссийского театрального общества в Волковом переулке. В ней она и умерла внезапно 29 декабря 1974 года. Меня дома не было, я был в филиале МХАТа на премьере пьесы Зорина «Медная бабушка». Пушкина играл Ефремов. За мной приехали в антракте и сказали, что маме нехорошо. Я не понял, что случилась беда. Похоронили маму 31 декабря, и с того дня я никогда шумно не встречаю Новый год.
В страшную для меня ночь с 29 на 30 декабря, когда мама, мертвая, лежала на широкой тахте, прикрытая тканью, я был в невменяемом состоянии, требовал, чтобы все ушли, а народу в квартирке набилось много, меня успокаивали Витя Фогельсон, умеющий быть теплым и мягким (муж актрисы «Современника» Лили Толмачевой), и мой ближайший товарищ Леня Эрман, но, естественно, успокоить меня было нельзя. В конце концов все ушли, и я остался один. Вдруг раздался сильный стук по стеклу (мы жили на первом этаже), явно кто-то влезал в окно и старался его открыть, я вышел в кухню и увидел, что это Олег Ефремов. Он был удивительно тонким человеком и решил в эту ночь не оставлять меня одного. Мы дремали с ним до утра на узеньком диванчике, неутешные слезы мои он вытирал рукой, обращаясь со мной как с младенцем, и помог мне прожить первую ночь после несчастья. Это я помню всегда, и, как бы потом ни складывались отношения с Ефремовым, как бы ни старались люди испортить их, все равно память о той ночи живет во мне по сегодняшний день и Олег Ефремов остался для меня драгоценным человеком, что и определило мою болезненную реакцию на все выпады против него.
Пройдет много лет…
Однажды, зайдя к нему, я застал его в каком-то особенно горьком состоянии. Он, никогда не показывающий, что действительно задевает его, протянул мне газету, и я прочел очередной оскорбительный текст по его адресу, написанный молодой журналисткой в газете «Аргументы и факты». С этой газетой в то время я был связан дружескими отношениями. Главный редактор ее, В.А. Старков, только-только ввел меня в состав редакционного совета, мы много общались с ним, были одновременно в Париже, много гуляли, разговаривали, и все было очень хорошо. Но, придя домой из МХАТа, я сел за стол и немедленно написал статью (она была опубликована в газете «Известия» 6 апреля 1995 года) под названием «Миф столетия, или Театр века». В ней были строчки: «Надо не знать истории МХАТа, чтобы позволить себе описать приход Ефремова во МХАТ, как это оскорбительно позволила себе молодой критик в газете «Аргументы и факты», она написала, что «во МХАТе Ефремов был воспринят как мальчишка-самозванец, ведь те, кто теперь надеялся на боевой задор «пятнадцатилетнего капитана», были когда-то его учителями. Для них он не был авторитетом: один знаменитый артист так и сказал после прихода Ефремова: «Ноги моей в театре не будет, пока отсюда не уберется этот чертов мальчишка». Писать об этом приходится только потому, что безграмотность пишущих о театре становится общим местом. То прославляется Немирович-Данченко за то, что уберег церковные колокола в 1949 году, хотя он умер в 1943-м, то появляется упомянутая статья, свидетельствующая о незнании театральной истории, уже сейчас в 2002 году появилась книга «100 великих театров мира», в ней написано: «Волчек, как в свое время Ефремов, отдавала дань времени – в «Современнике» ставили «Сталеваров» и «Секретаря парткома» Гельмана». Автор – некая К. Смолина. Безграмотность налицо: любой театральный человек знает, что «Сталевары» и «Секретарь парткома» – спектакли Олега Ефремова, поставленные во МХАТе. Если заняться ошибками и неточностями пишущих о театре мало причастных к нему людей, то невольно уйдешь в сторону.
Еще в 1966 году на заседании художественного руководства Ангелина Иосифовна Степанова предлагала Олега Ефремова, летом 1970 года Яншин пригласил Ефремова к себе в дом на обед, где за столом собрались почти все мхатовские старики, кроме Ливанова. Они и просили Олега Ефремова возглавить МХАТ. Ефремову было 43 года».
После этой публикации меня на следующий день вывели из состава редакционного совета газеты «Аргументы и факты», и отношения со Старковым фактически прекратились. Он очень обиделся, как я мог позволить себе критику в адрес его газеты, а Ефремов благодарил за статью. Все это было семь лет назад. Теперь уже нет Старкова в «Аргументах и фактах», умер великий Олег, и, как всегда бывает, когда человек умирает, видишь его во весь рост.
Редкие звонки Ефремова были всегда мне очень дороги. Его немногословие и содержательность того, что он говорил, всегда имели большую цену. Умный, сложный, непохожий на других, незаурядный человек огромного масштаба, какие редко рождаются на свет.
В Баку или в Москве у нас в доме всегда говорили о Художественном театре. Его любили папа, Ида, Белла, это был мир интеллигенции, в него стремились, мечтали попасть.
В годы Второй мировой войны в Баку был объявлен концерт артистов МХАТа, они приехали из Тбилиси, где жили в эвакуации. То был «золотой фонд» театра. Мне было одиннадцать лет, но я до сих пор помню, как Качалов читал сцену Барона и Сатина из «На дне», один за двоих. Книппер-Чехова с Юрием Недзвецким играли сцену из «Дядюшкиного сна». Шевченко и Тарханов показывали отрывок из «Горячего сердца». Успех был громадный, белый зал Бакинской филармонии – переполнен. Вышли на улицу, в кромешную темноту – в городе было затемнение, домой добирались пешком, трамваи ходили редко, но всех переполняло ощущение счастья.
У меня сохранились программки моих первых посещений МХАТа. Я уже учился в восьмом классе. Папа привез меня впервые в Москву – это было уже после войны – и достал билеты во МХАТ, тогда это было почти невозможно. Первый спектакль, который я видел во МХАТе, – «Мертвые души», шедшие в 402-й раз. В программке было написано: «По поэме Гоголя. Текст составлен Булгаковым», Чичикова играл Белокуров, Манилова – Кедров, губернатора – Станицын. В память врезался Ливанов в роли Ноздрева. Тогда еще народный артист РСФСР, лауреат Сталинских премий Б.Н. Ливанов. Его буйный актерский темперамент, острый внешний рисунок мгновенно завораживали зрительный зал. В этом спектакле я впервые увидел Лидию Михайловну Кореневу, знаменитую мхатовскую актрису дореволюционных лет, она играла Софию Ивановну, даму просто приятную, роль была крохотная.
На следующий день мы с отцом были на утреннем спектакле – «Дядюшкин сон» по Достоевскому. Марию Александровну Москалеву играла Вера Николаевна Попова, жена Кторова, замечательная актриса, оставившая сильное впечатление. Спектакль шел в 443-й раз, цифра стояла в программке, тогда это было принято. Мозглякова играл ныне забытый Юрий Недзвецкий (с ним очень любила выходить на сцену Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, первая исполнительница роли Москалевой), а Зинаиду – актриса необыкновенной красоты, с поразительно благородным и одухотворенным лицом. Это была Степанова, она мне казалась совсем молодой, хотя ей было уже более сорока лет, о чем я, конечно, не знал. Программка стоила сорок копеек, спектакль начинался в двенадцать часов дня, и в зале не было ни одного свободного места.
Листаю старенькую уцелевшую программку и читаю, кто был занят в спектакле: Попова, Степанова, Свободин (он играл старого князя), Истрин, Недзвецкий, Елина, Кнебель, Грибков, Хованская, Вронская, Шостко, Комолова, Людвигов, Дементьева, Берестова, Борташевич. Никого не осталось в живых, последней умерла Анна Михайловна Комолова, в 2001 году ей исполнилось девяносто лет, и она до недавнего времени все еще выходила на сцену в одном-единственном спектакле – «Татуированная роза» Теннесси Уильямса, идущем на Малой сцене МХАТа почти двадцать лет.
И тогда же я впервые увидел гениальные «Три сестры», легендарный спектакль Немировича-Данченко, поставленный им в 1940 году. Мы сидели с папой в четвертом ряду, был вторник, 4 июня 1946 года, в 254-й раз Станицын играл Андрея, а его жену Наталию Ивановну – Мария Андреевна Титова, не первая исполнительница этой роли, актриса яркая, с ладной фигурой и острым чувством юмора, она умерла в 1994 году в возрасте 95 лет. Состав был первоклассный: Маша – Тарасова, Ольга – Еланская, Ирина – Степанова. Кулыгина играл Василий Алексеевич Орлов, Вершининым в этот вечер был Ершов, а не первый исполнитель этой роли Михаил Болдуман. Соленый – Ливанов, Чебутыкин – Яншин (это была его неудача, его нельзя было сравнить с гениальным Чебутыкиным – Алексеем Грибовым), Федотик – Дорохин, Роде – Комиссаров, Ферапонт – Волков, Анфиса – Пузырева. Спектакль начинался в семь часов тридцать минут вечера. В программке было указано: «После начала спектакля вход в зрительный зал не разрешается», что неукоснительно соблюдалось.
Прошло столько лет, а я до сих пор помню, как бесшумный занавес открывал празднично светлую комнату с барскими окнами. Замечательно описала начало спектакля, пожалуй, самый выдающийся критик кино и театра Майя Туровская: узкая фигура Ирины – Степановой в белом платье, виолончельный голос Еланской – Ольги и лицо Тарасовой с вздрагивающими породистыми ноздрями.
Тарасова – Маша занимала все мое внимание. Тогда только-только на экранах появился фильм «Без вины виноватые» с Тарасовой в роли Кручининой, и успех у нее был громадный.
Это была актриса поразительной красоты и темперамента. Она сидела в кресле в черном платье и читала книгу, и весь зал ждал, когда она поднимет лицо и скажет первые слова роли: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том». Лучшей Маши я не видел никогда в жизни.
Последний акт. Березовая аллея, уходящая в глубину, надрывающий сердце марш и незабываемая интонация Тузенбаха: «Я не пил сегодня кофе. Скажешь, чтоб мне сварили». Жизнь, вложенная в одну незначащую фразу, как заметила Майя Туровская. (Тузенбаха играл в тот вечер забытый ныне артист Свободин: первый исполнитель роли, великий Хмелев, умер в 1945 году.) Потом выстрел – и метнувшаяся по аллее фигура Ирины. «Уходят наши. Ну что же… Счастливый им путь».
Наверное, не все играли одинаково, но мне казалось, что ничего более гармоничного и прекрасного я не видел никогда.
Потом я много раз видел «Три сестры»: у Товстоногова, у Ефремова, у Волчек, у Эфроса, у Любимова, у Питера Штайна, но ни разу не текли у меня слезы, горькие и сладкие, о чем-то совсем несбыточном. В последующие годы я много-много раз видел «Три сестры» Немировича-Данченко, естественно, спектакль дряхлел, но никогда не утрачивал благородства, и Маша – Тарасова, сыгравшая вместе со Степановой и Еланской «Три сестры» в последний раз в 1956 году, по-прежнему оставалась для меня единственной и великолепной. Незабываемые три актрисы в великом спектакле!
Сегодня, когда Тарасовой нет в живых (она умерла в 1973 году), когда прошло более полувека с того дня, когда я впервые увидел ее, в день ее столетнего юбилея в нашей печати появились статьи, резко ее критикующие. Талантливая и очень образованная Инна Соловьева в годы нашей близкой дружбы как-то призналась, что в молодости никогда не любила Тарасову, Бабанову и Раневскую, и острая на язык Марина Неелова, узнав об этом, заметила: «Как бы я хотела быть среди тех, кого не любит Инна Соловьева». Ее субъективизм оказался гибельным для молодого поколения, не видевших ни Тарасовой, ни Ливанова, ни Андровской, ни остальных мхатовских стариков. С годами так сложилось, что от любви или нелюбви Инны Соловьевой словно стала зависеть история старого Художественного театра, на ее работах учится молодежь, и все настоящее постепенно уходит в песок.
С МХАТом связано лучшее время моей московской жизни (в Москве я с 17 лет, когда приехал учиться в Университете). Помню, как у касс стояли толпы, как к пяти часам стекались зрители в поисках спекулянтов, чтобы достать билет, и «Анна Каренина», которую спустя пятьдесят лет после премьеры разругала новая критика, производила ошеломляющее впечатление.
С «Анной Карениной» произошла драматическая история. Ее сняли на телевидении в 1953 году. Тарасова была уже очень немолода – 55 лет. Снимать спектакли тогда телевидение не умело, оно только начинало свой путь в нашей стране. Когда мхатовцы увидели, что? получилось, они пришли в ужас. Это не имело никакого отношения к тому, что шло на сцене даже в те годы.
Зерно спектакля – это Анна, как писал когда-то Немирович-Данченко. Красота – живая, естественная, охваченная естественным горением, и рядом красивость – искусственная, выдуманная, порабощенная и убивающая. Живая, прекрасная правда – и мертвая, импозантная декорация.
Массовые сцены были поразительны, больше никто их так не ставил. Гостиная Бетси Тверской с темными стенами, огни свеч, лакеи бесшумно передвигают стулья, разносят чай. Блестят серебро самовара и прозрачный фарфор чайного сервиза. С появлением Бетси – Степановой на сцену накатывался воздух великосветских салонов императорского Петербурга, с их фарисейством, ложью и лицемерием. Знаменитая сцена скачек. Море кисеи, лент, перьев, зонтиков и цветов. На трибунах шумно, ждут начала скачек. Когда начинался заезд, разговоры прекращались. Сцены «Дворца» и «Театра» сливались не в иллюстрации к толстовскому роману, а в спектакль-роман. В нем сочетались пластика, живопись, строго мелодически построенная речь, ритм, динамика развития актерских образов.
Естественно, что с годами все изменилось. Бесспорные достижения терялись, персонажи, окружавшие Анну, превращались в привычный фон, однозначно демонстрирующий фарисейство и лицемерие великосветского Петербурга. Спектакль шел на сцене более тридцати лет. Но в годы моей юности он еще сохранял безупречность формы и пользовался огромным зрительским интересом. А на телевидении спектакль снимали, когда постановочная культура уже резко падала. Казалось, просьба мхатовцев не показывать фильм-спектакль «Анна Каренина» была уважена.
Но прошло почти пятьдесят лет после съемок, и его решили почему-то продемонстрировать на телевизионном экране, словно кто-то хотел умышленно дискредитировать старый Художественный театр. В результате сегодня в печати встречаю высказывания вроде того, что написал Андрей Житинкин: «Тарасовская версия Анны Карениной ужасающая». Сорокалетний режиссер даже не удосужился прочесть, что версия романа была создана Немировичем-Данченко и режиссером Сахновским, а инсценировку романа для МХАТа делал Николай Дмитриевич Волков. Тарасова была только исполнительницей роли. Что-то в этом же духе произнесла в интервью талантливая актриса Вахтанговского театра Юлия Рутберг, хотя любому человеку моего поколения очевидно, что никто из высказывающихся нынешних так называемых звезд близко не приближается талантом к Алле Константиновне Тарасовой. Возникло чувство, что это пренебрежительное отношение к актрисе, владевшей умами России в течение многих десятилетий, возникло как бы в отместку за ее громадный успех, за умение держать власть со сцены над зрительскими душами.
Вот и в этом году отмечали столетие со дня рождения первой звезды советского кино Любови Орловой. Ее знаменитые ленты «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Весна» и сегодня смотрят с превеликим удовольствием, только последние два фильма, в которых она снималась, были неудачны. После просмотра ленты «Скворец и Лира» Любовь Орлова просила ее никогда не показывать. Но именно «Скворца и Лиру» решили продемонстрировать в день ее столетия на Российском телевизионном канале, как будто кто-то преследует цель развенчать, уничтожить, сокрушить легенды прошлого века. Редкое неуважение к собственной истории и забвение того, что когда-то называли «правилами жизни».
На моих глазах разрушилась слава старого Художественного театра. Сильнейшее впечатление производила Фаина Васильевна Шевченко, я видел ее в «На дне», в «Горячем сердце» и в «Плодах просвещения». Каждый ее выход на сцену был событием. Сегодня страна боготворит гениальную Фаину Раневскую, ее все знают по кино, а Раневская с восторгом взирала на Шевченко, потому что Шевченко была актерская глыба не меньше, чем она сама. Но Шевченко давно умерла, о ней не пишут, не говорят, и имя ее известно только знатокам. Слава богу, что Раневскую снимали в кино и память о ней осталась дорога каждому.
Падение МХАТа началось в конце 40-х годов, он превратился в официальный театр. Это привело к тому, что игрались очень плохие пьесы, нужные сталинскому режиму. «Зеленая улица» Сурова, «Заговор обреченных» Вирты. Да и после смерти Сталина МХАТ продолжал ставить всякую чепуху: «Сердце не прощает» Софронова (главную роль играла Тарасова), «Илья Головин» Михалкова (пьеса о композиторах-космополитах: в образе Ильи Головина угадывался гениальный Шостакович) со Степановой, «Залп «Авроры» Большинцова и Чиаурели, бездарнейшая пьеса Якобсона «Ангел-хранитель из Небраски» – глупая, пошлая, откровенная агитка. Все это было. Но Тарасова и Степанова оставались большими актрисами. В самые трудные мхатовские годы на его сцене шли «Плоды просвещения», «Осенний сад», «Милый лжец», «Мария Стюарт».
Вот передо мной томик писем Пастернака жене. 9 февраля 1957 года Борис Леонидович пишет:
«Марию Стюарт», кажется, покажут в этом сезоне. Для меня это менее безразлично, чем в предшествующих случаях. Это все же в прошлом великий театр… и участники, что бы ни говорил Борис (Борис Николаевич Ливанов, друживший с Пастернаком и находившийся в конфликте с теми, кто был занят в «Марии Стюарт» в тот период. – В.В.), люди, избалованные судьбой, много видевшие и много сделавшие. Мне с ними очень хорошо. Эта среда родная, знакомая…
И в следующем письме от 13 февраля:
Вчера я с 10 утра до трех просидел во МХАТе. Тарасова играет с большим благородством и изяществом. Она совершенно овладела образом Марии и им прониклась так, что представление мое о Стюарт уже от нее неотделимо. Еще лучше играет, то есть пользуется возможностями, предоставляемыми текстом, Степанова, но это еще роль, а Тарасова уже реальное лицо, уже история. Обе очень большие, великие артистки. Мы слишком легко ко всему привыкаем, слишком скоро все забываем…
ЗИМы, ЗИСы и Татры.
Сдвинув полосы фар,