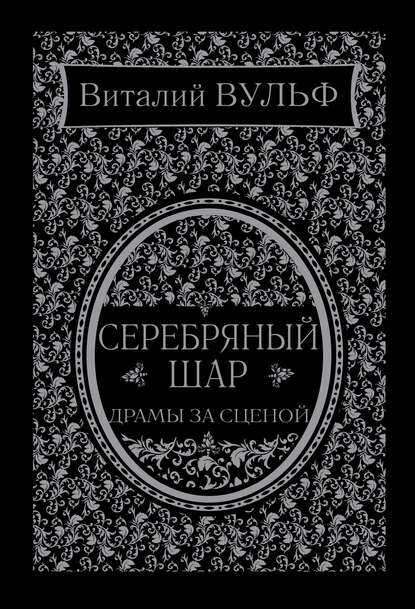По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Серебряный шар. Драма за сценой
Автор
Жанр
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В «Современнике» я проводил много времени. Сидел на репетициях Ефремова. Он ставил «Большевики» Шатрова. В те годы шатровские пьесы занимали Олега Николаевича. Помню, как, уже после премьеры, театр переживал предстоящее исключение Шатрова из партии. Он использовал один из документов Троцкого в новой пьесе. Кажется, она называлась «Один день» и рассказывала о дне рождения Ленина.
«Большевики» имели огромный успех, обсуждали не столько художественные особенности пьесы, сколько ее смысл. Зрители впервые слышали имена Енукидзе, Крестинского. Сегодня, спустя тридцать пять лет, и Шатров, и пьеса «Большевики» кажутся далеким прошлым, но тогда это было необычайно важно для интеллигенции. Ведь то было время, когда политика вмешивалась в человеческие отношения.
Спустя годы, в начале 80-х, уже на сцене МХАТа, Ефремов поставил пьесу Шатрова «Так победим», Ленина играл Калягин, со сцены звучало завещание вождя, и большинство впервые слышало документ, раскрывавший глаза тем, кто слепо верил той истории, которая была искажена в сталинские времена и продолжала восприниматься по старым канонам. Шатрова позже было принято ругать за искажение документов, выдумки, сочинительство, а на самом деле он сыграл немалую роль в изменении сознания. Ефремов увлекался его политическими пьесами. Он ненавидел режим, и пьесы Шатрова казались ему единственно смелыми и точными документальными драмами, которые могли повлиять на осознание того, во что большевики превратили страну.
Шатров был предан Ефремову. Потом, может быть, что-то и менялось в их отношениях, этого я не знаю, но в театре часто рвутся дружеские связи, а вчерашние недруги начинают благожелательно улыбаться, все бывает. Бесспорно одно: роль Михаила Шатрова в истории советского театра несомненна. Особенно пьеса «Большевики» (она имела второе название «Тридцатое августа»), в которой замечательно играли Евстигнеев Луначарского и Игорь Кваша – Свердлова, исправляла привычные шаблоны исторического знания.
У меня с Шатровым никогда не было близких дружеских отношений. Только живя в Нью-Йорке, когда я преподавал в Школе искусств Нью-Йоркского университета, ездил к нему и наблюдал его очень скромную жизнь в чужой стране. Мысли его были в Москве.
Когда к 75-летию Ефремова я сделал телевизионную передачу о Ефремове, для Шатрова у меня не нашлось места. По-моему, он очень огорчился и обиделся, а может быть, ему не понравилась сама передача. Все может быть, не знаю, но, встретив меня в «Современнике» на прекрасном вечере, посвященном 75-летию Ефремова (особенно сильное впечатление произвела фотовыставка – 75 ракурсов Олега Ефремова), Михаил Филиппович свирепо посмотрел и не поздоровался, а жаль. Но жизнь сама по себе – странная пьеса, и она довольно часто сбивается на фарс.
В 50-х и 60-х годах я продолжал жить чужими жизнями, в сущности, то было нелегкое для меня время, надежды войти профессионалом в мир театрального искусства у меня не было. Но случались и минуты упоения, как на юбилейном вечере Книппер-Чеховой.
Отмечали 90-летие Ольги Леонардовны. Она вышла на сцену в сопровождении двух красивых людей: Вадима Васильевича Шверубовича и Владимира Львовича Ершова. Потом сидела в ложе. Был очень трогательный момент, когда два молоденьких актера в костюмах Федотика и Родэ преподнесли ей записную книжку, карандашик и волчок: «Вот, между прочим, волчок… Удивительный звук…» И Ольга Леонардовна из ложи ответила словами Маши: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том… Златая цепь на дубе том… Ну зачем я это говорю? Привязалась ко мне эта фраза с самого утра…» Зал оцепенел и взорвался нескончаемой овацией.
Вишневские рассказывали, что после юбилейного вечера у нее дома собрались Журавлевы, Рихтер с Ниной Дорлиак, Степанова, Пилявская, Шверубовичи, пили водку. Ольга Леонардовна была весела и счастлива, а через два дня после юбилея заболела и слегла.
Умерла она в марте 1959 года. Помню, как ее хоронили. В зале МХАТа висел портрет Книппер-Чеховой в роли Раневской, сделанный художником Ульяновым, а под ним – вишни и кусты сирени, взятые из декораций «Вишневого сада». Трогательно выступали Степанова, Марков, Чирков и, к моему удивлению, Софронов от Союза писателей. Что-то было нехорошее в этом. Рыдали Тарасова, Коренева, Еланская, народу было несметное количество, уже кончилась панихида, а люди все шли и шли. Уходила эпоха…
Вишневские взяли меня с собой на похороны. Мы стояли почти у могилы, и я впервые увидел с близкого расстояния Софию Ивановну Бакланову, Шверубовича, Степанову, Пилявскую. Горько плакал Дмитрий Николаевич Журавлев, один из самых благородных людей, с которыми сталкивала меня жизнь.
Похоронили Ольгу Леонардовну в одной могиле с Чеховым.
Трудно было предположить, что пройдет пятнадцать лет, и я буду получать в день своего рождения поздравительные телеграммы от Степановой и Прудкина и интенсивная внешняя жизнь обернется другой стороной.
К работе на телевидении я пришел уже совсем другим человеком, хотя и не думал, что буду иметь свою программу, выходить регулярно в эфир и получать удовольствие от познания человеческих судеб. Жизнь не бывает идиллической, без мытарств ничего не происходит, просто надо обладать упорством, чтобы не поддаться хулам и похвалам.
За восемь лет «Серебряного шара» я со своей группой пережил многое: были и радостные времена, и грозовые тучи клубились над нами, но руководство всегда с пониманием относилось к тому, что я делаю. Пресловутый рейтинг имеет для каждого, кто работает на телевидении, большое значение, и надо было накопить опыт, чтобы понять, что нужно зрителю, что ему действительно интересно. Судьба успеха или неуспеха зависит порой от случайности. Сложность и легкость работы соседствуют друг с другом. Я не драматург и писать сценарии не умею, да и окрошка из прочитанных книг не приносит успешного результата. Импровизация хороша только тогда, когда ты много знаешь о человеке, чью судьбу исследуешь на экране. Мне запомнились и первые хвалебные отзывы в печати, и первые резко не принимающие меня. Всегда ведь находятся люди, не любящие тебя, как говорила Галина Волчек, только потому, что ты существуешь на свете. С годами уже ничему не удивляешься.
Недавно произошел забавный эпизод. В сентябре 2002 года вышла в эфир моя новая программа об Олеге Ефремове (я упоминал о ней выше): 1 октября ему должно было исполниться 75 лет. В день рождения Олега Николаевича я прочел статью А. Смелянского в газете «Московские новости» с выпадом против себя. Во МХАТе на вечере памяти Ефремова в этот же день автор прочел вслух свою статью из «Московских новостей». Я сидел в зрительном зале. На предложение «Московских новостей» ответить репликой в газете я отказался, это сделала моя телевизионная компания. В следующем номере «Московских новостей» (15-21 октября 2002 года) я прочел текст: «Выражаю надежду, что автор статьи А. Смелянский будет внимательно знакомиться с программами, которые он рецензирует, тогда не произойдет неловкости, когда ваша газета цитирует программу «Серебряный шар», указывая текст, который ведущий не произносил. Слов, приписанных автору и ведущему «Серебряного шара» в программе об О. Ефремове, нет. Следовательно, нет и поводов для полемики, не говоря уже об оскорбительных выводах…»
Еще раз убедился, что у меня есть друзья, готовые встать на мою защиту, хотя причины этого выпада меньше всего были связаны с телевизионной программой о Ефремове. Потом уже я узнал, что главный редактор «Московских новостей» две недели просил автора вымарать кусок обо мне, но Толя категорически отказался. По-видимому, этот абзац был ему гораздо важнее, чем вся статья о Ефремове.
Причины столь сильного раздражения совсем не просты, но об этом в следующей главе.
Удивительные загадки
В августе – сентябре 2001 года на страницах «Известий» были напечатаны главы из книги Анатолия Смелянского «Уходящая натура» о МХАТе 80—90-х годов. Журналист Юрий Богомолов сослужил автору явно дурную услугу, хотя действовал, наверное, из самых добрых побуждений. Взятые вне общего контекста, эти главы произвели дурное впечатление.
Публикация вызвала шум. В печати появились письма протеста. Особенно возмутила большинство глава «Когда разгуляется» об Олеге Ефремове. Против Смелянского выступили драматурги Михаил Рощин и Михаил Шатров, появилась глубокая, содержательная статья Натальи Казьминой, анализирующая взаимоотношения критики и театра, в частности и публикацию Смелянского. Артист Центрального театра Российской Армии Федор Чеханков на телевизионном экране спокойно и резко отозвался о прочитанном.
Началась «массированная атака» в защиту Смелянского. Он сам выступал и по радио, и по телевидению и доказывал, что хотел дать объемный портрет Ефремова и показать, что тот пил только потому, что был не в силах жить в условиях советского режима.
В начале декабря 2001 года «Известия» поместили полосу в защиту Смелянского под названием «Деграданс (Статусная интеллигенция не хочет приспосабливаться к новой реальности)». В ней принял участие министр культуры Михаил Швыдкой, написавший, что «не случайно методологически новаторская для российского искусства и жизнезнания книга А. Смелянского «Уходящая натура» вызвала такой дружный залп критики». Удивляться не приходилось, Смелянский на странице 64 своей книги не забыл упомянуть: «Миша Швыдкой – мой друг».
Юрий Богомолов обвинил творческую среду в отсутствии самостоятельной мысли, якобы «весь пар ее теперь уходит в раздражение и склоки», и не забыл сообщить, что «так называемая идеология шестидесятников – не более чем миф». Михаил Козаков восторженно объявил, что прочел книгу «на одном дыхании», и только мой одинокий голос выглядел на этой полосе чужеродным и отдельным. Журналист Богомолов не впервые выступает против меня. В юбилейные дни он в очередной раз взял интервью у А. Смелянского. Фраза о том, что «Ефремов был глубок как колодец», по мнению автора, есть пошлость. Цитата вновь исказила текст. Автор поставил себя еще раз в неловкое положение. Жаль, что незнакомый со мной Ю. Богомолов так легко идет навстречу этой надоевшей и никому не нужной «борьбе»…
Когда мне позвонил очень ценимый мною журналист Валерий Кичин и от имени Богомолова попросил высказаться, поскольку готовится подборка разных мнений, я не отказался и, конечно, попал в ловушку, поскольку разных мнений не было, все как одно были подобраны для того, чтобы защитить автора.
Мой текст был кратким: «Книга Анатолия Смелянского «Уходящая натура», главы из которой были напечатаны в «Известиях», для меня явление загадочное. В талантливом тексте – непривычная желтизна. Поражает, как автор расправляется с теми, кто его не любил. Так достается, к примеру, Ангелине Степановой. Да, она не любила Смелянского, хотя признавала, что он умен и талантлив. Но никогда не позволяла себе по отношению к нему того оскорбительного тона, в каком он написал о последней из великих мхатовских актрис… Особенное возмущение вызвала глава об Олеге Ефремове. Самое любопытное, что все написанное – абсолютная правда и неправда одновременно. Талант и величие Ефремова, одного из самых противоречивых, честных и чистых людей театра, не позволяли при его жизни обсуждать издержки его натуры. И вот через год после его смерти человек, который считался его правой рукой, обязанный Ефремову своей карьерой, публикует подобное. «Никакое иное слово не имеет столько значений в театральном словаре, как слово «предательство», – заключает Смелянский одну из глав. Так автор сам определил сделанное им».
Смелянский искренне заметил: «Я не хотел скандала. Я не Караулов и не искал «моментов истины» в недуге Ефремова», – и я ему верю.
Прочтя книгу, понимаю, что нельзя было публиковать отдельные ее главы, она написана легко и мастерски с литературной точки зрения, хотя в ней нет ни подтекстов, ни сгущенной событийности, а только сатирические краски, насмешка и незримое соревнование с булгаковским «Театральным романом». Книга бесспорно должна нравиться всем, кто не был близок к Художественному театру и кому он не был дорог. Она едкая и ироничная, и автор безжалостно рисует портреты умерших людей, которые не могут ему ответить. При их жизни он бы вряд ли ее написал, затемняя и опуская все положительные стороны и, по сути, очень поверхностно рассказывая о том, чему был свидетель. В главе о «Так победим» Шатрова он умышленно опускает собственную роль при постановке пьесы, а ведь движущей пружиной был он, и я отчетливо помню, как Смелянский в тот период был неразлучен с Шатровым и Ефремовым.
К сожалению, то, что составляло полноту и радостную содержательность мхатовской жизни в ефремовские времена, в «Уходящей натуре» осталось за скобками.
Когда Анатолий Смелянский пришел во МХАТ (это был 1980 год), мы довольно много общались. Моя близость к Ефремову, к Ирине Григорьевне Егоровой (секретарь Олега Николаевича), дружба с Леонидом Эрманом (в те годы заместитель директора МХАТа) определяли его внешне дружеское отношение ко мне. В 1985 году – после выхода моей книги о Степановой – отношения испортились навсегда. Причина была пустяковая и непустяковая.
Анатолий Миронович писал книгу о Булгакове «Булгаков в Художественном театре», я готовил «А.И. Степанова – актриса Художественного театра». (Очень дорога мне рецензия на нее, написанная Инной Соловьевой в журнале «Театр».) В 1985 году был степановский юбилей, ей исполнилось 80 лет, и издательство «Искусство» торопилось с выходом книги. На юбилейном вечере (он проходил в здании МХАТа имени Горького на Тверском бульваре, это было еще до переезда в Камергерский переулок) я заметил какой-то холодок к себе со стороны Ефремова. Удивился, что, говоря о книге «А.И. Степанова – актриса Художественного театра», он не упомянул фамилии автора, но Алла Демидова, сидевшая рядом со мной, шепнула: «Не обращайте внимания». И только потом я узнал, что Смелянский обвинил меня в том, что, прочтя его рукопись, я использовал его «открытие» о том, как Станиславский был отстранен от работы над пьесой Булгакова «Мольер». Темы действительно пересекались. Степанова была занята в «Мольере», играла Арманду, а Анатолий Смелянский занимался судьбой Булгакова в Художественном театре.
Пересекающийся сюжет слагался из того, что Станиславский продолжал упорно репетировать «Мольера» в Леонтьевском переулке, а за его спиной решался вопрос о том, кто будет выпускать пьесу вместо него. Станиславский репетировал около четырех лет. 28 мая 1935 года репетиции в Леонтьевском переулке были отменены, и руководство выпуском спектакля взял на себя Немирович-Данченко. То была последняя режиссерская работа Константина Сергеевича во МХАТе. В своем театре он оказался никому не нужным, больше он в нем не бывал. Вся эта история с отстранением Станиславского была в кругах старых мхатовцев очень широко известна.
Смелянский – не знаю, из каких соображений – настроил против меня очень много театральных критиков и специалистов, оскорбленных за него моим поступком. Наверное, ему мешало мое слишком частое присутствие в театре, в котором он выстраивал свою судьбу и не хотел, чтобы кто-то был рядом. Короче, я ничего об этом не знал.
Однажды мне позвонил ныне покойный Евгений Данилович Сурков[3 - Один из ведущих (в т. ч. в смысле официального статуса) советских критиков.] – человек талантливый, образованный, крайне противоречивый, подвергаемый сегодня резкой критике за свое абсолютное служение советскому режиму (этим занимаются те, кто служили ему с не меньшим рвением, чем Сурков), – и рассказал, что в Ленинграде на какой-то очередной театральной конференции Смелянский сообщил, что я использовал его рукопись в своей только что вышедшей книге. И вот теперь Сурков хотел задать мне вопрос, как это могло произойти. Я стоял у телефона ошеломленный, в сознании сразу промелькнули обрывки разговоров, холодок Ефремова и прочее, но взял себя в руки и попросил Суркова посмотреть на оборотную сторону титульного листа моей книги, а потом уже беседовать со мной. Он подошел к телефону через несколько минут и извиняющимся тоном произнес:
– Какая же все-таки это гнусная история. Типично театральная пакость.
Он увидел, что рецензентами моей книги о Степановой были три человека: Ираклий Андроников, Елена Ивановна Полякова (старый знаток русского театра) и Анатолий Смелянский.
Естественно, разговоры после этого постепенно умолкли, у меня с Толей было резкое объяснение, Ирина Григорьевна Егорова открыла дверь кабинета Ефремова и оставила нас вдвоем, разговор был громкий и бессмысленный, после чего общаться мы перестали и не раскланивались много лет.
С годами вся эта история забылась и показалась не стоящей внимания. Были еще какие-то взаимные уколы и выпады в прессе, на один из них я ответил статьей под названием «Ускользающая репутация» в газете «Культура», не думая, что пройдет два года, и многие после публикации глав из книги «Уходящая натура» в «Известиях» станут вспоминать не столько мою статью, сколько ее название.
Виделись мы со Смелянским все эти годы редко – жили в разных мирах, и на отношения все эти «выпады» не влияли. На похоронах Ефремова расстроенный и помятый от случившегося несчастья Анатолий мне сказал: «Как Олег хотел, чтобы мы помирились!» – и мы дружески обняли друг друга. Это было за кулисами МХАТа, на сцене стоял гроб, около него сидели Настя и Миша Ефремовы, вокруг плакали люди, рыдали Леня Эрман, Нина Дорошина, у Игоря Кваши было белое лицо, как каменная стояла Алла Покровская, у микрофона выступали Рощин, Розов, предложивший переименовать «Современник» в Театр имени Ефремова, Волчек, Захаров, Ульянов, зал был переполнен, а на улице стояла длинная очередь тех, кто хотел поклониться великому деятелю театра. Очередь была бесконечна, ощущалось, что все театральные и нетеатральные люди осознали: произошла непоправимая беда. Ушел создатель «Современника», человек, воспитавший поколение первоклассных актеров, творец новой театральной эстетики и нового мировосприятия, режиссер, чьи спектакли остались в истории театра.
Слишком дороги мне ушедшие из жизни Ангелина Иосифовна Степанова и Олег Ефремов и сам старый МХАТ, чтобы я промолчал по поводу книги Смелянского.
На странице 107 я прочел: «Сотрудник Института международного рабочего движения и переводчик Виталий Вульф» и больше ничего. Как будто не было слияния душ в день похорон Олега и не высказанного вслух решения не царапать друг друга. Все, что написал обо мне Смелянский, – правда и… неправда одновременно, как и многие страницы его книги.
Я действительно тридцать один год проработал научным сотрудником в этом институте Академии наук, защитил в нем докторскую диссертацию, одновременно переводил, писал статьи и книги о театре, много выступал в разных городах страны и с 1990 года стал работать на телевидении. Работа в институте все меньше и меньше занимала меня, и после возвращения из США, где два года я преподавал в Нью-Йоркском университете историю русского театра, читая курсы: «Чехов и театр», «Сталин и театр», «Теннесси Уильямс в России», телевидение поглотило меня целиком.
Коротенькая фраза Толи Смелянского напомнила мне и жизнь в 60-е годы, и мой институт, имевший столь «страшное» и, главное, непонятное название, а на самом деле бывший одним из самых значительных интеллектуальных центров Москвы в 60-е, 70-е и 80-е годы.
В 1962 году я защитил диссертацию на соискание степени кандидата юридических наук и остался в Москве практически без работы. Было очень трудно. Снимал комнаты, углы, что-то зарабатывал, короче, первые пять лет московской жизни не очень хочется вспоминать. Почти все свободное время – а его было очень много – я проводил в любимом театре «Современник». С театром я познакомился в Баку, куда приехал к маме. В это время там шли гастроли театра.
Гастроли проходили в помещениях Русского драматического театра имени С. Вургуна и клуба Ф. Дзержинского. Играли спектакли «Два цвета» Зака и Кузнецова, «Голый король» Шварца, «Четвертый» Симонова, «Никто» Эдуардо де Филиппо, «Пять вечеров» Володина, «Друг детства» Львовского, «Пятая колонна» Хемингуэя, «Старшая сестра» Володина с Лилей Толмачевой в главной роли (она в те годы была «первой актрисой» театра, хотя вроде «первых» не было, все были равны, но Толмачева в те годы играла все главные роли), «По московскому времени» Зорина и сказку Олега Табакова и Льва Устинова «Белоснежка и семь гномов». Успех был ошеломляющий.
Работавший тогда в «Современнике» Анатолий Адоскин (ныне артист Театра имени Моссовета) познакомил меня с Леней Эрманом, Галей Волчек, Лилей Толмачевой, Олегом Ефремовым, и я увлекся театром, мне казалось тогда, на всю оставшуюся жизнь.
Приехав в Москву, я стал часто приходить на площадь Маяковского (театр находился там, где теперь стоянка автомобилей), и это спасало меня. Театр был родным домом. Я жил его победами и поражениями. Научился подтрунивать над собой, еще не сознавая, что надо преуспеть в новом жанре – молчании. Дружил не только с актерами. Любил общаться с реквизиторшей Лизой Никитиной, яркой, хитрой, теплой и доброй женщиной. Елизавета Федоровна умерла летом 2002 года, последние два года болела, не работала. Ее хоронили, когда театр был в отпуске, и на сборе труппы нового сезона даже не вспомнили о «толстой Лизе» с ее острым языком, любившей «Современник» с той страстью, какая живет в людях, когда они увлечены делом. Естественно, то был другой «Современник», богом, идолом, кумиром и хозяином его был один человек – Олег Ефремов.
Но театр – театром, а надо было работать. Со временем у меня появилась маленькая однокомнатная квартира (ее помог получить все тот же «Современник»), мама переехала в Москву, а я все мыкался без дела, что-то писал, переводил, числился в Московской коллегии адвокатов и изредка вел какие-то дела.
Москва менялась на глазах. Я невольно сравнивал годы, когда учился в МГУ и кончал его. Тусклый период. Потом наступила «оттепель». Было очевидно, что старая логика обанкротилась. В театральной Москве гремели «Современник» и «Таганка», Анатолий Эфрос становился кумиром интеллигенции, великолепно работало кино, журнал «Новый мир» определял мысли и настроения. Кипела жизнь, я в ней не принимал участия. Не было душевного спокойствия, и мучили бытовые проблемы. Именно тогда я привык ничего не перекладывать на других.
Радости были связаны с искусством. Концерт Марлен Дитрих в Театре эстрады, Олег Ефремов отдал мне свой билет. На сцену вышла «звезда» с маленьким голосом, умным, выразительным лицом и небывалым обаянием. После концерта хотелось жить. Помню, как был опечален, что не достал билет на юбилейный вечер Данте в Большом театре, мечтал увидеть Ахматову, она выступала на этом вечере.
«Большевики» имели огромный успех, обсуждали не столько художественные особенности пьесы, сколько ее смысл. Зрители впервые слышали имена Енукидзе, Крестинского. Сегодня, спустя тридцать пять лет, и Шатров, и пьеса «Большевики» кажутся далеким прошлым, но тогда это было необычайно важно для интеллигенции. Ведь то было время, когда политика вмешивалась в человеческие отношения.
Спустя годы, в начале 80-х, уже на сцене МХАТа, Ефремов поставил пьесу Шатрова «Так победим», Ленина играл Калягин, со сцены звучало завещание вождя, и большинство впервые слышало документ, раскрывавший глаза тем, кто слепо верил той истории, которая была искажена в сталинские времена и продолжала восприниматься по старым канонам. Шатрова позже было принято ругать за искажение документов, выдумки, сочинительство, а на самом деле он сыграл немалую роль в изменении сознания. Ефремов увлекался его политическими пьесами. Он ненавидел режим, и пьесы Шатрова казались ему единственно смелыми и точными документальными драмами, которые могли повлиять на осознание того, во что большевики превратили страну.
Шатров был предан Ефремову. Потом, может быть, что-то и менялось в их отношениях, этого я не знаю, но в театре часто рвутся дружеские связи, а вчерашние недруги начинают благожелательно улыбаться, все бывает. Бесспорно одно: роль Михаила Шатрова в истории советского театра несомненна. Особенно пьеса «Большевики» (она имела второе название «Тридцатое августа»), в которой замечательно играли Евстигнеев Луначарского и Игорь Кваша – Свердлова, исправляла привычные шаблоны исторического знания.
У меня с Шатровым никогда не было близких дружеских отношений. Только живя в Нью-Йорке, когда я преподавал в Школе искусств Нью-Йоркского университета, ездил к нему и наблюдал его очень скромную жизнь в чужой стране. Мысли его были в Москве.
Когда к 75-летию Ефремова я сделал телевизионную передачу о Ефремове, для Шатрова у меня не нашлось места. По-моему, он очень огорчился и обиделся, а может быть, ему не понравилась сама передача. Все может быть, не знаю, но, встретив меня в «Современнике» на прекрасном вечере, посвященном 75-летию Ефремова (особенно сильное впечатление произвела фотовыставка – 75 ракурсов Олега Ефремова), Михаил Филиппович свирепо посмотрел и не поздоровался, а жаль. Но жизнь сама по себе – странная пьеса, и она довольно часто сбивается на фарс.
В 50-х и 60-х годах я продолжал жить чужими жизнями, в сущности, то было нелегкое для меня время, надежды войти профессионалом в мир театрального искусства у меня не было. Но случались и минуты упоения, как на юбилейном вечере Книппер-Чеховой.
Отмечали 90-летие Ольги Леонардовны. Она вышла на сцену в сопровождении двух красивых людей: Вадима Васильевича Шверубовича и Владимира Львовича Ершова. Потом сидела в ложе. Был очень трогательный момент, когда два молоденьких актера в костюмах Федотика и Родэ преподнесли ей записную книжку, карандашик и волчок: «Вот, между прочим, волчок… Удивительный звук…» И Ольга Леонардовна из ложи ответила словами Маши: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том… Златая цепь на дубе том… Ну зачем я это говорю? Привязалась ко мне эта фраза с самого утра…» Зал оцепенел и взорвался нескончаемой овацией.
Вишневские рассказывали, что после юбилейного вечера у нее дома собрались Журавлевы, Рихтер с Ниной Дорлиак, Степанова, Пилявская, Шверубовичи, пили водку. Ольга Леонардовна была весела и счастлива, а через два дня после юбилея заболела и слегла.
Умерла она в марте 1959 года. Помню, как ее хоронили. В зале МХАТа висел портрет Книппер-Чеховой в роли Раневской, сделанный художником Ульяновым, а под ним – вишни и кусты сирени, взятые из декораций «Вишневого сада». Трогательно выступали Степанова, Марков, Чирков и, к моему удивлению, Софронов от Союза писателей. Что-то было нехорошее в этом. Рыдали Тарасова, Коренева, Еланская, народу было несметное количество, уже кончилась панихида, а люди все шли и шли. Уходила эпоха…
Вишневские взяли меня с собой на похороны. Мы стояли почти у могилы, и я впервые увидел с близкого расстояния Софию Ивановну Бакланову, Шверубовича, Степанову, Пилявскую. Горько плакал Дмитрий Николаевич Журавлев, один из самых благородных людей, с которыми сталкивала меня жизнь.
Похоронили Ольгу Леонардовну в одной могиле с Чеховым.
Трудно было предположить, что пройдет пятнадцать лет, и я буду получать в день своего рождения поздравительные телеграммы от Степановой и Прудкина и интенсивная внешняя жизнь обернется другой стороной.
К работе на телевидении я пришел уже совсем другим человеком, хотя и не думал, что буду иметь свою программу, выходить регулярно в эфир и получать удовольствие от познания человеческих судеб. Жизнь не бывает идиллической, без мытарств ничего не происходит, просто надо обладать упорством, чтобы не поддаться хулам и похвалам.
За восемь лет «Серебряного шара» я со своей группой пережил многое: были и радостные времена, и грозовые тучи клубились над нами, но руководство всегда с пониманием относилось к тому, что я делаю. Пресловутый рейтинг имеет для каждого, кто работает на телевидении, большое значение, и надо было накопить опыт, чтобы понять, что нужно зрителю, что ему действительно интересно. Судьба успеха или неуспеха зависит порой от случайности. Сложность и легкость работы соседствуют друг с другом. Я не драматург и писать сценарии не умею, да и окрошка из прочитанных книг не приносит успешного результата. Импровизация хороша только тогда, когда ты много знаешь о человеке, чью судьбу исследуешь на экране. Мне запомнились и первые хвалебные отзывы в печати, и первые резко не принимающие меня. Всегда ведь находятся люди, не любящие тебя, как говорила Галина Волчек, только потому, что ты существуешь на свете. С годами уже ничему не удивляешься.
Недавно произошел забавный эпизод. В сентябре 2002 года вышла в эфир моя новая программа об Олеге Ефремове (я упоминал о ней выше): 1 октября ему должно было исполниться 75 лет. В день рождения Олега Николаевича я прочел статью А. Смелянского в газете «Московские новости» с выпадом против себя. Во МХАТе на вечере памяти Ефремова в этот же день автор прочел вслух свою статью из «Московских новостей». Я сидел в зрительном зале. На предложение «Московских новостей» ответить репликой в газете я отказался, это сделала моя телевизионная компания. В следующем номере «Московских новостей» (15-21 октября 2002 года) я прочел текст: «Выражаю надежду, что автор статьи А. Смелянский будет внимательно знакомиться с программами, которые он рецензирует, тогда не произойдет неловкости, когда ваша газета цитирует программу «Серебряный шар», указывая текст, который ведущий не произносил. Слов, приписанных автору и ведущему «Серебряного шара» в программе об О. Ефремове, нет. Следовательно, нет и поводов для полемики, не говоря уже об оскорбительных выводах…»
Еще раз убедился, что у меня есть друзья, готовые встать на мою защиту, хотя причины этого выпада меньше всего были связаны с телевизионной программой о Ефремове. Потом уже я узнал, что главный редактор «Московских новостей» две недели просил автора вымарать кусок обо мне, но Толя категорически отказался. По-видимому, этот абзац был ему гораздо важнее, чем вся статья о Ефремове.
Причины столь сильного раздражения совсем не просты, но об этом в следующей главе.
Удивительные загадки
В августе – сентябре 2001 года на страницах «Известий» были напечатаны главы из книги Анатолия Смелянского «Уходящая натура» о МХАТе 80—90-х годов. Журналист Юрий Богомолов сослужил автору явно дурную услугу, хотя действовал, наверное, из самых добрых побуждений. Взятые вне общего контекста, эти главы произвели дурное впечатление.
Публикация вызвала шум. В печати появились письма протеста. Особенно возмутила большинство глава «Когда разгуляется» об Олеге Ефремове. Против Смелянского выступили драматурги Михаил Рощин и Михаил Шатров, появилась глубокая, содержательная статья Натальи Казьминой, анализирующая взаимоотношения критики и театра, в частности и публикацию Смелянского. Артист Центрального театра Российской Армии Федор Чеханков на телевизионном экране спокойно и резко отозвался о прочитанном.
Началась «массированная атака» в защиту Смелянского. Он сам выступал и по радио, и по телевидению и доказывал, что хотел дать объемный портрет Ефремова и показать, что тот пил только потому, что был не в силах жить в условиях советского режима.
В начале декабря 2001 года «Известия» поместили полосу в защиту Смелянского под названием «Деграданс (Статусная интеллигенция не хочет приспосабливаться к новой реальности)». В ней принял участие министр культуры Михаил Швыдкой, написавший, что «не случайно методологически новаторская для российского искусства и жизнезнания книга А. Смелянского «Уходящая натура» вызвала такой дружный залп критики». Удивляться не приходилось, Смелянский на странице 64 своей книги не забыл упомянуть: «Миша Швыдкой – мой друг».
Юрий Богомолов обвинил творческую среду в отсутствии самостоятельной мысли, якобы «весь пар ее теперь уходит в раздражение и склоки», и не забыл сообщить, что «так называемая идеология шестидесятников – не более чем миф». Михаил Козаков восторженно объявил, что прочел книгу «на одном дыхании», и только мой одинокий голос выглядел на этой полосе чужеродным и отдельным. Журналист Богомолов не впервые выступает против меня. В юбилейные дни он в очередной раз взял интервью у А. Смелянского. Фраза о том, что «Ефремов был глубок как колодец», по мнению автора, есть пошлость. Цитата вновь исказила текст. Автор поставил себя еще раз в неловкое положение. Жаль, что незнакомый со мной Ю. Богомолов так легко идет навстречу этой надоевшей и никому не нужной «борьбе»…
Когда мне позвонил очень ценимый мною журналист Валерий Кичин и от имени Богомолова попросил высказаться, поскольку готовится подборка разных мнений, я не отказался и, конечно, попал в ловушку, поскольку разных мнений не было, все как одно были подобраны для того, чтобы защитить автора.
Мой текст был кратким: «Книга Анатолия Смелянского «Уходящая натура», главы из которой были напечатаны в «Известиях», для меня явление загадочное. В талантливом тексте – непривычная желтизна. Поражает, как автор расправляется с теми, кто его не любил. Так достается, к примеру, Ангелине Степановой. Да, она не любила Смелянского, хотя признавала, что он умен и талантлив. Но никогда не позволяла себе по отношению к нему того оскорбительного тона, в каком он написал о последней из великих мхатовских актрис… Особенное возмущение вызвала глава об Олеге Ефремове. Самое любопытное, что все написанное – абсолютная правда и неправда одновременно. Талант и величие Ефремова, одного из самых противоречивых, честных и чистых людей театра, не позволяли при его жизни обсуждать издержки его натуры. И вот через год после его смерти человек, который считался его правой рукой, обязанный Ефремову своей карьерой, публикует подобное. «Никакое иное слово не имеет столько значений в театральном словаре, как слово «предательство», – заключает Смелянский одну из глав. Так автор сам определил сделанное им».
Смелянский искренне заметил: «Я не хотел скандала. Я не Караулов и не искал «моментов истины» в недуге Ефремова», – и я ему верю.
Прочтя книгу, понимаю, что нельзя было публиковать отдельные ее главы, она написана легко и мастерски с литературной точки зрения, хотя в ней нет ни подтекстов, ни сгущенной событийности, а только сатирические краски, насмешка и незримое соревнование с булгаковским «Театральным романом». Книга бесспорно должна нравиться всем, кто не был близок к Художественному театру и кому он не был дорог. Она едкая и ироничная, и автор безжалостно рисует портреты умерших людей, которые не могут ему ответить. При их жизни он бы вряд ли ее написал, затемняя и опуская все положительные стороны и, по сути, очень поверхностно рассказывая о том, чему был свидетель. В главе о «Так победим» Шатрова он умышленно опускает собственную роль при постановке пьесы, а ведь движущей пружиной был он, и я отчетливо помню, как Смелянский в тот период был неразлучен с Шатровым и Ефремовым.
К сожалению, то, что составляло полноту и радостную содержательность мхатовской жизни в ефремовские времена, в «Уходящей натуре» осталось за скобками.
Когда Анатолий Смелянский пришел во МХАТ (это был 1980 год), мы довольно много общались. Моя близость к Ефремову, к Ирине Григорьевне Егоровой (секретарь Олега Николаевича), дружба с Леонидом Эрманом (в те годы заместитель директора МХАТа) определяли его внешне дружеское отношение ко мне. В 1985 году – после выхода моей книги о Степановой – отношения испортились навсегда. Причина была пустяковая и непустяковая.
Анатолий Миронович писал книгу о Булгакове «Булгаков в Художественном театре», я готовил «А.И. Степанова – актриса Художественного театра». (Очень дорога мне рецензия на нее, написанная Инной Соловьевой в журнале «Театр».) В 1985 году был степановский юбилей, ей исполнилось 80 лет, и издательство «Искусство» торопилось с выходом книги. На юбилейном вечере (он проходил в здании МХАТа имени Горького на Тверском бульваре, это было еще до переезда в Камергерский переулок) я заметил какой-то холодок к себе со стороны Ефремова. Удивился, что, говоря о книге «А.И. Степанова – актриса Художественного театра», он не упомянул фамилии автора, но Алла Демидова, сидевшая рядом со мной, шепнула: «Не обращайте внимания». И только потом я узнал, что Смелянский обвинил меня в том, что, прочтя его рукопись, я использовал его «открытие» о том, как Станиславский был отстранен от работы над пьесой Булгакова «Мольер». Темы действительно пересекались. Степанова была занята в «Мольере», играла Арманду, а Анатолий Смелянский занимался судьбой Булгакова в Художественном театре.
Пересекающийся сюжет слагался из того, что Станиславский продолжал упорно репетировать «Мольера» в Леонтьевском переулке, а за его спиной решался вопрос о том, кто будет выпускать пьесу вместо него. Станиславский репетировал около четырех лет. 28 мая 1935 года репетиции в Леонтьевском переулке были отменены, и руководство выпуском спектакля взял на себя Немирович-Данченко. То была последняя режиссерская работа Константина Сергеевича во МХАТе. В своем театре он оказался никому не нужным, больше он в нем не бывал. Вся эта история с отстранением Станиславского была в кругах старых мхатовцев очень широко известна.
Смелянский – не знаю, из каких соображений – настроил против меня очень много театральных критиков и специалистов, оскорбленных за него моим поступком. Наверное, ему мешало мое слишком частое присутствие в театре, в котором он выстраивал свою судьбу и не хотел, чтобы кто-то был рядом. Короче, я ничего об этом не знал.
Однажды мне позвонил ныне покойный Евгений Данилович Сурков[3 - Один из ведущих (в т. ч. в смысле официального статуса) советских критиков.] – человек талантливый, образованный, крайне противоречивый, подвергаемый сегодня резкой критике за свое абсолютное служение советскому режиму (этим занимаются те, кто служили ему с не меньшим рвением, чем Сурков), – и рассказал, что в Ленинграде на какой-то очередной театральной конференции Смелянский сообщил, что я использовал его рукопись в своей только что вышедшей книге. И вот теперь Сурков хотел задать мне вопрос, как это могло произойти. Я стоял у телефона ошеломленный, в сознании сразу промелькнули обрывки разговоров, холодок Ефремова и прочее, но взял себя в руки и попросил Суркова посмотреть на оборотную сторону титульного листа моей книги, а потом уже беседовать со мной. Он подошел к телефону через несколько минут и извиняющимся тоном произнес:
– Какая же все-таки это гнусная история. Типично театральная пакость.
Он увидел, что рецензентами моей книги о Степановой были три человека: Ираклий Андроников, Елена Ивановна Полякова (старый знаток русского театра) и Анатолий Смелянский.
Естественно, разговоры после этого постепенно умолкли, у меня с Толей было резкое объяснение, Ирина Григорьевна Егорова открыла дверь кабинета Ефремова и оставила нас вдвоем, разговор был громкий и бессмысленный, после чего общаться мы перестали и не раскланивались много лет.
С годами вся эта история забылась и показалась не стоящей внимания. Были еще какие-то взаимные уколы и выпады в прессе, на один из них я ответил статьей под названием «Ускользающая репутация» в газете «Культура», не думая, что пройдет два года, и многие после публикации глав из книги «Уходящая натура» в «Известиях» станут вспоминать не столько мою статью, сколько ее название.
Виделись мы со Смелянским все эти годы редко – жили в разных мирах, и на отношения все эти «выпады» не влияли. На похоронах Ефремова расстроенный и помятый от случившегося несчастья Анатолий мне сказал: «Как Олег хотел, чтобы мы помирились!» – и мы дружески обняли друг друга. Это было за кулисами МХАТа, на сцене стоял гроб, около него сидели Настя и Миша Ефремовы, вокруг плакали люди, рыдали Леня Эрман, Нина Дорошина, у Игоря Кваши было белое лицо, как каменная стояла Алла Покровская, у микрофона выступали Рощин, Розов, предложивший переименовать «Современник» в Театр имени Ефремова, Волчек, Захаров, Ульянов, зал был переполнен, а на улице стояла длинная очередь тех, кто хотел поклониться великому деятелю театра. Очередь была бесконечна, ощущалось, что все театральные и нетеатральные люди осознали: произошла непоправимая беда. Ушел создатель «Современника», человек, воспитавший поколение первоклассных актеров, творец новой театральной эстетики и нового мировосприятия, режиссер, чьи спектакли остались в истории театра.
Слишком дороги мне ушедшие из жизни Ангелина Иосифовна Степанова и Олег Ефремов и сам старый МХАТ, чтобы я промолчал по поводу книги Смелянского.
На странице 107 я прочел: «Сотрудник Института международного рабочего движения и переводчик Виталий Вульф» и больше ничего. Как будто не было слияния душ в день похорон Олега и не высказанного вслух решения не царапать друг друга. Все, что написал обо мне Смелянский, – правда и… неправда одновременно, как и многие страницы его книги.
Я действительно тридцать один год проработал научным сотрудником в этом институте Академии наук, защитил в нем докторскую диссертацию, одновременно переводил, писал статьи и книги о театре, много выступал в разных городах страны и с 1990 года стал работать на телевидении. Работа в институте все меньше и меньше занимала меня, и после возвращения из США, где два года я преподавал в Нью-Йоркском университете историю русского театра, читая курсы: «Чехов и театр», «Сталин и театр», «Теннесси Уильямс в России», телевидение поглотило меня целиком.
Коротенькая фраза Толи Смелянского напомнила мне и жизнь в 60-е годы, и мой институт, имевший столь «страшное» и, главное, непонятное название, а на самом деле бывший одним из самых значительных интеллектуальных центров Москвы в 60-е, 70-е и 80-е годы.
В 1962 году я защитил диссертацию на соискание степени кандидата юридических наук и остался в Москве практически без работы. Было очень трудно. Снимал комнаты, углы, что-то зарабатывал, короче, первые пять лет московской жизни не очень хочется вспоминать. Почти все свободное время – а его было очень много – я проводил в любимом театре «Современник». С театром я познакомился в Баку, куда приехал к маме. В это время там шли гастроли театра.
Гастроли проходили в помещениях Русского драматического театра имени С. Вургуна и клуба Ф. Дзержинского. Играли спектакли «Два цвета» Зака и Кузнецова, «Голый король» Шварца, «Четвертый» Симонова, «Никто» Эдуардо де Филиппо, «Пять вечеров» Володина, «Друг детства» Львовского, «Пятая колонна» Хемингуэя, «Старшая сестра» Володина с Лилей Толмачевой в главной роли (она в те годы была «первой актрисой» театра, хотя вроде «первых» не было, все были равны, но Толмачева в те годы играла все главные роли), «По московскому времени» Зорина и сказку Олега Табакова и Льва Устинова «Белоснежка и семь гномов». Успех был ошеломляющий.
Работавший тогда в «Современнике» Анатолий Адоскин (ныне артист Театра имени Моссовета) познакомил меня с Леней Эрманом, Галей Волчек, Лилей Толмачевой, Олегом Ефремовым, и я увлекся театром, мне казалось тогда, на всю оставшуюся жизнь.
Приехав в Москву, я стал часто приходить на площадь Маяковского (театр находился там, где теперь стоянка автомобилей), и это спасало меня. Театр был родным домом. Я жил его победами и поражениями. Научился подтрунивать над собой, еще не сознавая, что надо преуспеть в новом жанре – молчании. Дружил не только с актерами. Любил общаться с реквизиторшей Лизой Никитиной, яркой, хитрой, теплой и доброй женщиной. Елизавета Федоровна умерла летом 2002 года, последние два года болела, не работала. Ее хоронили, когда театр был в отпуске, и на сборе труппы нового сезона даже не вспомнили о «толстой Лизе» с ее острым языком, любившей «Современник» с той страстью, какая живет в людях, когда они увлечены делом. Естественно, то был другой «Современник», богом, идолом, кумиром и хозяином его был один человек – Олег Ефремов.
Но театр – театром, а надо было работать. Со временем у меня появилась маленькая однокомнатная квартира (ее помог получить все тот же «Современник»), мама переехала в Москву, а я все мыкался без дела, что-то писал, переводил, числился в Московской коллегии адвокатов и изредка вел какие-то дела.
Москва менялась на глазах. Я невольно сравнивал годы, когда учился в МГУ и кончал его. Тусклый период. Потом наступила «оттепель». Было очевидно, что старая логика обанкротилась. В театральной Москве гремели «Современник» и «Таганка», Анатолий Эфрос становился кумиром интеллигенции, великолепно работало кино, журнал «Новый мир» определял мысли и настроения. Кипела жизнь, я в ней не принимал участия. Не было душевного спокойствия, и мучили бытовые проблемы. Именно тогда я привык ничего не перекладывать на других.
Радости были связаны с искусством. Концерт Марлен Дитрих в Театре эстрады, Олег Ефремов отдал мне свой билет. На сцену вышла «звезда» с маленьким голосом, умным, выразительным лицом и небывалым обаянием. После концерта хотелось жить. Помню, как был опечален, что не достал билет на юбилейный вечер Данте в Большом театре, мечтал увидеть Ахматову, она выступала на этом вечере.