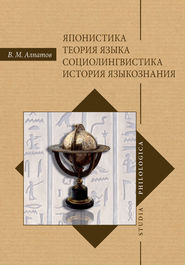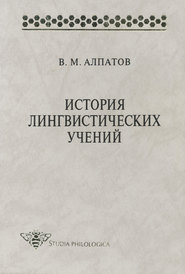По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Языковеды, востоковеды, историки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Крик души «большого ребенка», надеявшегося на то, что его оставят в покое! Дурново даже не понял (в отличие от других узников, писавших аналогичные объяснения Акулову), что требовалось сказать. Надо было подтвердить следственные показания и заявить: «Я осознал свои заблуждения, идеологически перестроился и встал на путь исправления». Этим поведением можно было бы рассчитывать на смягчение участи вплоть до замены лагеря ссылкой. Но в отношении Николая Николаевича был вынесен вердикт: «Соловки на его убеждения не повлияли», и его оставили в лагере.
Как выяснил Ф. Д. Ашнин, в силу возраста и слабого здоровья Дурново не попал на общие работы и был зачислен в инвалидную «сторожевую роту», исполняя иногда функции сторожа, но большую часть времени оставаясь в камере № 6 Святительского корпуса монастыря. Такой режим, как ни показалось бы это странным, давал даже возможность работы по специальности. В письме родственникам он просил прислать «белой бумаги (на первое время несколько листьев), перьев, список моих книг и рукописей, оставшихся в Москве, и книги!». Надеялся он получить и рукопись «Повторительного курса» для доработок, но после ареста В. Н. Сидорова ему было некому помочь. Судя по названиям книг, которые ученый просил прислать, он хотел работать над историей русского языка, но потом от этих планов отказался: в последнем дошедшем до нас письме от 22 марта 1935 г. он жалуется: «Под руками нет ни источников, ни пособий». Правда, Соловецкий лагерь, где еще сохранялись традиции 20-х гг., был единственным в стране местом подобного типа, где оставалась возможность что-то делать на месте: силами интеллигентных заключенных существовал даже музей, где оставалась часть рукописей былой монастырской библиотеки. В том же письме Дурново писал: «Здесь я описываю рукописи здешнего музея, но, кажется, посмотрел их все. Занимаюсь научной работой, но не знаю, какой из этого выйдет толк, потому что никак не могу переслать своих рукописей в Москву». Научной работой была грамматика сербохорватского языка, для которой, видимо, материалов хватило. В документах лагерной администрации отмечено, что грамматика была закончена и передана начальству. Но, увы, в наши дни Ф. Д. Ашнин не смог отыскать ее следы.
В этом же письме от 22 марта 1935 г. ученый беспокоится, почему не пишут жена и оставшиеся на свободе дети, боится, не выслали ли их из Москвы. О себе он пишет: «Здоровье пока сносно. Но сердце начало сдавать; одно время опухали ноги; сейчас как будто не опухают или опухают мало… Доктора прописывают то одно, то другое лекарство. Хуже всего с глазами. Левый глаз видит плохо; может быть, надо пересмотреть стекло в очках; правый глаз видит хорошо, но его часто застилает; иногда из-за этого приходится бросать работу на целых полдня; третьего дня не мог заниматься всю вторую половину дня с часу. Приспособления для лечения глаз нет. Пускаю протаргол, но помогает мало». И в конце письма приписка: «Глаз сегодня начало застилать с 11 ч., как только кончил письмо. Пишу через силу, совсем слепну» (описываются признаки далеко зашедшей катаракты). И все-таки письмо содержит и фразу иного рода: «Ботвинник и Ласкер поддержали вновь традицию Стейница и Ласкера». Матч В. Стейница и Э. Ласкера за мировое шахматное первенство проходил в гимназические годы Николая Николаевича и, очевидно, был для него крупным событием; теперь, спустя сорок с лишним лет в Москве проходил крупный турнир с участием одного из прежних соперников. Что-то еще напоминало о прежней жизни!
Сохранился и еще один документ о лагерной жизни ученого: подшитые в следственном деле «докладные о наблюдении за з/к Н. Н. Дурново (не датированы, но, судя по упоминанию о чтении рукописей музея, это тоже начало 1935 г.). Там сказано: «З/к Дурново Н. Н. в письмах к своей жене предупреждает о возможности его смерти и дает указания, как поступить с научными трудами и кого следует известить о смерти… Меры тщательного наблюдения за Дурново приняты, проинструктирована охрана, личное посещение участили… Колющих и режущих предметов у Дурново не имеется, т. к. были изъяты при его изоляции». «Дурново Н. Н. Моральное состояние без изменений. Продолжает беспокоиться о семье, что его письма и рукописи семьей не получены… Продолжает заниматься разработкой старописьменных и печатных документов Соловец[кого] музея, которые доставляются ему в камеру. Дурново переведен в камеру № 6 низ, выходящую на южную сторону. Электрическое освещение камеры усилено. По вопросу вывода Дурново для работы в Музей просим ускорить ответом на наш № 84/к от 28 января с.г.».
И все! А о второй половине 1935 г., о 1936 г. и о первой половине 1937 г. материалов нет. Письма жене пропали, знавших Дурново в лагере людей Ф. Д. Ашнину найти не удалось. Он даже писал Д. С. Лихачеву, который ответил, что высоко ценит труды Дурново, но лично его не знал, а на Соловках они были в разное время. Как жил «з/к Дурново», которому в лагере исполнилось 60 лет? Успел ли он ослепнуть или еще как-то видел? Мы не имеем данных даже о том, дошло ли до него известие о гибели его дочери Ольги. Она первой из семьи кончила жизнь нелепейшим образом: дома во время обеда сверху упала статуэтка и убила двадцатилетнюю девушку наповал.
А о самом страшном лишь сухие документы в том же деле. Это «Выписка из протокола заседания Особой тройки УНКВД по Ленинградской области от 9 октября 1937 г.», где за словом «Постановили» идет: «Дурново Николая Николаевича РАССТРЕЛЯТЬ. Лично принадлежащее имущество конфисковать». И за ним напечатанный на ротаторе стандартный текст, в который от руки вписывались лишь фамилия, имя, отчество, номер приговора и даты приговора и его приведения в исполнение. В нем сказано, что приговор в отношении Дурново исполнен 27 октября 1937 г. Подпись капитана госбезопасности Матвеева.
Кроме того, в деле имеется справка, составленная УАО КГБ при Совете министров Карельской АССР уже в 1964 г., в период реабилитации. Вот ее фрагмент: «На лиц, находящихся в заключении в Соловецкой тюрьме или Соловецких ИТЛ, предварительное расследование по делам не производилось, а по агентурным материалам или справке по старому следственному делу [в данном случае последний вариант. – В. А.] выносились на заседание Особой тройки, которая и выносила свое решение». То есть для Дурново и подобных ему не требовалось никаких новых обвинений, достаточно было еще раз рассмотреть прежнее дело и заменить старый приговор высшей мерой. Даже в 1937 г. так поступали далеко не со всеми заключенными. Но со старейшими Соловецкими лагерями сложилась особая ситуация: из-за их стратегического положения там решили создать военную базу, а лагеря закрыть. Но чтобы не перевозить в другие лагеря слишком большое число заключенных, тех из них, кто имел большие сроки, решили ликвидировать, применив упрощенную процедуру. Тогда погибло более тысячи человек (их списки сейчас опубликованы обществом «Мемориал»). Среди них, помимо Николая Николаевича, были, например, знаменитый ученый и богослов П. А. Флоренский, украинский режиссер Лесь Курбас, украинский писатель Микола Зеров, большая группа интеллигенции поволжских республик, а также еще трое пострадавших по «делу славистов». Объяснения требует большой разрыв между датой приговора и датой его исполнения. Оказывается, заключенных по каким-то причинам не стали расстреливать на островах, а повезли в Ленинград, но по дороге решили на них не тратиться. Известно, что Дурново и многих других казнили где-то у Медвежьегорска в Карелии. Есть и не подтвержденная документами версия, что жертв даже не расстреливали, а забивали железными палками, как скот. Впрочем, в деле есть и документ о том, что организаторы побоища начальник Соловецкой тюрьмы И. А. Апетер и его помощник П. С. Раевский вскоре «уволены из органов в связи с арестом».
Снова вспомним Сильвестра Медведева. До деталей похожая судьба: арест, несколько лет заключения в монастыре, потом жестокая казнь. Но Медведев активно участвовал в политической борьбе на стороне противников молодого Петра I и проиграл, а Дурново всю жизнь пытался стоять подальше от политики. Однако обстоятельства времени не давали это делать и ставили перед выбором, где Николай Николаевич постоянно принимал не то решение.
Страшной оказалась судьба и всей его семьи. Обоих сыновей расстреляли вслед за ним. Андрея в лагере под Ташкентом обвинили в причастности к «террористической организации» и казнили 5 января 1938 г. (в лагере находились еще два его «подельника», но расстреляли лишь его, а те дожили до освобождения). В том же году расстреляли и последнего из младших Дурново Евгения, до 1937 г. находившегося на свободе. Из-за ареста отца и брата он не стал поступать в вуз и работал затейником в Парке культуры и отдыха, но и это не помогло. Андрею было 27 лет, Евгению 22 года. Не интересовала органы лишь жена Николая Николаевича, «домохозяйка с домашним образованием», как она обозначена в деле. Несчастная женщина, пережив мужа и детей, осталась одна в той же коммунальной квартире и умерла во время войны от водянки. Судьба, неожиданно сходная с судьбой жены Н. Я. Марра. Пусть в семье Марра никто не был расстрелян, а материально две вдовы были устроены по-разному, но все равно терять всех детей – страшная трагедия. Одна женщина потеряла четверых, другая троих.
Тяжело пострадала и связанная с семьей Дурново семья Трубецких. Отец Варвары Владимир Сергеевич не имел склонностей к науке в отличие от отца, дяди и брата, зато он был боевым офицером и способным литератором. Но еще с 20-х гг. он находился на положении «бывшего», жил случайной работой и несколько раз подвергался арестам, тогда еще недолгим (несмотря на то, что Гражданскую войну прошел на стороне красных). По «делу славистов» его и Варвару сослали в Андижан, куда уехала вся большая семья: у него было девять детей. А той же жестокой осенью 1937 г. Владимира Сергеевича и 21-летнюю Варвару там расстреляли, уже во время войны погибли его жена и еще одна дочь.
«Первые» стали «последними». Вспоминается слово А. Блока: «Возмездие». Поколения Дурново и Трубецких помыкали крепостными (сама фамилия Дурново говорит за себя), а копившаяся злоба, как часто бывает, настигла совсем не тех, а самых безобидных и полезных для общества представителей рода. Впрочем, не стоит думать, как это сейчас бывает, что гибли все родовитые дворяне, не успевшие эмигрировать. Семья Николая Николаевича погибла, а семья его брата Михаила Николаевича, педагога, уцелела (его дети были живы еще в 80-е гг.) и сохранила письма с Соловков. И часть детей В. С. Трубецкого выжила и преодолела трудности, с одним из его сыновей, Владимиром Владимировичем, ныне покойным, я работал в Институте востоковедения. Все складывалось по-разному.
Еще при жизни, в 1934 г. Дурново был исключен из состава Академии наук вместе с М. Н. Сперанским. Имя ученого, разумеется, упоминать не любили, но все-таки полного запрета на него не было: за ссылками на пострадавших до 1937 г. так строго не следили, как за упоминанием арестованных позже. И многие русисты, включая его бывших «однодельцев» В. В. Виноградова и В. Н. Сидорова, ссылались на его труды до официальной реабилитации. Часть его идей жила и использовалась, хотя многое зависело и от тематики. Если русская диалектология была сравнительно спокойной областью, то изучение древнерусской церковной литературы не всегда приветствовалось.
Лишь в конце 1964 г. (уже после снятия Н. С. Хрущева) осужденных по московской ветви «дела славистов», включая обоих Дурново, реабилитировали (в большинстве посмертно). Впрочем, судьбы выживших оказались разными: В. В. Виноградов задолго до формальной реабилитации стал главой советских филологических наук, а Николаю Николаевичу даже после этого не везло. Издание его книги в 1969 г. долго оставалось единственным. Короткие статьи о нем в Большой советской энциклопедии (3 издание) и энциклопедии «Русский язык» изобилуют ошибками (в БСЭ стоит дата смерти: 1936). А Академия наук, в 1957 г. восстановив исключенных из ее состава в конце 1930-х гг. ученых, не сделала этого для тех, кого исключили раньше, включая Дурново, посчитав, что в эти годы «нарушений социалистической законности», как тогда говорили, еще не было (впрочем, в обеих энциклопедиях он обозначен как член-корреспондент). Справедливость восстановили лишь в 1990 г.
Сейчас труды Дурново уже несколько раз переиздавали, его научной деятельностью много занимались В. М. Живов и другие русисты. Но хочется вспомнить о нем и как о человеке. Нельзя не пожалеть этого симпатичного человека, доброго, мягкого, честного, непрактичного, погруженного в науку, слабого и в то же время верного принципам, не по своей воле попавшего под колеса истории.
Крестьянский сын
(А. М. Селищев)
Русист и славист, член-корреспондент АН СССР Афанасий Матвеевич Селищев (1886–1942) своей биографией отличался от большинства ученых своего поколения. Тогда в науку чаще шли интеллигенты уже не в первом поколении, нередко дворяне. Массовый призыв в эту сферу молодежи рабоче-крестьянского происхождения, так называемых «выдвиженцев», начался уже после революции, о чем будет рассказано в очерках «Выдвиженец» и «Об отце». А раньше «снизу» в ученую касту пробивались редко, циркуляр министра Делянова о «кухаркиных детях» действовал почти три десятилетия и был отменен только перед самой революцией. Но все же исключения бывали, и об одном из них пойдет здесь речь.
Афанасий Матвеевич родился 11 (23) января 1886 г. в селе Волово Орловской губернии, теперь это Липецкая область, в крестьянской семье. А о дальнейшем он впоследствии рассказывал: «Я вышел из бедной крестьянской семьи. Только благодаря случайности (земской стипендии) я получил среднее образование (высшее образование было уже легче получить мне). Связи со своей социальной средой я не порывал и не порываю. Мне чужды утонченные манеры в обиходе». Мальчику удалось попасть в реальное училище в городе Ливны, после его окончания для получения права поступить в университет он держал экзамены по древним языкам в гимназии в Курске.
Будущий ученый поступил в Казанский университет и окончил его в 1911 г. с дипломом первой степени. Уже в студенческие годы он проявлял самостоятельность во взглядах. Университет, где он учился, в 70–80-е гг. XIX в. получил всемирную славу в языкознании благодаря деятельности выдающихся научных новаторов И. А. Бодуэна де Куртенэ и Н. В. Крушевского. Правда, к моменту поступления Селищева Крушевский умер, а Бодуэн давно не работал в Казани, однако их традиции продолжал их ученик В. А. Богородицкий. Однако Селищев, хотя и учился у Богородицкого, но своими учителями называл совсем других своих профессоров, далеких от теоретической лингвистики и гораздо более традиционных. Новые идеи, обобщения, теоретизирование не привлекли его ни тогда, ни позже. Для Селищева интересно было другое: скрупулезный анализ фактов, изучение объекта во всех деталях.
Афанасий Матвеевич был оставлен при университете, после сдачи магистерских экзаменов в 1913 г. начинает преподавать в качестве приват-доцента, ведет один из основных курсов «Введение в сравнительную грамматику славянских языков». Уже тогда его отличали большая основательность во всем и преданность делу. Работавший тогда в Казани историк Н. П. Грацианский позже рассказывал: «Я как-то попал на его лекцию, посвященную истории ятя. Сюжет от моих интересов весьма далекий. Однако во время лекции мне, как и всем слушателям, казалось, что важнее вопроса о яте в жизни ничего нет».
Молодого слависта посылают на стажировку в изучаемые славянские страны. Его особо интересует Македония, тогда только освободившаяся от турецкого владычества. Он успевает туда попасть и собрать часть материала. Но на дворе 1914 г., начинается война, и командировка преждевременно заканчивается через два с половиной месяца. Больше Селищев не поедет за границу. Однако материала хватило на магистерскую диссертацию «Очерки по македонской диалектологии», в 1918 г. он ее защищает и издает книгой.
Но в том же году все обстоятельства жизни меняются: Селищев переезжает из Казани в Иркутск. С чем это было связано? С 7 августа по 10 сентября этого года Казань захватывали белые, затем там окончательно установилась советская власть. Иркутск в это время находился в белогвардейском тылу, новая власть установится там лишь в начале 1920 г. Похоже, что приват-доцент эвакуировался с белыми, что потом, конечно, ему надо было скрывать. Если дворяне Е. Д. Поливанов, Н. Ф. Яковлев, Л. П. Якубинский оказались на красной стороне, то крестьянский сын Селищев большую часть времен гражданской войны провел на территории белогвардейцев, принимая их власть.
В Иркутске в это время только что организовался университет, где Селищев занял кафедру русского языка. Его интерес к сбору и обработке фактов мог здесь найти хорошее применение: русские диалекты Сибири были к тому времени описаны слабо. Особенно любопытны были диалекты забайкальских старообрядцев (так называемых «семейских»), переселившихся на территорию нынешней Бурятии в XVIII в., по обычаям и языку отличавшихся от других русских переселенцев того региона. В мае-июне 1919 г. Афанасий Матвеевич осуществил экспедицию к этим старообрядцам, собрав материал не только по языку, но и по этнографии и культуре. В 1920 г. книга «Забайкальские старообрядцы. Семейские» вышла в Иркутске. Лишь в 2003 г. она переиздана в Москве.
Экспедиция проходила в крайне тяжелых условиях, и не случайно книге предпослан эпиграф из «Плача Иеремии»: «Вспомни нищету мою и гонение мое. Я вспоминаю горечь и желчь мою, – стеснена во мне душа моя». Селищев пишет: «Я должен был по возможности принять меры к более или менее безопасному странствованию по местности, где еще недавно происходили полные ужасы экзекуции карательных отрядов». «О бурных наездах карателей, действовавших именем полковника Семенова, о их разнузданной вольности мне рассказывали в каждом селе». В Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) и его окрестностях «настроение было напряженное: столкновения “семеновцев” с американцами, привоз бурятского “царя” и его министров, разговоры о разных “конфликтах” сгущали городскую атмосферу». К тому же «иркутские газеты не допускались к обращению в Верхнеудинске». И это даже не столкновения белых с красными: разные силы белого лагеря враждовали между собой. В старообрядческих деревнях, когда-то зажиточных (о чем сказано даже в «Дедушке» Н. А. Некрасова), теперь «есть заболевания голодным тифом… трезвость шатается, на подати ропщет народ, суд творит присланная милиция». «Печальную картину представляет нравственное состояние старообрядческого общества. В особенности пошатнулось молодое поколение… Выход молодежь нашла бы – в школе, в образовании. Этого нет, и молодежь пьянствует, развратничает, хулиганствует». Но не может одобрить Селищев и «заплесневелые формулы» старшего поколения: «От всех болезней там лечат знахарки. Обратиться к врачу – большой грех, по Писанию».
Крестьяне, обследованные Селищевым, жаловались на местную белую власть, а, как он пишет, «отношение к “большевизне” сочувственнее. Эти села только слышали программные речи большевиков и видели их бегущими после своего падения. По местам с благодарностью вспоминают, что большевики разрешили воспользоваться крестьянам спорной бурятской землей. Вернувшиеся военнопленные своими рассказами о голодающих деревнях Европейской России несколько поколебали надежды на большевицкое благополучие». В этих фразах видны и неприязнь их автора к большевикам, и представление о необратимости их падения.
Селищев подробно описывает и костюм старообрядцев, и содержание их книг, и их духовные стихи, и фонетические и грамматические особенности их диалекта, устанавливая, что они переселились из старообрядческих районов Черниговской и Могилевской губерний (это как раз те места, где сходятся Россия, Украина и Белоруссия). Многое из того, что успел зафиксировать ученый, скоро будет безвозвратно утрачено. При всей тяжести обстановки экспедиция достигла важных научных результатов.
В Иркутске Селищев работает и над более обширным по охвату материала исследованием, подготовив первый выпуск «Диалектологического очерка Сибири», оставшийся единственным. В нем описывается фонетика и морфология русских говоров Сибири и частично Дальнего Востока, выявляются их происхождение от говоров исходных местностей, взаимовлияние и результаты контактов с аборигенными языками. Книга вышла в 1921 г., когда ее автора уже не было в Иркутске.
В 1920 г. вопреки представлениям Селищева большевики вернулись. Второй раз с белыми он не ушел: теперь это означало эмиграцию, а, видимо, хотелось продолжать исследовательскую и преподавательскую деятельность на родине. Еще несколько месяцев он жил в Иркутске, но летом того же года решил вернуться в Казань, где стал профессором, как раз в это время он совершил еще одну важную по результатам экспедицию, изучив бытование русского языка у неславянских народов Поволжья: чувашей и марийцев; результаты также были опубликованы. Но второй период пребывания в Казани оказался много короче первого: менее двух лет. Работы там было мало; как пишет ученик и биограф Селищева С. Б. Бернштейн, «весь цикл славистических дисциплин подвергся в это время здесь значительному сокращению». И не попрекали ли его в Казани «белогвардейством»? А, может быть, просто показалось заманчивым предложение переехать в Москву?
В конце 1921 г. Афанасий Матвеевич получил приглашение занять после смерти профессора В. Н. Щепкина кафедру славянской филологии в МГУ (тогда 1 МГУ) и в начале 1922 г. переехал в Москву, где прожил оставшуюся часть жизни с перерывом на годы заключения. Он поселился прямо в здании университета (в том корпусе, где сейчас факультет журналистики) вдвоем с помогавшей ему старой няней: семьи и личной жизни профессор никогда не имел, все время было посвящено работе.
К этому времени славистика и история русского языка в Москве испытали большие потери: одни умерли, другие эмигрировали. Молодой энергичный профессор быстро занял ведущее положение. Помимо МГУ, он работал в Институте языка и литературы РАНИОН (Российская ассоциация научных институтов общественных наук), возглавлял секцию русского языка Ученого комитета Наркомпроса. С московскими лингвистами, воспитанными в иных, чем он, традициях школы Ф. Ф. Фортунатова, он нашел общий язык. По мнению В. Н. Сидорова, видного представителя Московской школы, Селищев, «пожалуй, был ближе к московской школе, чем к казанской». Сидоров и другой крупный представитель этой школы Р. И. Аванесов были в те годы учениками Афанасия Матвеевича. Но отношение к нему оказывалось у склонных к теории его учеников неоднозначным, о чем много лет спустя скажет Аванесов. «Главный учитель», «наш любимец», пример в науке и жизни, но «не понимал и принимал все новое в лингвистике», включая уже не раз здесь упоминавшуюся фонологию. Рубен Иванович вспоминал, что однажды он даже грубо ответил учителю, когда тот «резко выступил против нашего метода», за что потом себя винил.
Тематика исследований у Селищева в эти годы имела три направления: славистика, в основном в историческом плане, русская диалектология, социолингвистика. Славистикой, однако, становилось заниматься все труднее и не только потому, что нельзя стало ездить в славянские страны: в эпоху «санитарного кордона» вокруг СССР изучение языков враждебных государств не очень поощрялось. Три написанные ученым книги он смог издать лишь в Болгарии в 1929–1933 гг. на русском языке (тогда публикации за границей еще допускались). Это «Полог и его болгарское население», «Славянское население в Албании», «Македонские кодики XVI–XVIII вв.». Из диалектологических работ наиболее крупная – «Русские говоры Казанского края» (1927).
Но наибольший резонанс из всех работ Селищева имела вышедшая в 1928 г. книга «Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926)». На эту тему писали и другие видные языковеды тех лет, в том числе Е.Д. Поливанов (см. очерк «Метеор»), а также А. М. Пешковский. Но книга Селищева, уступая работам этих ученых с теоретической точки зрения, намного превосходит все, что тогда было написано по данной тематике, по богатству и разнообразию собранного материала.
Позиция ученого была точно определена им самим. В Институте востоковедения РАН сохранился экземпляр книги с дарственной надписью автора видному тюркологу: «Владимиру Александровичу Гордлевскому от летописца». Взгляд летописца отразился и в лингвистической, и в идейной позиции Селищева.
Книге предпослано краткое, занимающее всего восемь страниц теоретическое предисловие, составляющее самую слабую ее часть: не разграничение «функций языкового процесса» интересовало автора. Он не ставил, как Е. Д. Поливанов, задачу построить теорию изменений в языке под влиянием социальных факторов. Цель «летописца» заключалась в максимально точной и подробной регистрации фактов, которые затем получали первичную обработку. Если Поливанов стремился быть марксистом, то Селищев, по воспоминаниям С. Б. Бернштейна, даже в 30-е гг. избегал самого слова «марксизм». Тем не менее, рецензия Поливанова на книгу была положительной.
Идейная позиция Афанасия Матвеевича – также позиция «летописца», «добру и злу внимающего равнодушно». Если Поливанов смотрел на все происходящее как участник событий, «языковой политик», то Селищев смотрит на это с позиции извне. «Язык революционной эпохи» – не революционная и не антиреволюционная книга. Если ее автор когда-то и принимал какое-то участие в белом движении, то теперь для него прошедшие события – данность, с которой надо считаться, объект научного анализа, по возможности лишенного оценок, хотя иногда они и прорываются.
Впрочем, оценочный подход у него есть в одном пункте: в отношении к русской литературной норме. Он пишет, например: «Элементы, без необходимости для разных речевых функций внесенные в общерусский (литературный) язык, плохое владение этим языком вызывают резкие протесты со стороны тех деятелей, которые не утратили чутье норм общерусского литературного языка». Очевидна солидарность автора с этими деятелями.
Селищев равно далек и от идей о «созидании» совершенно нового языка после революции (что утверждали последователи Н. Я. Марра), и от идей о полном «разрушении» русского языка (что любят говорить в последние двадцать лет). Сравнивая языковые изменения во время французской и русской революций, он пишет: «Французских революционеров не удовлетворяла изящно-изысканная речь аристократической эпохи: чувствовалось сильно ее несоответствие действительности революционного времени (ср. его же слова о нелюбви к “утонченным манерам”. – В. А.). Такого резкого расхождения между языком русской интеллигенции дореволюционного времени и языком революционных деятелей на русской почве не было». А язык революционных деятелей, как показывает Селищев, лежал в основе многих явлений, получивших широкое распространение после революции. Другой процесс – распространение вширь через язык революционных масс диалектных, просторечных и арготических явлений.
Как показывает Селищев, изменения в русском языке после революции связаны в основном с лексикой и отчасти со словообразованием, тогда как фонетика не изменилась совсем, а грамматика незначительно (потом это наблюдение использовал Е. Д. Поливанов). Не очень систематично отмечены также стилистические особенности языка революционной эпохи: ораторские приемы вроде повторов, вопросно-ответная (катехизисная) форма речи и др.
Автор книги показывает, что источники пополнения лексики могли быть разнообразными. Одни из них связаны с происхождением тех или иных активных участников революционного процесса: иногда социальным или профессиональным (матросы, выходцы из духовенства), иногда этническим (поляки, евреи). Отсюда появление, с одной стороны, ранее узкопрофессиональной лексики (чаще в переносных значениях), с другой стороны, заимствований и калек из польского, немецкого, идиша. Скажем, оборот извиняюсь как «словесный знак вежливости», по мнению Селищева, появился под влиянием польского przepraszam, а слово штрейкбрехер идет из идиша. Но происхождение того или иного языкового явления и его внедрение в общий язык могут иметь разные источники. Так, вульгаризмы могли распространяться не только необразованными людьми, но и выходцами из образованных слоев, особенно из студенчества, для которого характерна «независимость от общественных норм и форм бытового уклада и общепринятого этикета».
Другая причина распространения языковых новшеств связана с самими обстоятельствами жизни. Так, широкое распространение канцеляризмов идет от «воздействия множества канцелярий» после революции, богатство лексики военного происхождения – от «самого характера программной деятельности» революционеров. С необходимостью воздействия на массы Селищев связывает повышенную эмоциональность революционного языка. В то же время он отмечает и постепенное снижение этой эмоциональности, превращение некогда ярких и броских эпитетов в штампы.
Особые разделы книги посвящены изменениям в речи рабочих и крестьян. Показано, как они, с одной стороны, стараются освоить литературный язык, с другой стороны (особенно крестьяне), искажают и часто переосмысляют элементы этого языка. Еще один раздел книги рассматривает изменения в речи нерусских народов РСФСР, в большей степени, чем раньше, осваивающих русский язык.
Помимо речи рабочих и крестьян, особое внимание исследователя привлекают язык партийных деятелей (в основном владеющих литературной нормой) и язык молодежи, особо восприимчивой к новому в языке. В социальном анализе, однако, бросается в глаза отсутствие одного слоя: сформировавшейся до революции нереволюционной интеллигенции, к которой относился и сам автор. Как бы предполагается, что здесь после революции ничего не изменилось, но это было не совсем так, и изменения «интеллигентского языка» несколько позже изучал Е. Д. Поливанов. Но отсутствие такого анализа закономерно: оно нарушило бы чистоту позиции извне.
Еще один вопрос, почти не затронутый Селищевым: о степени устойчивости тех или иных явлений языка революционной эпохи. К 1928 г. многое из зафиксированного им уже исчезло из языка, другое закрепилось в нем надолго, но узнать об этом из книги нельзя. Цель автора – зафиксировать как можно больше явлений, многое из собранного им материала уникально.
Книгу «Язык революционной эпохи» не одобрили ученые старой школы. Пожилой академик Б. М. Ляпунов считал: «При всем уважении к эрудиции и умению живо и интересно излагать, невольно приходит мысль, что автор, выбирая тему, руководствовался практическими соображениями». Но наверху книга первоначально была встречена хорошо, была премирована и включена в списки литературы для студентов. Однако вскоре ситуация изменится.
В начале 1929 г. Селищев был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. Но после спокойных годов НЭПа начались годы «культурной революции», и работать становилось все труднее. Как-то Селищева вызвал тогдашний ректор МГУ А. Я. Вышинский и предъявил две претензии: на занятиях по старославянскому языку используются религиозные тексты, и кафедра Селищева не следует «новому учению» Марра. По поводу текстов удалось объяснить ректору, что ничего другого на этом языке просто нет, но требование о внедрении марризма осталось. Однако Афанасий Матвеевич и его не выполнил: он всегда был противником «нового учения», хотя, в отличие от Е. Д. Поливанова, не выступал против него с трибуны.
Но скоро произошла реорганизация университетского обучения: из состава МГУ исключили гуманитарные факультеты, взамен создали Московский институт философии, литературы, истории (МИФЛИ), где ряд традиционных специальностей был ликвидирован. В том числе прекратилось на несколько лет обучение славянским языкам (кроме, естественно, русского), и Селищеву стало негде преподавать. Примерно тогда же закрылись и институты РАНИОН. Правда, в начале 1931 г. взамен лингвистической части Института языка и литературы РАНИОН открылся Научно-исследовательский институт языкознания (НИЯз) при Наркомпросе, в исторический его сектор был зачислен и Афанасий Матвеевич.
Но спокойно там работать оказалось невозможно. Директором нового института стал эмигрировавший в СССР румынский коммунист М. Н. Бочачер, «брошенный» на науку, он оказался мастером интриги. Впоследствии, вспоминая о НИЯзе, тюрколог Н. А. Баскаков говорил: «Тогда был порядок, что директор должен быть не специалистом». Бочачер следил за «политической линией», а другие ведущие должности занимали языковеды – коммунисты и комсомольцы, организаторы группировки «Языкофронт», в том числе совсем еще молодой Т. П. Ломтев (см. очерк «Выдвиженец»). Они спорили и с Марром, но били наотмашь и представителей старой, «буржуазной» науки. В институте их главной мишенью стал Селищев.
4 января 1932 г. Бочачер, «считая его дальнейшую работу в НИЯзе вредной», постановил: «Исключить Афанасия Матвеевича Селищева из состава действительных членов Института; довести об этом до сведения Сектора науки Наркомпроса». За увольняемого попытался вступиться его аспирант С. Б. Бернштейн, его тоже выгнали из института, заодно и исключив из «Языкофронта» (который, правда, на том же заседании самораспустился). 12 марта 1932 г. в НИЯз состоялось заседание методологического сектора с разоблачениями уже уволенного Селищева. Докладчиком выступал сам директор (в связи с чем говорили о том, что «мы присутствуем при рождении нового лингвиста» Бочачера). Вот выдержки из доклада: «Профессор Селищев в этой борьбе за Македонию стал… сторонником болгарского империализма… Нужно уметь разглядеть за «учеными» выкрутасами политическое лицо царско-буржуазного разведчика». Любопытно, что о пребывании Селищева у белых Бочачер не вспомнил, зато его поездка в 1914 г. в Македонию превратилась в выполнение разведзадания. Далее: «Перейду к книге “Язык революционной эпохи”. Эта книга очень талантлива. В этой книге очень тонко и умело скрыта клевета на нашу революцию». Вывод: «Работы Селищева – это работы идеологического интервента. Не только великодержавного шовиниста, но и капиталистического реставратора… Наше слово будет словом разоблачения идеологического интервента (Аплодисменты)».
Однако дело приняло иной оборот. За члена академии вступились, и через полгода после увольнения нарком просвещения А. С. Бубнов восстановил на работе и Селищева, и Бернштейна. Бочачер к тому времени из института исчез (в 1939 г. он будет расстрелян). Но и после этого институтские «вождята», как их называл В. Н. Сидоров, не давали покоя. Однако и «вождятам» (и вместе с ними всем сотрудникам института) дорого обошлись их выступления против Марра. Из-за этого весной 1933 г. НИЯз был закрыт, а его сотрудники разбрелись кто куда, некоторые долго оставались без работы. Селищев не имел работы около полугода, потом он добился зачисления в Институт славяноведения АН СССР, только что открывшийся в Ленинграде, куда он теперь должен был периодически ездить.
Но худшее было впереди. Скоро поездки в новый институт объявят «связью между московским и ленинградским центрами», институт менее чем через год закроют, а большинство его сотрудников арестуют. Сам Афанасий Матвеевич будет арестован в ночь на 8 февраля 1934 г. по одному делу с героем очерка «Никуда не годный заговорщик» Н. Н. Дурново и взятым в одну ночь с Селищевым будущим академиком В. В. Виноградовым.