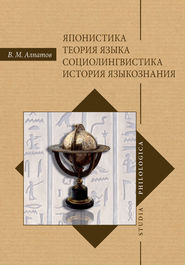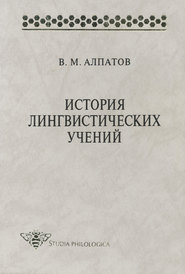По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Языковеды, востоковеды, историки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Доклад Поливанова был опубликован только в 1991 г. Марр подвергся в нем острой критике, прежде всего, за непрофессионализм. Поливанов говорил: «Когда человек говорит: бросьте вашу сравнительную грамматику индоевропейских языков, – я вам объясню все слова индоевропейских языков из четырех элементов, – это же все равно, что какой-нибудь человек пришел на собрание химиков и сказал: “Забудьте, что вода – H
O. Вода – это нечто другое, это смесь азота с аммонием, – поверьте мне на слово, и я из этого объясню вам весь мир”. Это то же самое. Мы можем потребовать объяснения, мы можем потребовать доказательства: докажи эти четыре элемента. Доказательств, однако, нет» (другие цитаты из доклада приведены в очерке «Громовержец»). Опроверг Поливанов и декларации Марра о его марксизме, показав несоответствие марризма марксизму.
Дальнейшая часть диспута превратилась в публичное избиение Поливанова. Только «старорежимный» Г. А. Ильинский, противник всего нового в науке о языке, поддержал «красного профессора» против Марра, что пошло во вред и Поливанову, и самому Ильинскому (через пять лет он будет арестован по одному делу с Н. Н. Дурново, а в 1937 г. расстрелян). Все остальные, включая Н. Ф. Яковлева, Л. И. Жиркова и Р. О. Шор, поддержали (иногда, как Яковлев, с некоторыми оговорками) Марра и осудили Поливанова. Многим участникам дискуссии, среди которых были и люди, далекие от лингвистики, не нравилось даже то, что Евгений Дмитриевич писал на доске множество примеров из мало кому известных языков, вдавался в частности. Но главный фактор отметил он сам в заключительном слове: «Имею дело здесь с верующими – это прежде всего. Было бы смешно мне ставить своей задачей переубедить верующих». Итог подвел В. М. Фриче: «Научная репутация Марра вышла из диспута незапятнанной».
Началась борьба с «поливановщиной», ученого обвиняли не только в «травле академика Марра», но и во всех грехах вплоть до черносотенства в переносном и даже в прямом смысле. Обвинили его и в подлоге: Поливанов упомянул, что к числу противников учения Марра относится крупный французский лингвист, коммунист М. Коэн. В ответ было заявлено, что Коэн членом Французской компартии не является. Но этот ученый был-таки членом данной партии, что отмечено в 3-м издании Большой советской энциклопедии. Так что подлог совершили как раз противники Поливанова. Евгений Дмитриевич пытался им ответить, но, дав ему один раз слово, потом в публикациях отказали, а статья против Марра «Программно-методологический экскурс», уже набранная, будет изъята; корректура сохранится в архиве в Праге, и статью удастся опубликовать только в 1991 г.
Травля Поливанова стала первым, но далеко не последним примером «аракчеевского режима в языкознании», который осудит И. В. Сталин лишь спустя два десятилетия, когда Евгения Дмитриевича давно не было на свете. А в 1929 г. он оказался один, в Москве ему нельзя было рассчитывать ни на чью поддержку. У него, как ему казалось, остались покровители лишь в Узбекистане, где в первой половине 20-х гг. его ценило местное руководство. Иногда его возвращение туда интерпретируют как ссылку или высылку, но это не так: ученый покидал Москву добровольно. Летом 1929 г. Поливанов уезжает в Узбекистан в научную экспедицию, там договаривается о работе и осенью возвращается в столицу лишь для ликвидации дел. В конце того же года Поливанов становится сотрудником Узбекского государственного научно-исследовательского института, тогда находившегося в Самарканде, в начале 1931 г. он вместе с институтом переезжает в Ташкент.
Евгений Дмитриевич продолжает бороться, и в 1931 г. ему удается в Москве выпустить в свет книгу (точнее, сборник статей) «За марксистское языкознание», наиболее развернутое выражение программы развития марксистского языкознания среди публикаций ученого. Затронуты здесь и еще две темы, занимавшие его и ранее: развитие русского и других языков СССР после революции и полемика с марризмом.
Проблема создания марксистской лингвистики в 20-е гг. и в начале 30-х гг. ставилась у нас многими: можно назвать имена Н. Ф. Яковлева, Л. П. Якубинского, Р. О. Шор, Я. В. Лоя, Г. К. Данилова, В. Н. Волошинова, Т. П. Ломтева и других, части из них я посвящаю очерки. Даже И. И. Презент, вошедший в историю нашей науки как один из ее «антигероев», в 40-е гг. близкий соратник Т. Д. Лысенко, в конце 20-х гг. издал вполне серьезную книгу об этом. Но к 1931 г. все стало вытесняться «новым учением» Марра, самым неудачным из всех вариантов, имевшим, однако, поддержку сверху. Идеи Поливанова были одними из наиболее интересных, хотя сама задача в целом (исключая такие дисциплины как социолингвистика) была нереальной, что в 1950 г. поймет И. В. Сталин.
Полемизируя с марристами, Поливанов заявлял: «Для разработки марксистской лингвистики недостаточно благонамеренности и советской лояльности, а нужно обладать известной лингвистической и методологической подготовкой». Марристы отказывались от всего наследия «буржуазной науки», а он писал: «Я вовсе не думаю отрицать буржуазный характер всей прошлой истории нашей науки. Всякая наука, созданная в буржуазном обществе, может именоваться буржуазной наукой и может обнаружить в себе внутренние признаки этой своей социальной природы. Но ведь никакой другой науки, кроме буржуазной, вообще не существовало, а на Западе не существует и до настоящего времени. И это относится и к лингвистике, и к астрономии, и к теории вероятностей, и к орнитологии и т. д. и т. д. Наша задача состоит в том, чтобы убедиться, что такая-то и такая-то научная дисциплина сумела установить ряд бесспорных положений; и раз мы в этом убеждаемся (для чего необходимо, впрочем, наличие известных данных в данной специальности), то мы не только можем, но и должны считаться с этими бесспорными достижениями буржуазной науки, как должны… считаться и с наличием микроскопа, и с наличием всей той бактериологической фауны, которая этим микроскопом была открыта, несмотря на то, что изобретатель микроскопа (А. Левенгук. – В. А.) был голландский торгаш – существо насквозь буржуазное и идеологически вполне, быть может, нам чуждое. Если же мы, под тем предлогом, что это – “продукты буржуазной науки”, будем строить свою науку без всех указанного рода буржуазно-научных достижений или просто отметая (т. е. не желая знать) их или же отрицая их (потому, что они – продукт буржуазного мира), мы не только не создадим никакой новой, своей науки, но превратимся просто в обскурантов». Выше всех Поливанов ставил своего учителя И. А. Бодуэна де Куртенэ: книга Ф. де Соссюра, по его мнению, «не содержит в себе буквально ничего нового в постановке и разрешении общелингвистических проблем по сравнению с тем, что давным-давно уже было добыто у нас Бодуэном и бодуэновской школой».
Но, разумеется, надо идти дальше и создавать науку на марксистской основе. Программа должна была быть обширной и масштабной. Лингвист, согласно Поливанову, слагается из четырех сфер деятельности. Во-первых, он – «строитель (и эксперт в строительстве) современных языковых (и графических) культур», «для чего требуется изучение языковой современной действительности, самодовлеющий интерес к ней и – скажу более – любовь к ней». Во-вторых, он – «языковой политик», прогнозирующий языковое будущее «в интересах утилитарного языкового строительства». В-третьих, он – «лингвистический историолог». В-четвертых, он – историк культуры. Первая сфера связана с изучением настоящего, вторая – с изучением будущего, две последние – с изучением прошлого. В отношении прошлого и настоящего наука о языке уже имела прочные традиции, а о будущем обычно даже не задумывалась, лишь И. А. Бодуэн де Куртенэ и Е. Д. Поливанов (и еще Н. Я. Марр, но на основе явной фантастики) ставили эту задачу. И очевиден активный, связанный с практикой подход к объектам исследования. Надо отметить, что опирался здесь Поливанов не только на марксизм: редкий термин «историология» взят из исторической концепции академика Н. И. Кареева, друга семьи Поливановых, отнюдь не марксиста (Кареев разделял историю как фактологическую науку и историологию, выявляющую исторические закономерности).
Из идей марксизма всерьез у Поливанова использовалась лишь одна: отражение в истории языка законов диалектики, особенно законов борьбы противоположностей и закона перехода количества в качество. Последний проявляется, в частности, в том, что фонетические изменения накапливаются постепенно, звучание как-то меняется при сохранении прежней фонологической системы, а потом происходит скачок и система фонологических единиц – фонем – становится иной. Проблема, постоянно волновавшая ученого, – причины языковых изменений. В противовес марристам, все сводившим к прямому влиянию экономических скачков и революций, он отстаивал роль внутренних причин, воздействующих на развитие языка. Одна из них в книге «За марксистское языкознание» именуется: «лень человеческая». Человеку не хочется тратить силы на произношение сложных звуков, длинных слов, на запоминание спряжения неправильных глаголов, поэтому в истории языков постоянно происходят упрощения в фонологии и грамматике. Латинское название месяца augustus во французском произношении сократилось до одного звука u. Но происходит и борьба противоположностей, в данном случае, интересов говорящего и слушающего: «минимальная трата произносительной энергии» должна быть «достаточной для достижения целей говорения», при слишком большой экономии речь становится для слушающего непонятной. Позднее эти идеи, уже независимо от марксизма, развили Р. Якобсон и французский лингвист А. Мартине.
Приверженность марксизму, помимо использования законов диалектики, проявилась в постоянном интересе Поливанова к социальному функционированию языка. Он указывал, что внешние, в том числе социальные, причины, в отличие от внутренних, непосредственно не влияют на языковые изменения, однако их косвенное влияние может быть существенным: возникают или прекращаются контакты между языками, которые как-то изменяют языки (прежде всего, на уровне заимствований, но контакты могут повлиять и на строй языков), меняется число и состав носителей языка или языкового образования, по выражению Поливанова, их «социальный субстрат».
Особенно этот вопрос был актуален в связи с современной ситуацией в СССР. Марристы утверждали, что революция привела к формированию нового русского языка (точка зрения, парадоксальным образом возродившаяся у нас в конце 80-х гг., только с обратными оценками). Но Поливанов показал, что русский язык, в том числе русский литературный язык, остался таким же, каким был до революции, испытав лишь некоторые изменения в лексике. «Словарь, и только словарь, делает современный язык… непонятным для обывателя с языковым мышлением 1910–1916 годов», – писал Поливанов еще в 1928 г., ссылаясь на А. М. Селищева. Но расширился «социальный субстрат». Стандартный (литературный) русский язык, до революции остававшийся «классовым или кастовым языком узкого круга интеллигенции», теперь стал осваиваться «массами, приобщающимися к советской культуре», в том числе людьми, ранее вообще не знавшими русского языка.
Но здесь ученый сделал прогноз, который не оправдался: «Через два-три поколения мы будем иметь значительно преображенный (в фонетическом, морфологическом и прочих отношениях) общерусский язык, который отразит те сдвиги, которые обусловливаются переливанием человеческого моря – носителей общерусского языка в революционную эпоху». Этого не произошло: Поливанов не учел значительного ужесточения и внедрения в массы литературной нормы с 30-х гг., о которых уже шла речь в очерке «Человек-словарь».
В книге «За марксистское языкознание» затрагивались многие проблемы: и фонетика «интеллигентского языка», и «славянский язык» революции, и «блатная музыка», арго «воров в законе» (статья называется «Стук по блату»). Одна из статей названа «И математика бывает полезной», в ней ставится проблема использования математики в лингвистике. Обо всем этом сказано немало интересного, нередко автор улавливал тенденции, значимые и позднее. В связи со «славянским языком революции» отмечено, что еще недавно яркий и эмоциональный язык революционных лозунгов, использовавший много славянизмов, начал становиться мертвым, штампованным. «Нельзя употреблять мертвые слова», это губительно для страны (об этом писал и А. М. Селищев). Тогда этот процесс только начинался, к каким последствиям он привел в 60–80-е гг., мы знаем. А в отношении «блатной музыки» он с тревогой отмечал, что она проникает в язык обычных людей, особенно подростков, что наблюдалось и до, и после революции. Он спрашивает: почему «наши дети хронически хотят корчить из себя хулиганов?». Проблема, увы, актуальна и сейчас.
Но современники больше всего обращали внимание на по-прежнему резкие оценки Марра и его последователей, названных в книге «любителями хорового пения». Эти оценки определили отношение к книге, которая вызвала новый всплеск борьбы с «поливановщиной», книгу объявили «антимарксистской». Н. Н. Поппе, который спустя полвека осудит Поливанова за «большевизм», тогда обвинял его в «протаскивании буржуазных идей и теорий». В том же 1931 г. в статье «Яфетическая теория» в первом издании Большой советской энциклопедии (автор скрыт за тремя звездочками, но, по-видимому, это маррист В. Б. Аптекарь) о взглядах Поливанова сказано: «Прямые враждебные выпады, идущие под знаком апологии буржуазной науки и империалистической политики капитализма». В этом же томе статья самого Поливанова «Японский язык» подписана Е. П., полная подпись уже была невозможна. Статью все же опубликовали (видимо, писать в энциклопедии о японском языке больше было некому), но набор второго тома «Введения в языкознание для востоковедных вузов» был рассыпан, не вышли и подготовленные Поливановым (одним или в соавторстве) в годы работы в Москве грамматики азербайджанского, казахского, калмыцкого, эрзя-мордовского языков. Рукописи всех этих книг до нас не дошли. С 1931 г. Поливанов больше не мог печататься в Москве или Ленинграде. В 1932–1937 гг. публикации у него были, но либо в Средней Азии, откуда они мало куда доходили, либо изредка за границей, куда Евгений Дмитриевич посылал рукописи другу со времен ОПОЯЗ Р. Якобсону.
И в Узбекистане оказалось гораздо тяжелее, чем раньше, марризм пришел и туда. В университет, одним из основателей которого когда-то был Поливанов, его не взяли за «антимарксистские взгляды». Преподавание в Узбекской государственной педагогической академии оказалось недолгим, в последние годы работы в Узбекистане он не преподавал в вузах вообще. Он работал в Узбекском государственном научно-исследовательском институте культурного строительства, но и там обстановка оставалась тяжелой. В 1933 г. ученый заявлял: «Если сказать, какая часть из моих работ опубликована, это, должно быть, двадцатая часть, и особенно в настоящее время мне очень мало приходилось публиковать».
Работа все-таки продолжалась. По-прежнему проходили экспедиции для изучения узбекских диалектов. Новыми сферами деятельности стало изучение каракалпакского языка (тюркская семья) и распространенного тогда в Узбекистане, а сейчас практически исчезнувшего языка бухарских евреев, относящегося к иранской семье языков. По обоим языкам была напечатана лишь небольшая часть сделанного. А по узбекскому языку удалось все-таки издать две важные книги: «Русская грамматика в сопоставлении с узбекским языком» (1933) и «Опыт частной методики преподавания русского языка узбекам» (1935).
Сохранились воспоминания о Поливанове его ташкентского знакомого П. А. Данилова, относящиеся, видимо, к 1933 или 1934 г.: «Одет он был бедновато, в каком-то плохоньком стареньком костюмчике. На голове у него была такая же старенькая кепочка… Пожаловался, что ему приходится преподавать русский язык в начальной национальной школе; что ему не дают работать в научных учреждениях и вузах и не печатают его статей в научных журналах. И чтобы как-либо удержаться и продолжать научную работу, он вынужден посылать свои статьи в зарубежные научные журналы. Там его охотно печатают и по его просьбе гонорар высылают на Торгсин. Это и позволяет ему как-то сводить концы с концами». Так жил тогда бывший заместитель наркома иностранных дел, определявший отношения страны со многими государствами.
Впрочем, воспоминания не во всем точны. По три-четыре публикации в год у него все-таки были; с другой стороны, за границей его печатали не так уж охотно. За шесть лет четыре небольшие публикации, а в Литературном архиве памятников народной письменности в Праге, куда после войны попал пражский архив Якобсона, неизданных рукописей Поливанова нашлось потом немало, а том числе целая книга по японской фонетике (более полное ее описание, чем в изданной в 1930 г. книге). Как показывает переписка Н. Трубецкого с Р. Якобсоном, сейчас опубликованная, эти ученые, хотя и считали Поливанова одним из наиболее близких к себе советских ученых, но отвергали многие его идеи; Трубецкой считал, что Поливанов, находясь вне основных научных центров, стал деградировать. Вероятно, все же дело было в другом: Трубецкой и Якобсон, как и Н. Ф. Яковлев, пришли к новому этапу развития фонологии, связанному с выработкой объективных критериев для выделения фонем, а Поливанов сохранил верность «психофонетике» своего учителя И. А. Бодуэна де Куртенэ, казавшейся им старомодной.
В 1934 г. Поливанов переехал из Ташкента во Фрунзе (ныне Бишкек), город, оказавшийся последним на его творческом пути. Там он работает в Киргизском институте культурного строительства и вновь получает возможность преподавать, став профессором Педагогического института (в университет он будет преобразован уже после войны). К этому времени борьба с «буржуазной лингвистикой» стала утихать, в том числе в связи со смертью Н. Я. Марра в том же 1934 г. Во Фрунзе до 1937 г. было спокойнее, чем в Ташкенте, в одной из анкет 1935 г. Поливанов называет себя кандидатом в члены партии. Видимо, он старался вступить туда заново. Однако в следственном деле он будет именоваться беспартийным. В 1937 г. друг юности Н. И. Конрад даже похвалил Поливанова в книге о синтаксисе японского языка, кажется, это единственное его положительное упоминание в печати в те годы (впрочем, по свидетельству ученицы Конрада А. Е. Глускиной, он тогда уже не поддерживал отношения с Поливановым). Но запрет на публикации в Москве и Ленинграде сохранялся.
В этот период двумя основными направлениями его деятельности становятся изучение киргизского и дунганского языка. По киргизскому языку он ездит в экспедиции по изучению диалектов, переводит и исследует киргизский эпос «Манас». Однако в этой области он почти ничего, кроме отрывков из перевода «Манаса», не успел напечатать. Больше Евгений Дмитриевич смог довести до печатного вида по языку дунган, потомков китайцев-мусульман, бежавших в Среднюю Азию из Китая в XIX в. после восстания. Совместно с дунганским просветителем Юсупом Яншансином он составил изданную в двух частях в 1935 и 1936 гг. дунганскую учебную грамматику, а весной 1937 г. вышла небольшая книга «Вопросы орфографии дунганского языка», фактически последняя прижизненная монография Поливанова: ему принадлежит вся книга, кроме совместного с Ю. Яншансином проекта дунганской орфографии. Это был последний в стране проект письменности на латинской основе, скоро все начнут ускоренно переводить на кириллицу; тем не менее, эта письменность у дунган действовала более десяти лет. Книгу автор успел послать Р. Якобсону, ее оценка Н. Трубецким оказалась наиболее резкой.
Но ученый работал и над проблемами теоретической лингвистики. Во Фрунзе он составил «Словарь лингвистических терминов». Эту работу он послал в Ленинград в Институт языка и мышления имени Марра, надеясь, что если она будет одобрена, он сможет вернуться во всесоюзную науку. Однако ученица Марра С. Л. Быховская дала отрицательный отзыв (рукопись будет опубликована лишь в 1991 г.). Отзыв, датированный 22 сентября 1937 г., резок, но не содержит политических обвинений. Очевидно, Быховская не знала, что рецензирует рукопись автора, уже почти два месяца находящегося в заключении.
Дата ареста Поливанова долго приводилась неточно или предположительно, даже у А. А. Леонтьева, Л. И. Ройзензона и А. Д. Хаютина в 1968 г. стоит март 1937 г., хотя в мае Евгений Дмитриевич еще переписывался с Р. Якобсоном. В следственном деле, с которым впервые удалось ознакомиться Ф. Д. Ашнину в 80-х гг., указана точная дата: 1 августа 1937 г.
В 1937 г. бурная биография Поливанова оставляла ему мало шансов уцелеть. Особенно опасными были два эпизода: работа с Л. Д. Троцким (даже притом, что они поругались) и связи с Японией (пусть давно оборванные). Так и случилось. Первый по времени документ, зафиксированный в следственном деле, опубликованном Ф. Д. Ашниным при моем участии, датирован 25 июля 1937 г. и подписан заместителем наркома внутренних дел СССР М. П. Фриновским. В шифрограмме сказано: «Немедленно арестуйте востоковеда Поливанова Евгения, находящегося в Казахстане. Спецконвоем направьте 3 отдел Москву». На другой день снова: «Немедленно сообщите арестован ли Поливанов Евгений». Но арестован ученый еще не был: в Москве точно даже не знали, где он живет, и послали шифрограмму в Алма-Ату вместо Фрунзе, что подарило ему еще несколько дней свободы. Но все образовалось, и в деле подшиты «постановление» и «ордер № 477» на арест от 1 августа. В постановлении сказано о «контрреволюционной троцкистской деятельности»; видимо, поводом к аресту послужила информация о работе Поливанова с Троцким в 1917–1918 гг.
Но когда Евгения Дмитриевича доставили в Москву (зафиксировано его помещение в Бутырскую тюрьму 16 августа), обвинение в «троцкистской деятельности» исчезло из дела, заменившись «шпионажем в пользу Японии». Именно эту линию следствие выдерживало теперь вплоть до суда. Ученого обвинили в том, что еще в 1916 г. в Японии он был завербован японской разведкой и с тех пор вел «шпионскую деятельность». Отмечу, что среди прочего Поливанов обвинялся и в шпионаже против царской России. Такое обвинение еще несколько лет назад было немыслимо, а теперь оно встречалось и в других делах, например, в параллельно шедшем деле академика А. Н. Самойловича. Преемственность СССР по отношению к дореволюционной России, ранее отрицавшаяся, теперь все более утверждалась.
Единственные показания, содержащиеся в деле, принадлежат сотруднику НКИД Н. К. Кузнецову и по существу не говорят ничего о «шпионаже». Кузнецов, в 1916 г. находившийся одновременно с Поливановым в Японии, а потом работавший вместе с ним в НКИД, лишь повторяет рассказы о его поведении: в наркомате «вокруг него вращались восточники и особенно японцы, образ жизни вел крайне безалаберный: пьянство, связь с публичными женщинами, кокаинист». В том же духе описана и его жизнь в Японии, из чего делается вывод: «все эти факты дают повод подозревать его не в простой связи, а как человека, связанного с японцами по шпионажу, иначе японцы не допустили бы такого безобразия и могли поднять скандал». И все (после первого отъезда Поливанова в Среднюю Азию Кузнецов его никогда не видел).
Но заставили признаться в шпионаже и самого подследственного. Как это делалось, ясно из документа, которого в деле нет, но отрывки из которого приводятся в реабилитационной его части. Это заявление Поливанова от 1 октября 1937 г.: «Прошу о прекращении тяжелых приемов допроса (физических насилий), так как эти приемы заставляют меня лгать и приведут только к запутыванию следствия. Добавлю, что я близок к сумасшествию».
В итоге 15 октября был составлен пространный «протокол допроса обвиняемого», в котором Поливанов рассказал многое о своей жизни, но в то же время признавался в связях разных лет с японцами Яманаси, Макусэ и Умеда (реальными или мифическими?) и явно вымышленным корейцем Кимом «без особых примет», дававшим в 30-е гг. в Ташкенте ему задания «по изучению каналов возможного проникновения японского влияния в Среднюю Азию». Этим смертный приговор уже был подписан. Единственный путь к спасению в той ситуации заключался в том, чтобы выдержать все пытки и ничего не подписать. Такие случаи были, пример – друживший с Поливановым в годы его работы во Фрунзе киргизский писатель Аалы Токомбаев: два года он ни в чем не признавался и в 1939 г. был освобожден с полной реабилитацией. Но вынести «физические насилия» могли лишь немногие.
Дальше – рутина. 31 декабря 1937 г. было составлено обвинительное заключение с обвинением по трем статьям: шпионаж, терроризм и принадлежность к контрреволюционной организации, две первые статьи были расстрельными. 25 января следующего года состоялся суд. На нем Поливанов отказался от своих показаний на следствии и виновным себя не признал. Но это уже не имело никакого значения, последовал приговор к «высшей мере уголовного наказания», подлежавший «немедленному исполнению». В тот же день выдающийся ученый был расстрелян. Жена его Бригитта Альфредовна Нирк (эстонка), сопровождавшая его во всех скитаниях, была арестована как «агент польской разведки» в апреле 1938 г. и умерла в лагере в 1946 г.
Дальнейшая судьба научного наследия Поливанова – целый роман со многими поворотами сюжета, я однажды написал особую статью на эту тему. Разумеется, после ареста и расстрела этот ученый надолго перестал упоминаться. Но все-таки, как выясняется, даже при жизни И. В. Сталина запрет на это имя выдерживался не до конца, по крайней мере, в послевоенные годы. Правда, о нем не упоминали в связи с вопросами общего языкознания; даже когда Сталин осудил учение Марра, никто не вспомнил о том, кто критиковал его двумя десятилетиями раньше. А вот лингвисты-востоковеды, особенно специалисты по языкам, которыми занимался Евгений Дмитриевич (японский, китайский), не могли обойтись без его трудов и нередко ссылались на них. В послевоенные годы считалось важным подчеркивать приоритет русской науки по тем или иным вопросам. И в 1950 г. японистка Н. И. Фельдман (жена Н. И. Конрада) писала в послесловии к вышедшему немалым тиражом русско-японскому словарю: «Вопросы (японского. – В. А.) ударения были подняты впервые русским японоведением – Е. Д. Поливановым – около 30-ти с лишним лет назад, и в самой Японии стали изучаться, под влиянием работы Е. Д. Поливанова, только с этого времени». В отличие от некоторых других публикаций тех лет здесь русский приоритет обозначен вполне справедливо.
Как допускалось такое в отношении «шпиона» и «террориста»? Тут мог играть роль, в данном случае положительную, недостаток информации, иногда сознательно использовавшийся. Ленинградский профессор-китаист А. А. Драгунов утверждал, будто Поливанов был осужден не по политической статье, а за наркотики, потому его можно упоминать. Эта версия имела хождение и в 50-е гг. попала даже в японскую энциклопедию. А учивший нас профессор В. А. Звегинцев, видевший Поливанова в 30-е гг. в Ташкенте, даже в 1967 г., когда судьба ученого была достоверно известна, утверждал, будто он на самом деле повесился из-за того, что его книгу отвергло местное издательство. Вероятно, такая версия тоже имела распространение.
Когда началась массовая реабилитация, Поливанов долго не подпадал под нее по той причине, что некому оказалось о ней хлопотать: жена погибла, детей, братьев и сестер не было. Но писать о нем стали все больше. В 1955 г. герой одного из моих очерков, японист Н. А. Сыромятников, кажется, первым упомянул в печати о его противостоянии Н. Я. Марру. Но наиболее важной была публикация в «Вопросах языкознания» в 1957 г., еще до официальной реабилитации ученого, статьи В. В. Иванова, ныне академика, «Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова», где впервые было сказано о значении его трудов не только для японистики и китаистики, но для языкознания в целом. С конца 50-х гг. возобновилась и публикация его работ, в том числе ранее не печатавшихся. А В. А. Звегинцев в 1960 г. включил одну из статей книги «За марксистское языкознание» в хрестоматию по истории мировой лингвистики наравне с работами признанных классиков советской науки.
Но реабилитация была необходима. За отсутствием родственников просьбу о пересмотре дела на имя Генерального прокурора СССР направил в конце 1962 г. Институт языкознания АН СССР. Показания в пользу Поливанова дали его друзья и коллеги разных лет: В. Б. Шкловский, В. А. Каверин, Ю. Яншансин и др. В частности, Шкловский, не обошедший и наркоманию, вспоминал, как на его глазах во время Февральской революции Евгений Дмитриевич «с группой людей строил баррикаду, перевернув трамвайный вагон и омнибус», а «во время Кронштадтского восстания водил на лед китайские и корейские отряды». В конце его показаний сказано: «Считали, что он идет во главе мировой лингвистики, ища ей общие законы. Прошло много десятков лет. Вероятно, многое открыто другими, но для славы советской науки, для истории марксистского языковедения и для исследования социальных вопросов литературы Востока, думаю, работы Евгения Дмитриевича не прошли [даром]». В итоге 3 апреля 1963 г. произошла реабилитация.
После этого наследием ученого стали заниматься активнее. В 1964 г. благодаря усилиям Л. И. Ройзензона в Самарканде состоялась первая конференция его памяти, тогда же А. А. Леонтьевым был составлен сборник его избранных трудов, включивший как издававшиеся при жизни, так и неопубликованные работы. К нему были приложены статья А. А. Леонтьева, Л. И. Ройзензона и А. Д. Хаютина – первая биография Поливанова и библиография его работ. Его публикация шла с трудом: против нее выступил заведующий отделом языков Института востоковедения (тогда Института народов Азии) АН СССР Г. П. Сердюченко, в прошлом видный маррист. Большую роль в издании тома сыграл авторитет Н. И. Конрада, к тому времени академика. Книга вышла в 1968 г., вызвала большой интерес, в 1974 г. появилось ее английское издание.
В это время о Поливанове много говорили и писали и на Западе, и в Японии. На Западе его особенно ценили ученые левых взглядов, интересовавшиеся построением марксистской лингвистики. В 60-е гг. в Париже некоторое время существовал Поливановский кружок. А в Японии, где обычно игнорируют иностранные исследования по их языку, на работы Поливанова всегда обращали внимание, особенно их пропагандировал профессор Мураяма Ситиро (кстати, ученик так не любившего Поливанова Н. Н. Поппе), Мураяма подготовил изданный в 1976 г. на японском языке сборник японистических работ ученого.
У нас в 70-е гг. и в первой половине 80-х гг. труды Поливанова, разумеется, не исчезали из научного оборота, но кое-кто из начальства, особенно в провинции, считал его «неудобной фигурой». Во Фрунзе в 1981 г. не дали проводить заседание, посвященное 90-летию со дня его рождения, хотя в Москве в Институте востоковедения аналогичное заседание прошло без всяких трудностей. Но и в Москве после книги 1968 г. публикация работ Поливанова почти прекратилась, а подготовленное переиздание первого тома «Введения в языкознание для востоковедных вузов» много лет лежало без движения.
Все же и в это время Поливанова изучали. Первую монографию, посвященную его деятельности, издал в 1983 г. А. А. Леонтьев. А самаркандский литературовед В. Г. Ларцев в это же время написал большую книгу «Евгений Дмитриевич Поливанов. Страницы жизни и деятельности», во многом основанную на архиве, который долгие годы собирал Л. И. Ройзензон. Книга интересна большим количеством фактического материала, содержит немало воспоминаний о Евгении Дмитриевиче. Интересы автора сказались в том, что в ней впервые рассказывалось о Поливанове как литературоведе и поэте.
Эта книга, несколько лет доводившаяся до окончательного вида в издательстве, вышла в 1988 г. и оказалась ко времени. «Пошел маятник», и как раз на этапе «социализма с человеческим лицом» фигуры вроде Поливанова или Н. И. Бухарина оказались созвучны эпохе, книга самаркандского автора имела неплохой резонанс. Но маятник двинулся дальше, и к моменту столетнего юбилея ученого в 1991 г. в центре внимания находились уже другие лица. Ситуация оказалась прямо противоположной той, что была десять лет назад. В Киргизии (уже не во Фрунзе, а в Бишкеке), где процессы развивались с опозданием, в сентябре 1991 г., несмотря на всю непростую обстановку того месяца, прошла большая конференция памяти Поливанова. В Москве же ни одной конференции не было, а когда я подготовил юбилейную статью для «Вестника Академии наук», ее сначала приняли, но потом отказались публиковать на том основании, что не надо пропагандировать коммунистов. Статья, правда, вышла в журнале «Азия и Африка сегодня» благодаря М. С. Капице (см. очерк о нем).