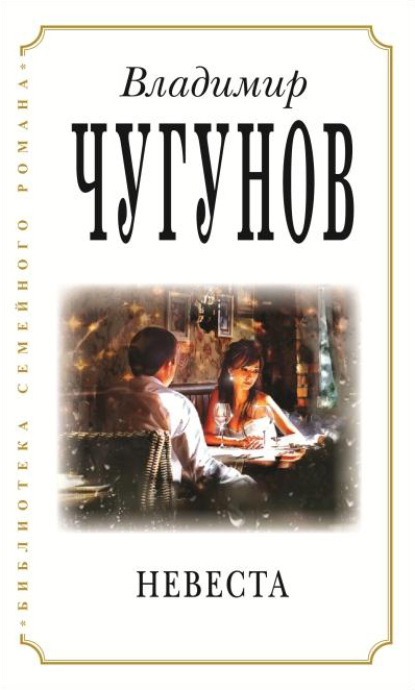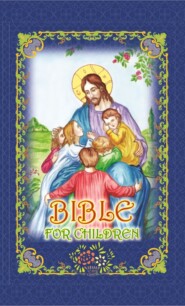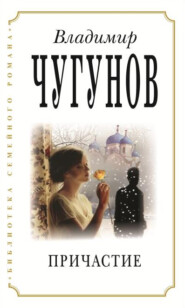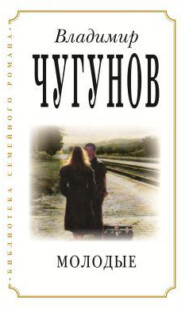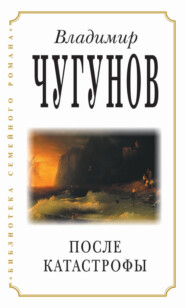По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Невеста
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Невеста
Владимир Аркадьевич Чугунов
Библиотека семейного романаНаследники #2
Это второй роман из цикла «Наследники». Он продолжает судьбу главных действующих лиц романа «Молодые» и повествует о судьбе третьей из сестёр Иларьевых Пашеньке. Из второй половины семидесятых годов действие переносится в начало восьмидесятых и происходит по преимуществу в Москве, куда после стольких лет «затворнической жизни», связанной с преданностью своей детской мечте, полная радужных надежд, в преддверии ожидаемого и оберегаемого от всех счастья, прибывает эта юная провинциалка. О том, что встретит её на самом деле, не приснилось бы ей и в кошмарном сне, но, увы, такова жизнь. И потом – что такое счастье, не призрак ли оно? Или причина его лежит в чём-то другом?
Издание 3-е, исправленное и дополненное.
Владимир Чугунов
Невеста
Часть первая
1
8 января 1982 года в районе полудня внутри храма Воскресения Словущего, что на Успенском Вражке, как говаривали в старину в Москве и о чём свидетельствовала памятная доска при входе, звонили колокола.
Окутанный дымкой нечаянно накативших морозов, звон этот иному прохожему мог показаться идущим из недр земли, как таинственный зов легендарного Китежа, но мог напомнить и о прокатившейся по России-матушке огнём и мечом эпохе, с взвитыми кострами синих ночей, с октябрятскими звёздочками, пионерскими галстуками, эхом прошедших войн, с огненными струями мартенов, движением транспарантов, выпуском непререкаемых декретов, утверждением грандиозных планов, великими свершениями пятилеток, запечатлённых нескончаемым потоком однообразных газет, в сопровождении бодрых маршей и песен про «наш паровоз», про тех, «кто был никем, а станет всем», и, конечно же, про ту единственную страну, где и «жизнь привольна и широка» и «где так вольно дышит человек», но мог напомнить и об истреблении казачества, переселённых народах, этапах и эшелонах, идущих на Север, о тревоге бессонных ночей, удавьей пасти ночных воронков, уничтожении священства, монастырей и храмов, – иначе странным мог показаться этот звон, и тем не менее он струился, как струится из-под палой листвы лесной родник, даже предусмотрительно загнанный за метровую толщину чудом уцелевших стен, он возвещал великий праздник Рождества.
И впрямь, давненько не было такой зимы, такого мороза и столь торжественного в морозном воздухе звона!
Обедня отошла. Из распахнутых дверей выходил народ – по большей части пожилой, повидавший виды, умудрённый опытом. Встречалась и молодёжь, в основном студенты, куда-то спешащие, отчего-то мятущиеся, чего-то ищущие. Казалось бы, ничего особенного, если не вглядываться в лица, а они-то как раз и были особенными, лишь они одни – во всей Москве, во всей стране, во всём мире, пожалуй.
И уж совсем особенными могли показаться вышедшие одними из последних две совсем ещё молоденькие женщина с девушкой – судя по всему, сёстры. Как и все, они тотчас зажмурились от обилия света – и свет радостью отразился на их лицах.
Осторожно сойдя по ступенькам небольшой паперти, они повернули в сторону Тверской, как они её меж собой на старинный манер называли. Первая была лет двадцати пяти, беременна, в вязаной шапочке, вторая, скорее всего, – гостья из провинции, недавняя школьница, с выпущенной на грудь из-под цветного платка светло-русой косой, что подчёркивало её неброскую, но чем-то притягательную и о чём-то напоминающую типично русскую красоту. Обе в вязаных белых варежках, белых женских унтах. Варежки и унты заметно выделяли их из столичной публики. Провинциальность сказывалась во всём их поведении – не та, что таращит глаза и шарахается от автомобильного шума, а та, о которой слагают романы в стихах, поют задушевнее песни… Особенно это было заметно по младшей. Всякое движение чувства тут же отражалось на её и в самом деле чем-то особенном лице – и полуденное сияние небес, и жизнь младенчески чистой души. Так, счастливая улыбка вскоре сменилась беспокойством, что не могло ускользнуть от внимательного взора старшей.
– Ну, и чего опять нос повесила? Эй, золотце самоварное, очнись! Да-да, очнись и подумай, стоит ли он того?
Заметив, что «золотце» даже не отреагировало на совершенно справедливое замечание, старшая дёрнула младшую за руку, и та на самом деле будто очнулась.
– Что? А-а, ты о Ване, Кать… Нет, я – не о нём.
– Хорошо. Тогда о ком… или о чём?
Действительно, о ком или о чём может думать младшая, если старшая и все остальные ни о ком другом так часто не говорили и не думали в последнее время – а теперь ещё в храме встретили. Правда, бегом, куда-то они с друзьями-приятелями опаздывали, спешили, потом, всё потом… А письма! Сколько их было отправлено и в Нижнеудинск, и в Самару, где Пашенька, как звали младшую в семье, в этом году окончила десятилетку.
Катя писала:
«С Ваней – беда: впал в аскетизм, спит на полу, и то не больше пяти часов, уверяя, что птица, проспавшая зарю, не может летать. Ты, говорю, куда лететь собрался? Не внемлет. Мяса в рот не берёт, уверяя, что Бог создал человека травоядным. Илья говорит, пройдёт. А если нет, крыша поедет, из университета выставят, и куда ему, когда о родителях даже слышать не хочет? Знаете, почему он им не пишет? От преизбыточной любви к Богу. Серьёзно! Так прямо и выражается: «Аще кто любит отца или мать более, нежеле Мене, несть Мене достоин». И вообще у него на всё готовый ответ из Писания. Прямо какой-то вывернутый наизнанку марксизм. Комсомолом, говорю, смердит из дыр твоего аскетического плаща. Глубокомысленно молчит опять. Смиряется, значит. Так что решайте сами – писать или не писать его родителям».
Известие поразило Пашеньку. Ваня Мартемьянов – остроумный говорун, выдумщик, «талантище», как говорили про него в школе, победитель во всех конкурсах, олимпиадах и кавээнах – и вдруг аскет, да ещё с глубокомысленным молчанием. Пашенька писала Ване, донимала письмами Катю, но та либо отвечала «всё то же», либо совсем ничего. И тогда Пашеньку одолело любопытство. Москва, столица, сложная жизнь большого города – это конечно, но не только это, и даже не столько это, как невозможная для забытой в тридцатых годах провинции возможность перемениться. А кто бы знал, как устала она быть единственной из всего класса, из всей школы, из всех Чувашей, пожалуй. То ли дело Москва! Как приятно было ей, например, сегодня очутиться среди сверстников, на которых никто даже и внимания не обращал в отличие от дедушкиного прихода, на который в последние годы ездила одна. Одиночество длилось четыре года – с тех пор, как уехала в Москву к мужу-художнику Катя, а Петя с Варей, трёхлетним Веней и годовалой Лидой на время учёбы в Московской духовной семинарии, а затем академии, поселились на частной квартире недалеко от стен знаменитой Троице-Сергиевой лавры. А сколько было выплакано слёз прежде! Да, но по какому поводу! Скажи кому – не поверят. Да что там – засмеют! И как сказать? Грезится что-то? Ещё, скажут, одна ненормальная!
На этом и застала её Катя. И так получилось, не хотела, а проговорилась, и теперь знала, сестра не отстанет и не успокоится, пока не выведает всё. И отговориться нечем – сразу догадается. Да и чем бы это дитя могло отговориться?
– Не знаю даже, как об этом сказать, – наконец решилась она, отводя в сторону глаза и наливаясь краской, как это бывает с детьми, которые, чтобы скрыть какую-нибудь «страшную тайну», собираются сказать не всю правду. – Только, пожалуйста, отнесись серьёзно.
Катя даже обиделась: это она-то несерьёзная?
– Я что-то не соображу… или я не сестра тебе? – И, стараясь заглянуть «глупой девчонке» в глаза, даже заступила ей дорогу. – Не отворачивайся, на меня смотри! Ну, что там ещё?
– Это не ещё, Катя, не ещё, – дрогнувшим голосом возразила Пашенька.
– А ты ещё заплачь. Да-да. А народ пусть полюбуется… – Для большей убедительности Катя даже руками развела, хотя улица была совершенно безлюдной. – Ну, так и будем стоять? – и, не дождавшись ответа, прибавила, выходя из себя: – Нет, это… или ты на самом деле не понимаешь, или я просто не знаю!..
– Понимаю, Кать, но и ты пойми… – И, однако же, не вдруг, а после довольно продолжительного молчания начала, выдержав прежде внутреннюю борьбу – и сомнение, и волнение, и нерешительность – и всё это до мельчайших подробностей отразилось и в её младенчески ясных глазах, и в выражении открытого лица, и в мягкости осторожной улыбки. – Тогда это, после вашего отъезда началось… – наконец разродилась она, и Катя облегчённо вздохнула.
История, в которой стыдно было признаться Пашеньке, да она и не собиралась этого в полной мере делать, началась за год до окончания школы и с краткими перерывами продолжалась практически до отъезда в Москву.
Как-то в начале мая, когда после зимней спячки начинают оживать сады и такие дивные бывают вечера, какая-то неведомая сила подняла её из-за письменного стола и повлекла на улицу. Не понимая, что с нею происходит, торопливо накинув на ходу плащ, Пашенька вышла на крыльцо. Сумерки наступали. Вишня в саду цвела. И такая стояла вокруг тишина, что даже слышен был полёт слепых майских жуков. Ватага мальчишек с сачками и гамом пронеслась мимо калитки. Затем три соседки-ровесницы торопливо прошли, о чём-то весело разговаривая. Куда они торопились, Пашенька знала, только сама там ни разу не была, хотя её и зазывали не раз. Становилось всё тише, всё темнее….
И тут («что в эту минуту со мной случилось, не знаю») она подняла глаза к звёздному небу, и у неё сами собой потекли слёзы, как это бывает, когда дети потихоньку от родителей отрешённо плачут в подушку.
По субботам она обычно отправлялась с дедушкой на приход на его стареньком «Москвиче», чтобы помочь сильно сдавшей за последний год псаломщице Александре Степановне. Бабушка-сердечница давно уже на приход не выезжала. Прихожане, в основном старушки, оказывали молоденькой псаломщице всяческое внимание, за чтение шестопсалмия и благодарственных молитв после причастия по заведённому обычаю собирая по пять – десять копеек. Но если прежде это внимание льстило, после того вечера стало тяготить. Было такое впечатление, что вместе с доживающими свой век старушками она проходит мимо чего-то главного в своей жизни. Практически на всех примелькавшихся за эти годы лицах можно было прочесть одно: всё позади. И отныне все разговоры сводились к благополучию детей, внуков, ведению немудрёного хозяйства. Отстоят обедню, справят требы, отслужат молебны, и с чувством исполненного долга, с галочьим граем, на разные лады перетолковывая очередные сплетни, двинут толпой к трассе, чтобы поспеть на проходивший два раза в день рейсовый автобус. И это из года в год, без малейших перемен, одно и то же.
Пока лелеяла надежду, о которой не сказала Кате ни слова, всё это казалось в её положении единственно возможным, когда же наконец поняла, что не может же это тянуться до бесконечности, да ещё всею душою вдруг почувствовала, как прекрасен мир, у неё словно пелена упала с глаз.
Продолжая ездить с дедушкой на приход, Пашенька все больше и больше тяготилась приходским однообразием, а затем под разными предлогами стала уклоняться от поездок, отговариваясь загруженностью учёбой, занятиями в кружке филологов, и всего лишь (об этом она Кате тоже не сказала) для того, чтобы не расстраивать родителей, стала посещать по воскресеньям кафедральный собор, на самом же деле (о чём тоже благоразумно умолчала) ходила, чтобы, как и сама Катя когда-то, однажды встретить какого-нибудь умного, скромного, пусть даже и немолодого человека. Отец, будучи дьяконом, ездил служить на свой приход; мать, прежде ездившая с ним, вынуждена была помогать вместо дочери дедушке. Таким образом, половину субботы и воскресенья Пашенька оставалась хозяйкой в доме и была предоставлена самой себе. И, пожалуй, впервые вкусила сладость свободы.
Отныне, всякий раз отправляясь в собор, она придирчиво рассматривала себя в зеркало. Но эти экзекуции причиняли ей очередные страдания. Почему-то казалось, на неё и не глянет никто. Самое обыкновенное лицо самой обыкновенной девчонки. Кончалось тем, что, в очередной раз показав несносному отражению язык, она выходила из дома, запирала на ключ дверь и, накинув на калитку крючок, бежала на станцию.
Электрички от пригородного поселка Чуваши, где они жили, до Самары ходили часто, так что буквально через полчаса Пашенька бывала у кафедрального собора. Поскольку приезжала на час, полтора раньше, до начала всенощного бдения гуляла по близлежащим улицам, затем где-нибудь в самом дальнем от алтаря уголке стояла службу и уходила после помазания, чтобы побродить ещё.
Вскоре она поняла, что ожидания её напрасны. И хотя в соборе постоянно появлялись дети местных священников, ни общаться, ни знакомиться с ними после охлаждения к приходской жизни Пашеньке не хотелось. И тогда вместо служб она стала ездить в читальный зал областной библиотеки. Ещё с прошлой осени, с того самого дня, когда впервые услышала в кружке филологов об Анне Григорьевне Достоевской, Пашеньке захотелось прочитать её воспоминания. И, записавшись в читальный зал, в первую очередь спросила об этой книге. Ей ответили, что её можно найти только в дореволюционных изданиях, иначе заказать в книгохране, поскольку в советское время книга эта не переиздавалась. И Пашенька сразу заказала. А в следующую субботу уже читала её. Читала взахлеб. Но именно с того вечера и началось…
Она так долго молчала, что Катя даже переспросила:
– Что началось?
Пашенька на неё уж как-то очень отстранённо взглянула, затем как бы что-то сообразила и, словно уходя от вопроса, поначалу сбивчиво заговорила:
– Ну… так вот то самое, о чём вначале упомянула, только гораздо сильнее… просто места себе не нахожу… и куда-то всё тянет, Кать, чего-то всё хочется… Тут подоспели экзамены. Сдаю, а сама ещё не решила, куда поступать. В медицинский расхотела, в наш университет, на филологический, чувствую тоже, не то, а тут ещё этот выпускной бал… Кать, я знаю, ни ты, ни Варя на выпускном не были, а я пошла. Спросила папу с мамой: можно? Папа промолчал, а мама сказала: а что, сходи. И я пошла. И как только вошла и услышала звуки электрогитар и оглушительный бой ударника, всё во мне, как в ту ночь на крыльце, перевернулось. Танцевать я не умею и поэтому встала у стены в потрясении от такой громкой музыки, и даже не сразу поняла, что взяло меня за душу, а потом догадалась – песня. Представляешь? «Чернобровую дивчину» пели.
– Какую ещё «Чернобровую дивчину»?
– Ах да, ты ведь не слышала… – смутилась Пашенька, заметив, что опять нечаянно проговорилась.
– Что значит, не слышала? А ты где слышала? И почему именно «Чернобровую дивчину»? И вообще, что это значит?
– Постой, Кать, погоди… ну не перебивай, пожалуйста, а то я совсем запутаюсь… Я просто хотела сказать, когда запели эту песню, один мальчик из параллельного класса меня пригласил, и всё. А песня про любовь… понимаешь? Он её любит, а она его нет. И он про это поёт.
– Кто?
– Музыкант. «Никогда я не поверю в то, что ты меня не слышишь, в то, что ты меня не любишь…» Понимаешь? Он про это поёт, а мы танцуем. Я же до этого никогда ни с кем не танцевала. Он меня за талию держит, а я глаза поднять боюсь. Как во сне, помнится, вернулась на своё место… Опять что-то не то говорю… Постой… Так. Что никуда поступать не стала – ты знаешь. Что к бабушке в Нижнеудинск на лето укатила – тоже… Я там все дни напролёт книжки читала. И всё время казалось… только пойми меня правильно, Кать… будто меня зовет кто-то. Ни голоса, ни звука, а зовёт… А порою так накатит, ну впору завыть…
Всё это Катя слушала сначала с едва скрываемой улыбкой, как только старшая может слушать глупенькую младшую, потом с беспокойством, а под конец сама разволновалась.
– Ты вот говоришь, а мне самой кажется, словно и у меня что-то похожее, когда Илью тогда встретила, было.
Владимир Аркадьевич Чугунов
Библиотека семейного романаНаследники #2
Это второй роман из цикла «Наследники». Он продолжает судьбу главных действующих лиц романа «Молодые» и повествует о судьбе третьей из сестёр Иларьевых Пашеньке. Из второй половины семидесятых годов действие переносится в начало восьмидесятых и происходит по преимуществу в Москве, куда после стольких лет «затворнической жизни», связанной с преданностью своей детской мечте, полная радужных надежд, в преддверии ожидаемого и оберегаемого от всех счастья, прибывает эта юная провинциалка. О том, что встретит её на самом деле, не приснилось бы ей и в кошмарном сне, но, увы, такова жизнь. И потом – что такое счастье, не призрак ли оно? Или причина его лежит в чём-то другом?
Издание 3-е, исправленное и дополненное.
Владимир Чугунов
Невеста
Часть первая
1
8 января 1982 года в районе полудня внутри храма Воскресения Словущего, что на Успенском Вражке, как говаривали в старину в Москве и о чём свидетельствовала памятная доска при входе, звонили колокола.
Окутанный дымкой нечаянно накативших морозов, звон этот иному прохожему мог показаться идущим из недр земли, как таинственный зов легендарного Китежа, но мог напомнить и о прокатившейся по России-матушке огнём и мечом эпохе, с взвитыми кострами синих ночей, с октябрятскими звёздочками, пионерскими галстуками, эхом прошедших войн, с огненными струями мартенов, движением транспарантов, выпуском непререкаемых декретов, утверждением грандиозных планов, великими свершениями пятилеток, запечатлённых нескончаемым потоком однообразных газет, в сопровождении бодрых маршей и песен про «наш паровоз», про тех, «кто был никем, а станет всем», и, конечно же, про ту единственную страну, где и «жизнь привольна и широка» и «где так вольно дышит человек», но мог напомнить и об истреблении казачества, переселённых народах, этапах и эшелонах, идущих на Север, о тревоге бессонных ночей, удавьей пасти ночных воронков, уничтожении священства, монастырей и храмов, – иначе странным мог показаться этот звон, и тем не менее он струился, как струится из-под палой листвы лесной родник, даже предусмотрительно загнанный за метровую толщину чудом уцелевших стен, он возвещал великий праздник Рождества.
И впрямь, давненько не было такой зимы, такого мороза и столь торжественного в морозном воздухе звона!
Обедня отошла. Из распахнутых дверей выходил народ – по большей части пожилой, повидавший виды, умудрённый опытом. Встречалась и молодёжь, в основном студенты, куда-то спешащие, отчего-то мятущиеся, чего-то ищущие. Казалось бы, ничего особенного, если не вглядываться в лица, а они-то как раз и были особенными, лишь они одни – во всей Москве, во всей стране, во всём мире, пожалуй.
И уж совсем особенными могли показаться вышедшие одними из последних две совсем ещё молоденькие женщина с девушкой – судя по всему, сёстры. Как и все, они тотчас зажмурились от обилия света – и свет радостью отразился на их лицах.
Осторожно сойдя по ступенькам небольшой паперти, они повернули в сторону Тверской, как они её меж собой на старинный манер называли. Первая была лет двадцати пяти, беременна, в вязаной шапочке, вторая, скорее всего, – гостья из провинции, недавняя школьница, с выпущенной на грудь из-под цветного платка светло-русой косой, что подчёркивало её неброскую, но чем-то притягательную и о чём-то напоминающую типично русскую красоту. Обе в вязаных белых варежках, белых женских унтах. Варежки и унты заметно выделяли их из столичной публики. Провинциальность сказывалась во всём их поведении – не та, что таращит глаза и шарахается от автомобильного шума, а та, о которой слагают романы в стихах, поют задушевнее песни… Особенно это было заметно по младшей. Всякое движение чувства тут же отражалось на её и в самом деле чем-то особенном лице – и полуденное сияние небес, и жизнь младенчески чистой души. Так, счастливая улыбка вскоре сменилась беспокойством, что не могло ускользнуть от внимательного взора старшей.
– Ну, и чего опять нос повесила? Эй, золотце самоварное, очнись! Да-да, очнись и подумай, стоит ли он того?
Заметив, что «золотце» даже не отреагировало на совершенно справедливое замечание, старшая дёрнула младшую за руку, и та на самом деле будто очнулась.
– Что? А-а, ты о Ване, Кать… Нет, я – не о нём.
– Хорошо. Тогда о ком… или о чём?
Действительно, о ком или о чём может думать младшая, если старшая и все остальные ни о ком другом так часто не говорили и не думали в последнее время – а теперь ещё в храме встретили. Правда, бегом, куда-то они с друзьями-приятелями опаздывали, спешили, потом, всё потом… А письма! Сколько их было отправлено и в Нижнеудинск, и в Самару, где Пашенька, как звали младшую в семье, в этом году окончила десятилетку.
Катя писала:
«С Ваней – беда: впал в аскетизм, спит на полу, и то не больше пяти часов, уверяя, что птица, проспавшая зарю, не может летать. Ты, говорю, куда лететь собрался? Не внемлет. Мяса в рот не берёт, уверяя, что Бог создал человека травоядным. Илья говорит, пройдёт. А если нет, крыша поедет, из университета выставят, и куда ему, когда о родителях даже слышать не хочет? Знаете, почему он им не пишет? От преизбыточной любви к Богу. Серьёзно! Так прямо и выражается: «Аще кто любит отца или мать более, нежеле Мене, несть Мене достоин». И вообще у него на всё готовый ответ из Писания. Прямо какой-то вывернутый наизнанку марксизм. Комсомолом, говорю, смердит из дыр твоего аскетического плаща. Глубокомысленно молчит опять. Смиряется, значит. Так что решайте сами – писать или не писать его родителям».
Известие поразило Пашеньку. Ваня Мартемьянов – остроумный говорун, выдумщик, «талантище», как говорили про него в школе, победитель во всех конкурсах, олимпиадах и кавээнах – и вдруг аскет, да ещё с глубокомысленным молчанием. Пашенька писала Ване, донимала письмами Катю, но та либо отвечала «всё то же», либо совсем ничего. И тогда Пашеньку одолело любопытство. Москва, столица, сложная жизнь большого города – это конечно, но не только это, и даже не столько это, как невозможная для забытой в тридцатых годах провинции возможность перемениться. А кто бы знал, как устала она быть единственной из всего класса, из всей школы, из всех Чувашей, пожалуй. То ли дело Москва! Как приятно было ей, например, сегодня очутиться среди сверстников, на которых никто даже и внимания не обращал в отличие от дедушкиного прихода, на который в последние годы ездила одна. Одиночество длилось четыре года – с тех пор, как уехала в Москву к мужу-художнику Катя, а Петя с Варей, трёхлетним Веней и годовалой Лидой на время учёбы в Московской духовной семинарии, а затем академии, поселились на частной квартире недалеко от стен знаменитой Троице-Сергиевой лавры. А сколько было выплакано слёз прежде! Да, но по какому поводу! Скажи кому – не поверят. Да что там – засмеют! И как сказать? Грезится что-то? Ещё, скажут, одна ненормальная!
На этом и застала её Катя. И так получилось, не хотела, а проговорилась, и теперь знала, сестра не отстанет и не успокоится, пока не выведает всё. И отговориться нечем – сразу догадается. Да и чем бы это дитя могло отговориться?
– Не знаю даже, как об этом сказать, – наконец решилась она, отводя в сторону глаза и наливаясь краской, как это бывает с детьми, которые, чтобы скрыть какую-нибудь «страшную тайну», собираются сказать не всю правду. – Только, пожалуйста, отнесись серьёзно.
Катя даже обиделась: это она-то несерьёзная?
– Я что-то не соображу… или я не сестра тебе? – И, стараясь заглянуть «глупой девчонке» в глаза, даже заступила ей дорогу. – Не отворачивайся, на меня смотри! Ну, что там ещё?
– Это не ещё, Катя, не ещё, – дрогнувшим голосом возразила Пашенька.
– А ты ещё заплачь. Да-да. А народ пусть полюбуется… – Для большей убедительности Катя даже руками развела, хотя улица была совершенно безлюдной. – Ну, так и будем стоять? – и, не дождавшись ответа, прибавила, выходя из себя: – Нет, это… или ты на самом деле не понимаешь, или я просто не знаю!..
– Понимаю, Кать, но и ты пойми… – И, однако же, не вдруг, а после довольно продолжительного молчания начала, выдержав прежде внутреннюю борьбу – и сомнение, и волнение, и нерешительность – и всё это до мельчайших подробностей отразилось и в её младенчески ясных глазах, и в выражении открытого лица, и в мягкости осторожной улыбки. – Тогда это, после вашего отъезда началось… – наконец разродилась она, и Катя облегчённо вздохнула.
История, в которой стыдно было признаться Пашеньке, да она и не собиралась этого в полной мере делать, началась за год до окончания школы и с краткими перерывами продолжалась практически до отъезда в Москву.
Как-то в начале мая, когда после зимней спячки начинают оживать сады и такие дивные бывают вечера, какая-то неведомая сила подняла её из-за письменного стола и повлекла на улицу. Не понимая, что с нею происходит, торопливо накинув на ходу плащ, Пашенька вышла на крыльцо. Сумерки наступали. Вишня в саду цвела. И такая стояла вокруг тишина, что даже слышен был полёт слепых майских жуков. Ватага мальчишек с сачками и гамом пронеслась мимо калитки. Затем три соседки-ровесницы торопливо прошли, о чём-то весело разговаривая. Куда они торопились, Пашенька знала, только сама там ни разу не была, хотя её и зазывали не раз. Становилось всё тише, всё темнее….
И тут («что в эту минуту со мной случилось, не знаю») она подняла глаза к звёздному небу, и у неё сами собой потекли слёзы, как это бывает, когда дети потихоньку от родителей отрешённо плачут в подушку.
По субботам она обычно отправлялась с дедушкой на приход на его стареньком «Москвиче», чтобы помочь сильно сдавшей за последний год псаломщице Александре Степановне. Бабушка-сердечница давно уже на приход не выезжала. Прихожане, в основном старушки, оказывали молоденькой псаломщице всяческое внимание, за чтение шестопсалмия и благодарственных молитв после причастия по заведённому обычаю собирая по пять – десять копеек. Но если прежде это внимание льстило, после того вечера стало тяготить. Было такое впечатление, что вместе с доживающими свой век старушками она проходит мимо чего-то главного в своей жизни. Практически на всех примелькавшихся за эти годы лицах можно было прочесть одно: всё позади. И отныне все разговоры сводились к благополучию детей, внуков, ведению немудрёного хозяйства. Отстоят обедню, справят требы, отслужат молебны, и с чувством исполненного долга, с галочьим граем, на разные лады перетолковывая очередные сплетни, двинут толпой к трассе, чтобы поспеть на проходивший два раза в день рейсовый автобус. И это из года в год, без малейших перемен, одно и то же.
Пока лелеяла надежду, о которой не сказала Кате ни слова, всё это казалось в её положении единственно возможным, когда же наконец поняла, что не может же это тянуться до бесконечности, да ещё всею душою вдруг почувствовала, как прекрасен мир, у неё словно пелена упала с глаз.
Продолжая ездить с дедушкой на приход, Пашенька все больше и больше тяготилась приходским однообразием, а затем под разными предлогами стала уклоняться от поездок, отговариваясь загруженностью учёбой, занятиями в кружке филологов, и всего лишь (об этом она Кате тоже не сказала) для того, чтобы не расстраивать родителей, стала посещать по воскресеньям кафедральный собор, на самом же деле (о чём тоже благоразумно умолчала) ходила, чтобы, как и сама Катя когда-то, однажды встретить какого-нибудь умного, скромного, пусть даже и немолодого человека. Отец, будучи дьяконом, ездил служить на свой приход; мать, прежде ездившая с ним, вынуждена была помогать вместо дочери дедушке. Таким образом, половину субботы и воскресенья Пашенька оставалась хозяйкой в доме и была предоставлена самой себе. И, пожалуй, впервые вкусила сладость свободы.
Отныне, всякий раз отправляясь в собор, она придирчиво рассматривала себя в зеркало. Но эти экзекуции причиняли ей очередные страдания. Почему-то казалось, на неё и не глянет никто. Самое обыкновенное лицо самой обыкновенной девчонки. Кончалось тем, что, в очередной раз показав несносному отражению язык, она выходила из дома, запирала на ключ дверь и, накинув на калитку крючок, бежала на станцию.
Электрички от пригородного поселка Чуваши, где они жили, до Самары ходили часто, так что буквально через полчаса Пашенька бывала у кафедрального собора. Поскольку приезжала на час, полтора раньше, до начала всенощного бдения гуляла по близлежащим улицам, затем где-нибудь в самом дальнем от алтаря уголке стояла службу и уходила после помазания, чтобы побродить ещё.
Вскоре она поняла, что ожидания её напрасны. И хотя в соборе постоянно появлялись дети местных священников, ни общаться, ни знакомиться с ними после охлаждения к приходской жизни Пашеньке не хотелось. И тогда вместо служб она стала ездить в читальный зал областной библиотеки. Ещё с прошлой осени, с того самого дня, когда впервые услышала в кружке филологов об Анне Григорьевне Достоевской, Пашеньке захотелось прочитать её воспоминания. И, записавшись в читальный зал, в первую очередь спросила об этой книге. Ей ответили, что её можно найти только в дореволюционных изданиях, иначе заказать в книгохране, поскольку в советское время книга эта не переиздавалась. И Пашенька сразу заказала. А в следующую субботу уже читала её. Читала взахлеб. Но именно с того вечера и началось…
Она так долго молчала, что Катя даже переспросила:
– Что началось?
Пашенька на неё уж как-то очень отстранённо взглянула, затем как бы что-то сообразила и, словно уходя от вопроса, поначалу сбивчиво заговорила:
– Ну… так вот то самое, о чём вначале упомянула, только гораздо сильнее… просто места себе не нахожу… и куда-то всё тянет, Кать, чего-то всё хочется… Тут подоспели экзамены. Сдаю, а сама ещё не решила, куда поступать. В медицинский расхотела, в наш университет, на филологический, чувствую тоже, не то, а тут ещё этот выпускной бал… Кать, я знаю, ни ты, ни Варя на выпускном не были, а я пошла. Спросила папу с мамой: можно? Папа промолчал, а мама сказала: а что, сходи. И я пошла. И как только вошла и услышала звуки электрогитар и оглушительный бой ударника, всё во мне, как в ту ночь на крыльце, перевернулось. Танцевать я не умею и поэтому встала у стены в потрясении от такой громкой музыки, и даже не сразу поняла, что взяло меня за душу, а потом догадалась – песня. Представляешь? «Чернобровую дивчину» пели.
– Какую ещё «Чернобровую дивчину»?
– Ах да, ты ведь не слышала… – смутилась Пашенька, заметив, что опять нечаянно проговорилась.
– Что значит, не слышала? А ты где слышала? И почему именно «Чернобровую дивчину»? И вообще, что это значит?
– Постой, Кать, погоди… ну не перебивай, пожалуйста, а то я совсем запутаюсь… Я просто хотела сказать, когда запели эту песню, один мальчик из параллельного класса меня пригласил, и всё. А песня про любовь… понимаешь? Он её любит, а она его нет. И он про это поёт.
– Кто?
– Музыкант. «Никогда я не поверю в то, что ты меня не слышишь, в то, что ты меня не любишь…» Понимаешь? Он про это поёт, а мы танцуем. Я же до этого никогда ни с кем не танцевала. Он меня за талию держит, а я глаза поднять боюсь. Как во сне, помнится, вернулась на своё место… Опять что-то не то говорю… Постой… Так. Что никуда поступать не стала – ты знаешь. Что к бабушке в Нижнеудинск на лето укатила – тоже… Я там все дни напролёт книжки читала. И всё время казалось… только пойми меня правильно, Кать… будто меня зовет кто-то. Ни голоса, ни звука, а зовёт… А порою так накатит, ну впору завыть…
Всё это Катя слушала сначала с едва скрываемой улыбкой, как только старшая может слушать глупенькую младшую, потом с беспокойством, а под конец сама разволновалась.
– Ты вот говоришь, а мне самой кажется, словно и у меня что-то похожее, когда Илью тогда встретила, было.