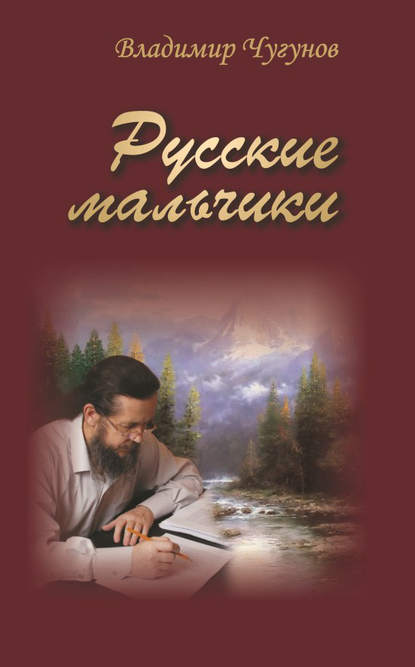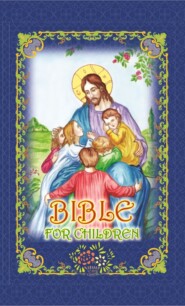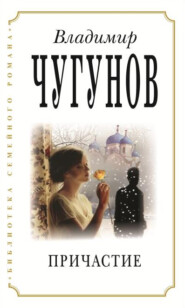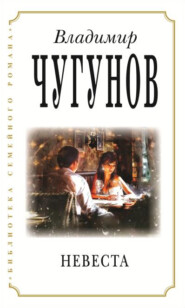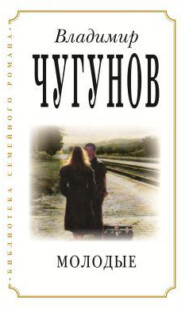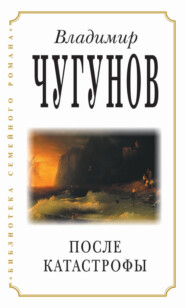По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русские мальчики (сборник)
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Русские мальчики (сборник)
протоиерей Владимир Аркадьевич Чугунов
Библиотека семейного романа
Чугунов Владимир Аркадьевич – протоиерей, обладатель грамоты номинанта Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия за 2011 год.
«Есть ли Бог? Есть ли бессмертие?» – основные темы книги, вечные вопросы «русских мальчиков», впервые выведенных Ф. М. Достоевским в романе «Братья Карамазовы». Хотим мы или не хотим, нравится нам это или нет, но каждое новое поколение будет решать их по-своему, как и поколение тех, кому теперь под шестьдесят. Книга предназначена для широкого круга читателей.
Издание 3-е, исправленное
протоиерей Владимир Чугунов
Русские мальчики. Деревенька
© Чугунов В. А.
* * *
Посвящается жене – Галине Николаевне
Русские мальчики
«… И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время».
Ф. М. Достоевский «Братья Карамазовы»
«Человека чести и ума, таланта и сердца – не спрашивают о его «предках», ибо он сам есть «предок» для грядущего потомства».
И. А. Ильин
Часть первая
Глава первая
1
Пастушеский сезон 1989 года был последним годом моего своеобразного затворничества и казался завершающим перед вступлением в новый период жизни.
Той осенью в меня стреляли. Теперь мне кажется, выстрел этот имел некое символическое значение. Как бы обрывалась связь с прошлым или пуповина. Кончалось время ученичества, я стоял на распутье, как и восемь лет назад, в 1981 году, и не знал, на что решиться, что выбрать. И, чувствуя в себе неуёмную жажду деятельности, всю осень открывал новые и новые пастбища. Как и для всякого пастуха, наступало самое привольное время. Оно чувствовалось всюду и всеми. Особенно – скотиной, мирно пасущейся вдоль нескончаемого берега Оки, в дубовой роще, по сжатым нивам. Воспоминания о летних полднях, пропитанных запахом пота, отравленных укусами гнуса – особенно оттеняло это блаженство. Гусиные косяки, одиноко кружащие над болотами цапли, шумные стаи уток, холодные туманы по утрам, таинственные, как смерть, лучи вечернего солнца – всё тревожило душу чемоданным настроением. Всему, казалось, был подведен итог: и юношеским переживаниям, и военному присутствию в горах Тюрингии, и старательству, и учёбе в Литинституте, – до того момента, когда с такой осязаемой надеждой вдруг замаячила впереди земля обетованная.
«Да поминаете день исхода вашего из земли Египетския, вся дни живота вашего».
Тот день мне особенно памятен. Внешне он ничем не отличался от других дней и начался такою же утренней свежестью, густым туманом – над прудом и селом, более редким – в дубовой роще.
Соединив гавриловское и ипяковское стада, вдоль Вьюновки, кормилице и забаве детства, где-то за Нагулиным впадавшей в Гниличку, а та – в Оку, по высохшим за лето гатям, ушел в заливные луга, окруженные трясиной болот, заросших стеной осоки и тростника.
Из потрепанной пастушеской сумки достал молитвослов, затем Библию, третий раз – и всегда по-новому – шестой сезон читаемую мною. В чуткой утренней тишине значительнее казались слова бессмертной Книги.
На кусты ивняка, осоку, палую листву маслянисто садился туман, приятной свежестью опахивал лицо, мелким бисером блестел на выбившихся из-под берета волосах, бороде, холодил руки, увлажнял пожелтевшие листы Библии.
«Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, приготовь душу твою к искушению: управь сердце и будь твёрд, и не смущайся во время посещения; прилепись к Нему и не отступай, дабы возвеличиться напоследок. Всё, что ни приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив, ибо золото испытывается в огне, а человек, угодный Богу, в горниле уничижения».
Как это волновало меня!
Положив книгу на пенёк, стал ходить по излюбленному закутку, окруженному древними, как слова Сираха, дубами, по щёлкающим под ногами желудям, двадцать шагов туда и двадцать обратно – место отдыха на покосах.
«Для чего же не уклоняться? – спрашивал себя и сам же отвечал: – Чтобы не упасть. А веровать – чтобы не быть постыженным и оставленным. Страшно быть оставленным!»
«Горе сердцу расслабленному! Ибо оно не верует, и за то не будет защищено».
Вон оно что! Оказывается, причина неверия не от науки, не окружающая среда, не безбожный, развращённый мир, а расслабленное сердце!
«Много высоких и славных, но тайны открываются смиренным», – прочёл дальше и опять задумался. Как всегда хотелось узнать эти Божии тайны! Порою, казалось, вот-вот, сейчас, за Относским горизонтом или в тихом Елевом долу, за лесным поворотом, на тихой, залитой полуденным солнцем поляне, среди утренней тишины, во время «умного делания» или после чтения Апокалипсиса Господь откроет хотя бы одну из них… И что же? Лишь – ощущение таинственности, какой-то всё ускользающей близости, как в «Песне Песней»: «я встала, чтобы открыть возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушёл!» Так отходит всякий раз ощущение чего-то нездешнего, когда, отложив чтение, задумаешься. Блаженная тоска души! Совершенно иная, не та, что «по ту сторону добра и зла», как любил выражаться руководитель творческого семинара Владимир Ильич Амлинский. Или та, что замаячила в дни перестройки на историческом горизонте. Казалось, надвигалось что-то неотвратимое. Что именно – никто тогда толком не мог понять и объяснить. Крушение идей и всей жизни, пожалуй. Мышиная возня у кормушки власти и денег. Разделение мнений и понятий, «охота к перемене мест», телечудеса, НЛО, инопланетяне, ясновидящие и прозорливцы, лекари и шарлатаны, непрестанная пустая трескотня, волнение умов от вновь и вновь появлявшихся публикаций о лагерной жизни и «тайнах мадридского двора», экономические, экологические и всякие иные неотложные проблемы. Складывались и ломались судьбы, гибли в автокатастрофах сильные мира сего. Очерчивались контуры будущих направлений. Ничего ещё не было ясно выражено и хотя бы чуть-чуть оформлено, а уже всем хотелось только нового, только лучшего. Создавалось впечатление, что в устоявшееся болото стремительно вливалась мощная струя – и мутила. Муть эта подступала к берегам, и нельзя было угадать, во что всё это выльется. И, тем не менее, всем хотелось, чтобы непременно двинулось, непременно вылилось. И все вместе и порознь, кто как умел и понимал, спешили что-то и от кого-то спасать. Какое искушение! Какое испытание! А что делать мне? Продолжать сидеть в своём затворе? По-прежнему только читать и писать? Нельзя ли и мне найти во всём этом применение? Не настаёт ли пора? Да, но в чём и как? Так робки ещё были попытки осознания этого нового. А что, если оно не «наше» и не «для нас»?
Туман прибило к земле, и в одно мгновение огромное пространство заливных лугов засеребрилось до рези в глазах. Стадо сходилось на лежанку, удрученно вздыхая, укладывалось недалеко от закутка. Теперь можно было отдохнуть, но спать не хотелось, а хотелось читать и читать.
«Чрез меру трудного для тебя не ищи, и что свыше сил твоих не испытывай», – прочёл я.
И опять задумался. Как определить, как узнать меру? Столько было сделано ошибок на этом пути, сколько получено ран! И всё оттого, как уверяет Писание, «иже не управлены суть, как листья падают, спасение же во многом совеете». Во многом, но не со многими.
«Что заповедано тебе, о том размышляй; ибо не нужно тебе, что сокрыто… Многих ввели в заблужденея их предположения».
И это верно. О чём думаем, тем и живём. Порою и день, и два проходят под каким-нибудь сильным впечатлением. А если бы – из Писания? Закрытая Книга! Во всяком случае, для большинства.
«Упорное сердце обременено скорбями». И сколько этого упорства! Хотя определен и его источник, вот: «Зерно злого семени посеяно в сердце Адама (а значит, в каждом из нас) изначала, и сколько нечестия породило оно доселе и будет рождать до тех пор, пока не настанет молотьба. Что пользы, если нам обещано бессмертие, а мы, непотребные, осуетились? Нам уготованы жилища здоровья и покоя, а мы жили плохо? Обещан рай, но мы не войдём в него, потому что истаскались по местам неплодным».
«По местам неплодным» – не о политике ли речь? А может – о способах и формах нашей жизни? Взять, к примеру, матушку Варвару, «батюшку» или то «Божье чадо». Да мало ли! Об одних думать не хочется, других забыть не могу.
2
Сидел, помнится, как-то на стане за Гавриловской школой. Незаметно подошла она, как тихий ангел, держа в натруженных руках посох да бидон земляники, присела рядышком перевести дух, глянула на раскрытую книгу, спросила:
– Библия?
Кивнул, внимательно вглядываясь в это ветхое создание. Особенно удивили по-детски ясные глаза.
– В Бога, стало быть, веруешь, – ласково заключила она и, глянув куда-то вдаль, улыбнулась. – Да-а, вера – всё. Сама, почитай, только верою и дышу. И всё-то мне от неё мило – небо, облачка, берёзки, сосёнки, каждый кустик. Выйду на речку полоскать – хорошо! По четыре часа, порой, кряду Писание читаю. Одна живу. Не оторвалась бы, да дела поделать надо… Спросят, не скучно одной? Да разве я одна? Мне с имя скучно. Кабы Божие слушать хотели. Говорить-то говорят без умолку, да всё не то. Только друг дружке сердца выстужают. Соборовал у нас на Крестопоклонной батюшка, так сказывал про Матушку, Царицу Небесную, у немцев (или как их там) трём девочкам на поле явилась и говорит: «Устала, быть, я за них молиться. Так им и передайте». Нам – то есть. Всю ночь после того плакала. И теперь, как вспомню, плакать хочется. Огорчаем шибко мы Заступницу нашу. Говорю – а им про это не интересно. Про Склыпировского какого-то всё трещат. На телевизор не налюбуются. Эка невидаль! Мне один старичок ещё в первую Германскую сказывал, что придёт время, сатана придумает такой ящик, перед которым соберёт весь мир, а рога на крышу поставит. И жалко их, и помочь ничем не могу. Только и остаётся, что молиться. За полночь, бывало, встану, да так до свету и промолюсь… Выйду на волю, гляну вокруг – и так мне всё любо! Облачка, солнышко наливается, туман с реки в проулок заползает, петухи перекликаются, птицы небесные поют – хорошо! Нет, думаю, не устала Матушка за нас Бога молить и никогда не перестанет!
И глаза её засияли как у ребёнка. А сам я забыл, что я и где я. Так и хочется повторить вслед за апостолом – «в теле или вне тела». Нас словно что-то окружило, как бывало в детстве, в шалаше, когда внезапно создавался обособленный от всего прочего сказочный мир. Теперь мне кажется, что это и есть те прикосновения с вечностью или с живительным её дыханием, без чего тяжела жизнь, особенно к старости.
Взять хоть, к примеру, Бориса Павловича. Второй год он помогает мне по весне приваживать стадо. Сейчас у него горе: умер «в вине» единственный сын. И теперь всякий раз он поджидает меня по вечерам, чтобы отвести душу. За время совместного пастушества мы немного сроднились. Во всяком случае, я много знаю о нём из его красочных рассказов. Начинает он их с присказки: «Не-эт, Володенька, Бог меня обидел, и я Ему не верю». И в подтверждение – история. Одна из тех, что не так давно вершила судьбами миллионов. Любил и пошутить. Бывало, спросит: «Не пора ли домой?» – «А не рано?» – «Смотря, – скаламбурит, – какая рана, а то и медведь не залижет». Но пошлости и скабрезности не любил. Была в нём чисто русская благородная душа крестьянина. Можно бы сказать, христианина, если б он так категорично не настаивал, что «Бог его обидел, и он Ему не верит». Даже смерть сына не поколебала его убеждений, а только придавила.
– Ну, как же меня Бог не обидел, – в очередной раз жаловался он мне. – Кольки нет, теперь совсем один. А только на КамАЗ устроился. Утром бы в рейс, да сосед достал накануне: выпьем. И я с полстакана выпил. Что за отрава была – не знаю. Мне ничего, а он лёг на кровать да и захрипел. Я туда, сюда. Пока соображал да бегал, он и готов. А теперь ходит, стучит, спать не даёт. Жутко аж. Ты бы помолился, зашёл.
– Как это помолился, – удивился я, – ты же не веришь?
– Ты это, знаешь, Володенька, – забормотал он, отводя налитые слезами глаза, – оно, конечно, Бог меня обидел, а всёжки я в жизнь в Ёво не ругался. Мы с тобой, как свои. И ты меня, старика, не обижай, помолись.
Что с ним было делать?
протоиерей Владимир Аркадьевич Чугунов
Библиотека семейного романа
Чугунов Владимир Аркадьевич – протоиерей, обладатель грамоты номинанта Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия за 2011 год.
«Есть ли Бог? Есть ли бессмертие?» – основные темы книги, вечные вопросы «русских мальчиков», впервые выведенных Ф. М. Достоевским в романе «Братья Карамазовы». Хотим мы или не хотим, нравится нам это или нет, но каждое новое поколение будет решать их по-своему, как и поколение тех, кому теперь под шестьдесят. Книга предназначена для широкого круга читателей.
Издание 3-е, исправленное
протоиерей Владимир Чугунов
Русские мальчики. Деревенька
© Чугунов В. А.
* * *
Посвящается жене – Галине Николаевне
Русские мальчики
«… И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время».
Ф. М. Достоевский «Братья Карамазовы»
«Человека чести и ума, таланта и сердца – не спрашивают о его «предках», ибо он сам есть «предок» для грядущего потомства».
И. А. Ильин
Часть первая
Глава первая
1
Пастушеский сезон 1989 года был последним годом моего своеобразного затворничества и казался завершающим перед вступлением в новый период жизни.
Той осенью в меня стреляли. Теперь мне кажется, выстрел этот имел некое символическое значение. Как бы обрывалась связь с прошлым или пуповина. Кончалось время ученичества, я стоял на распутье, как и восемь лет назад, в 1981 году, и не знал, на что решиться, что выбрать. И, чувствуя в себе неуёмную жажду деятельности, всю осень открывал новые и новые пастбища. Как и для всякого пастуха, наступало самое привольное время. Оно чувствовалось всюду и всеми. Особенно – скотиной, мирно пасущейся вдоль нескончаемого берега Оки, в дубовой роще, по сжатым нивам. Воспоминания о летних полднях, пропитанных запахом пота, отравленных укусами гнуса – особенно оттеняло это блаженство. Гусиные косяки, одиноко кружащие над болотами цапли, шумные стаи уток, холодные туманы по утрам, таинственные, как смерть, лучи вечернего солнца – всё тревожило душу чемоданным настроением. Всему, казалось, был подведен итог: и юношеским переживаниям, и военному присутствию в горах Тюрингии, и старательству, и учёбе в Литинституте, – до того момента, когда с такой осязаемой надеждой вдруг замаячила впереди земля обетованная.
«Да поминаете день исхода вашего из земли Египетския, вся дни живота вашего».
Тот день мне особенно памятен. Внешне он ничем не отличался от других дней и начался такою же утренней свежестью, густым туманом – над прудом и селом, более редким – в дубовой роще.
Соединив гавриловское и ипяковское стада, вдоль Вьюновки, кормилице и забаве детства, где-то за Нагулиным впадавшей в Гниличку, а та – в Оку, по высохшим за лето гатям, ушел в заливные луга, окруженные трясиной болот, заросших стеной осоки и тростника.
Из потрепанной пастушеской сумки достал молитвослов, затем Библию, третий раз – и всегда по-новому – шестой сезон читаемую мною. В чуткой утренней тишине значительнее казались слова бессмертной Книги.
На кусты ивняка, осоку, палую листву маслянисто садился туман, приятной свежестью опахивал лицо, мелким бисером блестел на выбившихся из-под берета волосах, бороде, холодил руки, увлажнял пожелтевшие листы Библии.
«Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, приготовь душу твою к искушению: управь сердце и будь твёрд, и не смущайся во время посещения; прилепись к Нему и не отступай, дабы возвеличиться напоследок. Всё, что ни приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив, ибо золото испытывается в огне, а человек, угодный Богу, в горниле уничижения».
Как это волновало меня!
Положив книгу на пенёк, стал ходить по излюбленному закутку, окруженному древними, как слова Сираха, дубами, по щёлкающим под ногами желудям, двадцать шагов туда и двадцать обратно – место отдыха на покосах.
«Для чего же не уклоняться? – спрашивал себя и сам же отвечал: – Чтобы не упасть. А веровать – чтобы не быть постыженным и оставленным. Страшно быть оставленным!»
«Горе сердцу расслабленному! Ибо оно не верует, и за то не будет защищено».
Вон оно что! Оказывается, причина неверия не от науки, не окружающая среда, не безбожный, развращённый мир, а расслабленное сердце!
«Много высоких и славных, но тайны открываются смиренным», – прочёл дальше и опять задумался. Как всегда хотелось узнать эти Божии тайны! Порою, казалось, вот-вот, сейчас, за Относским горизонтом или в тихом Елевом долу, за лесным поворотом, на тихой, залитой полуденным солнцем поляне, среди утренней тишины, во время «умного делания» или после чтения Апокалипсиса Господь откроет хотя бы одну из них… И что же? Лишь – ощущение таинственности, какой-то всё ускользающей близости, как в «Песне Песней»: «я встала, чтобы открыть возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушёл!» Так отходит всякий раз ощущение чего-то нездешнего, когда, отложив чтение, задумаешься. Блаженная тоска души! Совершенно иная, не та, что «по ту сторону добра и зла», как любил выражаться руководитель творческого семинара Владимир Ильич Амлинский. Или та, что замаячила в дни перестройки на историческом горизонте. Казалось, надвигалось что-то неотвратимое. Что именно – никто тогда толком не мог понять и объяснить. Крушение идей и всей жизни, пожалуй. Мышиная возня у кормушки власти и денег. Разделение мнений и понятий, «охота к перемене мест», телечудеса, НЛО, инопланетяне, ясновидящие и прозорливцы, лекари и шарлатаны, непрестанная пустая трескотня, волнение умов от вновь и вновь появлявшихся публикаций о лагерной жизни и «тайнах мадридского двора», экономические, экологические и всякие иные неотложные проблемы. Складывались и ломались судьбы, гибли в автокатастрофах сильные мира сего. Очерчивались контуры будущих направлений. Ничего ещё не было ясно выражено и хотя бы чуть-чуть оформлено, а уже всем хотелось только нового, только лучшего. Создавалось впечатление, что в устоявшееся болото стремительно вливалась мощная струя – и мутила. Муть эта подступала к берегам, и нельзя было угадать, во что всё это выльется. И, тем не менее, всем хотелось, чтобы непременно двинулось, непременно вылилось. И все вместе и порознь, кто как умел и понимал, спешили что-то и от кого-то спасать. Какое искушение! Какое испытание! А что делать мне? Продолжать сидеть в своём затворе? По-прежнему только читать и писать? Нельзя ли и мне найти во всём этом применение? Не настаёт ли пора? Да, но в чём и как? Так робки ещё были попытки осознания этого нового. А что, если оно не «наше» и не «для нас»?
Туман прибило к земле, и в одно мгновение огромное пространство заливных лугов засеребрилось до рези в глазах. Стадо сходилось на лежанку, удрученно вздыхая, укладывалось недалеко от закутка. Теперь можно было отдохнуть, но спать не хотелось, а хотелось читать и читать.
«Чрез меру трудного для тебя не ищи, и что свыше сил твоих не испытывай», – прочёл я.
И опять задумался. Как определить, как узнать меру? Столько было сделано ошибок на этом пути, сколько получено ран! И всё оттого, как уверяет Писание, «иже не управлены суть, как листья падают, спасение же во многом совеете». Во многом, но не со многими.
«Что заповедано тебе, о том размышляй; ибо не нужно тебе, что сокрыто… Многих ввели в заблужденея их предположения».
И это верно. О чём думаем, тем и живём. Порою и день, и два проходят под каким-нибудь сильным впечатлением. А если бы – из Писания? Закрытая Книга! Во всяком случае, для большинства.
«Упорное сердце обременено скорбями». И сколько этого упорства! Хотя определен и его источник, вот: «Зерно злого семени посеяно в сердце Адама (а значит, в каждом из нас) изначала, и сколько нечестия породило оно доселе и будет рождать до тех пор, пока не настанет молотьба. Что пользы, если нам обещано бессмертие, а мы, непотребные, осуетились? Нам уготованы жилища здоровья и покоя, а мы жили плохо? Обещан рай, но мы не войдём в него, потому что истаскались по местам неплодным».
«По местам неплодным» – не о политике ли речь? А может – о способах и формах нашей жизни? Взять, к примеру, матушку Варвару, «батюшку» или то «Божье чадо». Да мало ли! Об одних думать не хочется, других забыть не могу.
2
Сидел, помнится, как-то на стане за Гавриловской школой. Незаметно подошла она, как тихий ангел, держа в натруженных руках посох да бидон земляники, присела рядышком перевести дух, глянула на раскрытую книгу, спросила:
– Библия?
Кивнул, внимательно вглядываясь в это ветхое создание. Особенно удивили по-детски ясные глаза.
– В Бога, стало быть, веруешь, – ласково заключила она и, глянув куда-то вдаль, улыбнулась. – Да-а, вера – всё. Сама, почитай, только верою и дышу. И всё-то мне от неё мило – небо, облачка, берёзки, сосёнки, каждый кустик. Выйду на речку полоскать – хорошо! По четыре часа, порой, кряду Писание читаю. Одна живу. Не оторвалась бы, да дела поделать надо… Спросят, не скучно одной? Да разве я одна? Мне с имя скучно. Кабы Божие слушать хотели. Говорить-то говорят без умолку, да всё не то. Только друг дружке сердца выстужают. Соборовал у нас на Крестопоклонной батюшка, так сказывал про Матушку, Царицу Небесную, у немцев (или как их там) трём девочкам на поле явилась и говорит: «Устала, быть, я за них молиться. Так им и передайте». Нам – то есть. Всю ночь после того плакала. И теперь, как вспомню, плакать хочется. Огорчаем шибко мы Заступницу нашу. Говорю – а им про это не интересно. Про Склыпировского какого-то всё трещат. На телевизор не налюбуются. Эка невидаль! Мне один старичок ещё в первую Германскую сказывал, что придёт время, сатана придумает такой ящик, перед которым соберёт весь мир, а рога на крышу поставит. И жалко их, и помочь ничем не могу. Только и остаётся, что молиться. За полночь, бывало, встану, да так до свету и промолюсь… Выйду на волю, гляну вокруг – и так мне всё любо! Облачка, солнышко наливается, туман с реки в проулок заползает, петухи перекликаются, птицы небесные поют – хорошо! Нет, думаю, не устала Матушка за нас Бога молить и никогда не перестанет!
И глаза её засияли как у ребёнка. А сам я забыл, что я и где я. Так и хочется повторить вслед за апостолом – «в теле или вне тела». Нас словно что-то окружило, как бывало в детстве, в шалаше, когда внезапно создавался обособленный от всего прочего сказочный мир. Теперь мне кажется, что это и есть те прикосновения с вечностью или с живительным её дыханием, без чего тяжела жизнь, особенно к старости.
Взять хоть, к примеру, Бориса Павловича. Второй год он помогает мне по весне приваживать стадо. Сейчас у него горе: умер «в вине» единственный сын. И теперь всякий раз он поджидает меня по вечерам, чтобы отвести душу. За время совместного пастушества мы немного сроднились. Во всяком случае, я много знаю о нём из его красочных рассказов. Начинает он их с присказки: «Не-эт, Володенька, Бог меня обидел, и я Ему не верю». И в подтверждение – история. Одна из тех, что не так давно вершила судьбами миллионов. Любил и пошутить. Бывало, спросит: «Не пора ли домой?» – «А не рано?» – «Смотря, – скаламбурит, – какая рана, а то и медведь не залижет». Но пошлости и скабрезности не любил. Была в нём чисто русская благородная душа крестьянина. Можно бы сказать, христианина, если б он так категорично не настаивал, что «Бог его обидел, и он Ему не верит». Даже смерть сына не поколебала его убеждений, а только придавила.
– Ну, как же меня Бог не обидел, – в очередной раз жаловался он мне. – Кольки нет, теперь совсем один. А только на КамАЗ устроился. Утром бы в рейс, да сосед достал накануне: выпьем. И я с полстакана выпил. Что за отрава была – не знаю. Мне ничего, а он лёг на кровать да и захрипел. Я туда, сюда. Пока соображал да бегал, он и готов. А теперь ходит, стучит, спать не даёт. Жутко аж. Ты бы помолился, зашёл.
– Как это помолился, – удивился я, – ты же не веришь?
– Ты это, знаешь, Володенька, – забормотал он, отводя налитые слезами глаза, – оно, конечно, Бог меня обидел, а всёжки я в жизнь в Ёво не ругался. Мы с тобой, как свои. И ты меня, старика, не обижай, помолись.
Что с ним было делать?