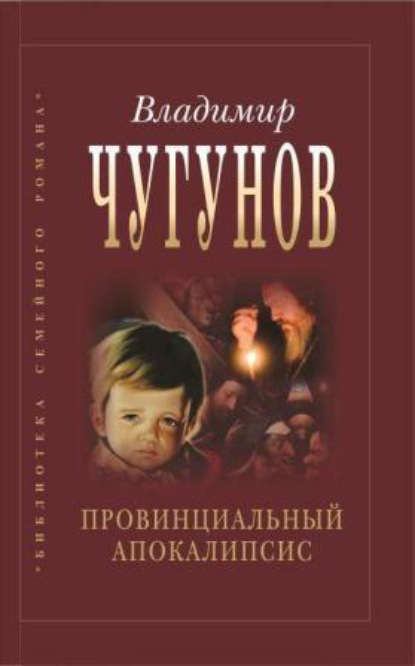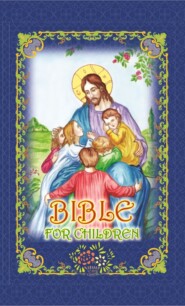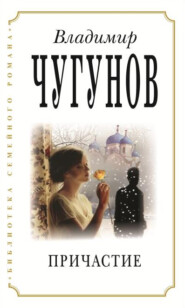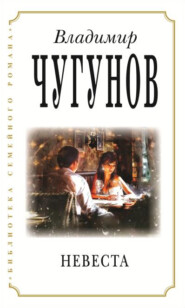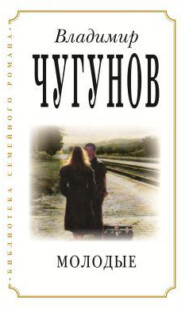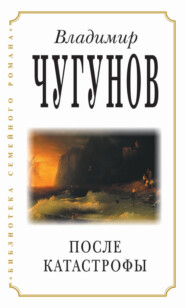По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Провинциальный апокалипсис
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что я мог на это ответить? У меня самого все это не укладывалось в голове.
Даша продолжала:
– Я говорю, там камеры видеонаблюдения кругом, надо видео из клуба взять. Он даже внимания на это не обратил. Встал, говорит, везите его к клубу. Я спрашиваю, это ещё зачем? На следственные действия. Какие, говорю, ещё следственные действия? Вы издеваетесь, что ли? Вы посмотрите на него! Он даже и слушать не хочет. Чтобы, говорит, через пять минут были. Куда деваться? Поехали. Приезжаем. Говорит Алёшке: выйдите из машины. А он по дороге отключился. Разбудите, говорит, его. Растолкали. А он никакой. Приехавшая с ним сотрудница на Алёшку глянула и говорит: «Зачем вы его сюда в таком состоянии привезли? Его срочно в больницу надо. Я не буду проводить следственные действия». Тогда этот по территории походил. Телефон искал. Какую-то бумажку составил. Подписывай, Алёшке говорит. Я спрашиваю, что за документ? Дайте прочитать. Не дал. Алёшка подписал. И заявление тоже. Я так поняла, ему всё равно уже было, лишь бы отвязались поскорей… Остались мы одни. Алешка говорит: «Даш, у меня такое ощущение, что сейчас голова лопнет». Заехали в аптеку, купила я пентальгин. Алешка принял пару таблеток. Гляжу на него и думаю, с маменькой плохо станет, когда она его таким увидит. Повезли к нам. Дала ему Игореву рубашку, брюки. Переоделся он, прилёг на диван и сразу отключился. Пусть, думаю, поспит. Пару раз заходила послушать, дышит ли. В третий раз захожу, а он хрипит. Я так перепугалась! Думаю, всё, умирает! Давай его тормошить. Он глаза приоткрыл, но тут же опять отключился. Грязную одежду я в пакет сложила и маменьке отдала. Может, для следствия понадобится. Она его прибрала.
3
Поскольку начало не предвещало ничего хорошего, мы оказались в затруднительном положении, не зная, что делать дальше. И, так ничего не решив, распрощались до завтра. Даша с Игорем уехали. Дома их ждали двое – двенадцати и девяти лет – совершенно не предсказуемых на выдумки сыновей.
Я ушел на службу, где меня дожидалась начавшая выходить из терпения Лера – стрелка часов уже перевалила за пять. Двух своих дочерей дошкольного возраста она оставила на Гену, а завтра собиралась приехать вместе с ними, и Даша со своими, вообще все, надо было что-то срочно предпринимать.
Несмотря на поднявшееся в начале возмущение, вид сына и особенно Дашин рассказ начали погружать меня в состояние выброшенного за борт в бушующий океан незадачливого пассажира. И сколько бы я ни успокаивал себя, какие бы ни придумывал объяснения, легче не становилось.
Нетрудно представить, что это была за служба. Я действовал как в чаду, словно робот говорил ектеньи, механически вынимал частички из просфор, выходил на чтение евангелия на середину храма, помазывал прихожан елеем. После вчерашней службы пришло всего пять человек, так что вскоре я опять оказался в алтаре наедине с самим собой. Это становилось невыносимым. И чтобы убить время, я вышел читать канон, что делал и прежде, особенно в первые годы служения в подражание тому же великому тёзке из Кронштадта, но теперь даже это не помогло. Я оглашал на весь храм тропари, а ничего из того, что читал, не слышал. Я даже не помнил, о чём было «воскресное евангелие». И какие после «третьего, шестого и девятого часа» делать возгласы, долго соображал. А на «Честнейшую» (хвалебную песнь в честь Девы Марии) вообще забыл покадить алтарь. Только когда запели «Величит душа моя Господа…» и я поднял глаза к нашей старинной иконе, перед которой о чём и о ком только не приходилось просить, моего сердца словно что-то коснулось. И я уже не мог удержать слёз, и так, стыдясь и стараясь их скрыть, как можно ниже опуская голову, совершил каждение храма и, вернувшись в алтарь, уже не выходил из него до конца всенощного бдения, и то стоял на коленях, уткнувшись лбом в сложенные крестообразно на углу престола кисти рук, что-то несвязное бормоча, а то стоял за престолом у огромного распятия, со стороны своего ещё более великого тёзки, и от крайней горести не мог произнести ни слова. В девятом часу вышли на улицу. Было пасмурно. Ночь наступала, и село казалось совершенно безлюдным. Дачники разъехались давно, и даже в ближайших к храму домах не было света. Уличных фонарей на всё село два – у входа на территорию храма да на автобусной остановке, а больше тут и освещать нечего.
Лера уехала, так ничего от меня не добившись, да и спешила, да и чего бы я ей мог сказать?
Когда вернулся домой, Катя собиралась в дорогу. Оказывается, сыну стало так плохо, что она решила сама везти его в ЦРБ, чтобы настоять на госпитализации, а заодно и с врачом поговорить. Для этой цели она попросила приехать Гену, понимая, что мне надо готовиться к завтрашней службе – на всех у неё хватало заботы, а потому и сердце никуда.
Около девяти подъехал Гена. Катя попросила их с Алешкой благословить. Я перекрестил их издали. Не нашел силы подойти ближе.
Они уехали. И вскоре в моем сердце опять замаячил лучик надежды. Авось госпитализируют на этот раз, уж кто-кто, а Катя находить общий язык умеет. Она любое окаменелое сердце способна смягчить. И это не хвастовство. За двадцать два года чего только не вынесла от меня округа, в какие только безвыходные ситуации по чрезмерной ревности я не попадал, и всегда в критическую минуту приходила на помощь моя Катя.
С несколько успокоенным сердцем я встал на молитву. И уже подходил к концу правила, когда завертелся на столе сотовый телефон.
Звонила Катя. И сразу ошеломила:
– Не положили. Даже в кабинет не пустил меня дежурный хирург. Фамилия Зайлер. Выйдите, говорит, гражданочка в коридор и не мешайте осмотр делать. Ну что, выхожу, сижу. Через десять минут появляется Лёша. Ну что, спрашиваю? Бумажку с рецептом протягивает: «Лекарство, говорит, выписали». Я в кабинет. Извините, говорю, за беспокойство, а можно с вами поговорить? А хирург: «А-а, это опять вы? Не о чем нам разговаривать. Я уже вашему сыну всё сказал: ничего опасного в настоящий момент нет. Кто у нас тут врач, я или вы?» А если, говорю, он умрёт? Ничего, отвечает, ему не будет. А если? «Ну а если вдруг станет хуже, после праздника, во вторник, привозите, посмотрим, может, и положим». Представляешь? Вышла как оплёванная.
– Из больницы звонишь?
– Нет, в клуб заехали. Гена к директору ходил, чтобы попросить видео посмотреть, а того на месте не оказалось, сказали, должен вот-вот подойти. Сидим, ждём. Лекарство купила. Я прочитала инструкцию – обыкновенное обезболивающее. Дала Лёше. Дремлет. Я чего подумала… Может, так оставить, а то эти нелюди ещё больше обозлятся и всех нас прибьют?
Меня словно кипятком ошпарили.
– Вот так-таки всех! Придут и прибьют! И внуков до кучи!
– А что, Гена говорит, у них тут кругом свои люди и в полиции, и в прокуратуре, и в суде.
– Не смеши – не девяностые! Да и в девяностые на них быстро бы управа нашлась! Пусть только сунутся! Или забыла?
Она, разумеется, помнила, как после одной из последних краж икон, когда я заявил в милицию и двоих якобы просто зашедших посмотреть храм молодых людей задержали, но, допросив, отпустили, после каждой вечерней службы за мной тащилась легковая машина с тонированными стёклами, затем долго стояла под окнами, время от времени озаряя их светом фар. Давили на психику, а может, выслеживали, чтобы вернее нанести удар. И что же? Стоило заикнуться об этом знакомому по прежней жизни «авторитету», о чём в своё время расскажу, всё это тут же прекратилось, в том числе и кражи. А до этого, когда во второй половине ночи срабатывала выведенная на домашний телефон сигнализация и я звонил в милицию (тогда была милиция), те даже ехать не хотели. Сходите, скажут, сначала и посмотрите, что там такое. А если, говорю, там бандиты? Тогда, отвечают, с кем-нибудь их задержите, а мы приедем и арестуем. После этого я в милицию не звонил. Но то было в девяностые, а теперь-то, при нынешней-то «вертикали власти»!
И я сказал твёрдо:
– Ждите. Я этого так не оставлю.
Но Катя попыталась зайти с другого конца, она знала, куда больней ужалить:
– А что люди скажут?
– По поводу ночного клуба, что ли? Да они в любом случае говорить будут. Забыла, сколько про нас с тобой говорили? И что? И вообще! Всему есть предел, а мразь эта, видимо, понимать этого не желает! Сицилийскую мафию тут развели! Да если мы замолчим, они завтра к нам домой вломятся и на наших глазах Лизу изнасилуют. Ты этого хочешь?
– Типун тебе на язык!
– Вот и ты не говори глупостей!
Примерно через час они появились. Оказывается, директор клуба заверил Гену, что видеонаблюдение велось только внутри, когда же зять попросил посмотреть, какое есть, тот сказал, что предоставит лишь по официальному запросу.
4
В половине восьмого я ушел на службу. Даша с Игорем не приехали, и Лера снова пела одна. Я не стал спрашивать почему. Не до того было.
Хотя на следующий день праздновалась Казанская, народу прибыло немало, и по обыкновению больше половины – приезжие из районного центра и более отдалённых мест.
Перед началом литургии по заведённому обычаю я прочитал акафист перед иконой Богородицы, дал возглас на «часы» и ушел на исповедь. Причаститься пожелали все, и я в очередной раз порадовался этому.
Когда вернулся домой, Катя была в панике. Говорила, что Алёшку надо срочно спасать, что он уходит, в смысле умирает, что Зинаида Геннадьевна, наш знакомый невропатолог, по одному только описанию по телефону предположила ужасный диагноз. Оказывается, по тем самым синякам вокруг глаз, или «очкам», течению крови из ушей, хотя, как выяснилось, это была не кровь, а мозговая жидкость, раньше, до появления аппаратуры, ставили диагноз «перелом основания черепа», не говоря уже о явном сотрясении и сильном ушибе мозга и множестве переломов и гематом. Зинаида Геннадьевна даже удивилась, что он у нас до сих пор живой, поскольку с такими травмами, оказывается, больше полутора суток без срочной и квалифицированной медицинской помощи обыкновенно не живут, и настаивала на немедленной госпитализации. Но куда везти, если ЦРБ не принимала? Везите, сказала, куда угодно, в другую больницу, в конце концов. Слава Богу, у нас была ещё одна больница, в соседнем молодом городе (назову его хотя бы Зареченск), жизнь которому дало градообразующее, некогда известное на всю страну, а ныне захиревшее по причине частой смены акционеров предприятие.
Я сел перекусить. Пока ел, Катя рассказывала, что дала на ночь Алёшке снотворное и обезболивающее, а сама до половины третьего не спала.
Сначала разговаривала по телефону с младшей сестрой Надей, которая жила с семьёй в областном центре. Надин муж Антон всю жизнь проработал в «убойном отделе» и считался одним из лучших оперов. После выхода на пенсию в звании подполковника трудился охранником в одном из коммерческих банков и продолжал оказывать оперативные услуги своим бывшим коллегам, заметив как-то в нашем с ним разговоре, что бывших оперов тоже не бывает. Оба уже знали о случившемся и тоже настаивали на срочной госпитализации. Надя – чтобы лечить, Антон – чтобы наконец появился реальный диагноз, а стало быть, повод для возбуждения соответствующего уголовного дела, которое, по его мнению, до сих пор не было возбуждено, о чём свидетельствовало, по его мнению, то, что дело пустили через участкового, а не через дежурную часть, как это бывает в таких случаях, а через двое суток будет и поздно, и нам уже ничего не удастся доказать. Поводом к такому заключению послужил эмоциональный Дашин рассказ о том, как обошлись с ней и с Алёшкой в больнице и в отделении полиции, из чего Антон, в отличие от своей благоверной и моей Кати, ничего, кроме бессердечия сотрудников полиции и врачей в этом не увидевших, заключил следующее: диагноз специально был занижен дежурным хирургом, а затем из солидарности подтверждён вторым, скорее всего, по просьбе сотрудников полиции, чем – преступников, чтобы в самом начале развалить дело, в чём сразу увидел чётко отработанную схему, и посоветовал срочно поднимать по этому поводу общественность через СМИ.
Так вот, значит, почему Зайлер сказал, приезжайте во вторник! Оказывается, тогда уже будет поздно! А на здоровье сына, будет он жить или останется на всю жизнь калекой, ему, вместе с нелюдями в погонах, наплевать!
Я был так поражён, что всё это у меня встало стопором в голове. Полиция ладно, её и теперь в сращивании с преступным миром на всю страну обличают (хотя бы в недавней истории в станице Кущёвской), но что могло быть общего между людьми в белах халатах, в которых мы привыкли видеть защитников нашего здоровья, с этими нравственными уродами? Даже если бы об этом попросил какой-нибудь недобросовестный сотрудник полиции, неужели это могло быть основанием для того, чтобы вот так просто взять и попрать клятву Гиппократа, да просто обыкновенной человечности, отказав больному в неотложной медицинской помощи? Или до того уже они тут все повязаны, что, как в Кущёвской, ничем этот порочный узел, как только вмешательством Москвы, не разрубить? Да нет же! Ну не может же этого быть! За двадцать два года мы столько узнали прекрасных отзывчивых людей, что во всю эту грязь просто не хотелось верить. И потом, не может же зло победило добро, такого по определению быть не может, успокаивал я себя.
Катя между тем продолжала рассказывать. После разговора с сестрой она прибралась на кухне и решила прочитать акафист, а потом ещё один, и ещё (не это ли, кстати, ещё давало сыну возможность жить?). И так до половины третьего. Наконец свалилась, как выразилась сама.
– А он (представляешь?) проснулся!
– Алёшка? Чего?
– От невыносимой головной боли. Только я об этом утром узнала. Очнулся, говорит. Меня будить пожалел (слышал, видно, что я не спала долго), насилу поднялся, по стеночке добрался до кухни, поискал обезболивающие таблетки, не нашёл, глянул на часы (говорит, три двадцать было), выпил воды, вернулся в свою комнату и до утра на кровати просидел. Согнул ноги в коленях и на них голову положил. Таким образом, сказал, не так сильно головная боль мучила. В таком положении я его и застала. Лёша, говорю, ты чего сидишь? А он мне вот это вот и расскажи. Представляешь? Меня пожалел!
Во всё время разговора каждая черта её лица изобличала крайнюю степень переживания, но от последних слов она уже не выдержала и заплакала. Я поморщился, как от зубной боли, погладил её по плечу, сказал:
– Ладно, давай собираться.
– А если и там не примут?
– Пусть только попробуют!
– А что ты можешь сделать?
– Потребую написать отказ в госпитализации и с этим отказом поеду в областную больницу.
5
Даша продолжала:
– Я говорю, там камеры видеонаблюдения кругом, надо видео из клуба взять. Он даже внимания на это не обратил. Встал, говорит, везите его к клубу. Я спрашиваю, это ещё зачем? На следственные действия. Какие, говорю, ещё следственные действия? Вы издеваетесь, что ли? Вы посмотрите на него! Он даже и слушать не хочет. Чтобы, говорит, через пять минут были. Куда деваться? Поехали. Приезжаем. Говорит Алёшке: выйдите из машины. А он по дороге отключился. Разбудите, говорит, его. Растолкали. А он никакой. Приехавшая с ним сотрудница на Алёшку глянула и говорит: «Зачем вы его сюда в таком состоянии привезли? Его срочно в больницу надо. Я не буду проводить следственные действия». Тогда этот по территории походил. Телефон искал. Какую-то бумажку составил. Подписывай, Алёшке говорит. Я спрашиваю, что за документ? Дайте прочитать. Не дал. Алёшка подписал. И заявление тоже. Я так поняла, ему всё равно уже было, лишь бы отвязались поскорей… Остались мы одни. Алешка говорит: «Даш, у меня такое ощущение, что сейчас голова лопнет». Заехали в аптеку, купила я пентальгин. Алешка принял пару таблеток. Гляжу на него и думаю, с маменькой плохо станет, когда она его таким увидит. Повезли к нам. Дала ему Игореву рубашку, брюки. Переоделся он, прилёг на диван и сразу отключился. Пусть, думаю, поспит. Пару раз заходила послушать, дышит ли. В третий раз захожу, а он хрипит. Я так перепугалась! Думаю, всё, умирает! Давай его тормошить. Он глаза приоткрыл, но тут же опять отключился. Грязную одежду я в пакет сложила и маменьке отдала. Может, для следствия понадобится. Она его прибрала.
3
Поскольку начало не предвещало ничего хорошего, мы оказались в затруднительном положении, не зная, что делать дальше. И, так ничего не решив, распрощались до завтра. Даша с Игорем уехали. Дома их ждали двое – двенадцати и девяти лет – совершенно не предсказуемых на выдумки сыновей.
Я ушел на службу, где меня дожидалась начавшая выходить из терпения Лера – стрелка часов уже перевалила за пять. Двух своих дочерей дошкольного возраста она оставила на Гену, а завтра собиралась приехать вместе с ними, и Даша со своими, вообще все, надо было что-то срочно предпринимать.
Несмотря на поднявшееся в начале возмущение, вид сына и особенно Дашин рассказ начали погружать меня в состояние выброшенного за борт в бушующий океан незадачливого пассажира. И сколько бы я ни успокаивал себя, какие бы ни придумывал объяснения, легче не становилось.
Нетрудно представить, что это была за служба. Я действовал как в чаду, словно робот говорил ектеньи, механически вынимал частички из просфор, выходил на чтение евангелия на середину храма, помазывал прихожан елеем. После вчерашней службы пришло всего пять человек, так что вскоре я опять оказался в алтаре наедине с самим собой. Это становилось невыносимым. И чтобы убить время, я вышел читать канон, что делал и прежде, особенно в первые годы служения в подражание тому же великому тёзке из Кронштадта, но теперь даже это не помогло. Я оглашал на весь храм тропари, а ничего из того, что читал, не слышал. Я даже не помнил, о чём было «воскресное евангелие». И какие после «третьего, шестого и девятого часа» делать возгласы, долго соображал. А на «Честнейшую» (хвалебную песнь в честь Девы Марии) вообще забыл покадить алтарь. Только когда запели «Величит душа моя Господа…» и я поднял глаза к нашей старинной иконе, перед которой о чём и о ком только не приходилось просить, моего сердца словно что-то коснулось. И я уже не мог удержать слёз, и так, стыдясь и стараясь их скрыть, как можно ниже опуская голову, совершил каждение храма и, вернувшись в алтарь, уже не выходил из него до конца всенощного бдения, и то стоял на коленях, уткнувшись лбом в сложенные крестообразно на углу престола кисти рук, что-то несвязное бормоча, а то стоял за престолом у огромного распятия, со стороны своего ещё более великого тёзки, и от крайней горести не мог произнести ни слова. В девятом часу вышли на улицу. Было пасмурно. Ночь наступала, и село казалось совершенно безлюдным. Дачники разъехались давно, и даже в ближайших к храму домах не было света. Уличных фонарей на всё село два – у входа на территорию храма да на автобусной остановке, а больше тут и освещать нечего.
Лера уехала, так ничего от меня не добившись, да и спешила, да и чего бы я ей мог сказать?
Когда вернулся домой, Катя собиралась в дорогу. Оказывается, сыну стало так плохо, что она решила сама везти его в ЦРБ, чтобы настоять на госпитализации, а заодно и с врачом поговорить. Для этой цели она попросила приехать Гену, понимая, что мне надо готовиться к завтрашней службе – на всех у неё хватало заботы, а потому и сердце никуда.
Около девяти подъехал Гена. Катя попросила их с Алешкой благословить. Я перекрестил их издали. Не нашел силы подойти ближе.
Они уехали. И вскоре в моем сердце опять замаячил лучик надежды. Авось госпитализируют на этот раз, уж кто-кто, а Катя находить общий язык умеет. Она любое окаменелое сердце способна смягчить. И это не хвастовство. За двадцать два года чего только не вынесла от меня округа, в какие только безвыходные ситуации по чрезмерной ревности я не попадал, и всегда в критическую минуту приходила на помощь моя Катя.
С несколько успокоенным сердцем я встал на молитву. И уже подходил к концу правила, когда завертелся на столе сотовый телефон.
Звонила Катя. И сразу ошеломила:
– Не положили. Даже в кабинет не пустил меня дежурный хирург. Фамилия Зайлер. Выйдите, говорит, гражданочка в коридор и не мешайте осмотр делать. Ну что, выхожу, сижу. Через десять минут появляется Лёша. Ну что, спрашиваю? Бумажку с рецептом протягивает: «Лекарство, говорит, выписали». Я в кабинет. Извините, говорю, за беспокойство, а можно с вами поговорить? А хирург: «А-а, это опять вы? Не о чем нам разговаривать. Я уже вашему сыну всё сказал: ничего опасного в настоящий момент нет. Кто у нас тут врач, я или вы?» А если, говорю, он умрёт? Ничего, отвечает, ему не будет. А если? «Ну а если вдруг станет хуже, после праздника, во вторник, привозите, посмотрим, может, и положим». Представляешь? Вышла как оплёванная.
– Из больницы звонишь?
– Нет, в клуб заехали. Гена к директору ходил, чтобы попросить видео посмотреть, а того на месте не оказалось, сказали, должен вот-вот подойти. Сидим, ждём. Лекарство купила. Я прочитала инструкцию – обыкновенное обезболивающее. Дала Лёше. Дремлет. Я чего подумала… Может, так оставить, а то эти нелюди ещё больше обозлятся и всех нас прибьют?
Меня словно кипятком ошпарили.
– Вот так-таки всех! Придут и прибьют! И внуков до кучи!
– А что, Гена говорит, у них тут кругом свои люди и в полиции, и в прокуратуре, и в суде.
– Не смеши – не девяностые! Да и в девяностые на них быстро бы управа нашлась! Пусть только сунутся! Или забыла?
Она, разумеется, помнила, как после одной из последних краж икон, когда я заявил в милицию и двоих якобы просто зашедших посмотреть храм молодых людей задержали, но, допросив, отпустили, после каждой вечерней службы за мной тащилась легковая машина с тонированными стёклами, затем долго стояла под окнами, время от времени озаряя их светом фар. Давили на психику, а может, выслеживали, чтобы вернее нанести удар. И что же? Стоило заикнуться об этом знакомому по прежней жизни «авторитету», о чём в своё время расскажу, всё это тут же прекратилось, в том числе и кражи. А до этого, когда во второй половине ночи срабатывала выведенная на домашний телефон сигнализация и я звонил в милицию (тогда была милиция), те даже ехать не хотели. Сходите, скажут, сначала и посмотрите, что там такое. А если, говорю, там бандиты? Тогда, отвечают, с кем-нибудь их задержите, а мы приедем и арестуем. После этого я в милицию не звонил. Но то было в девяностые, а теперь-то, при нынешней-то «вертикали власти»!
И я сказал твёрдо:
– Ждите. Я этого так не оставлю.
Но Катя попыталась зайти с другого конца, она знала, куда больней ужалить:
– А что люди скажут?
– По поводу ночного клуба, что ли? Да они в любом случае говорить будут. Забыла, сколько про нас с тобой говорили? И что? И вообще! Всему есть предел, а мразь эта, видимо, понимать этого не желает! Сицилийскую мафию тут развели! Да если мы замолчим, они завтра к нам домой вломятся и на наших глазах Лизу изнасилуют. Ты этого хочешь?
– Типун тебе на язык!
– Вот и ты не говори глупостей!
Примерно через час они появились. Оказывается, директор клуба заверил Гену, что видеонаблюдение велось только внутри, когда же зять попросил посмотреть, какое есть, тот сказал, что предоставит лишь по официальному запросу.
4
В половине восьмого я ушел на службу. Даша с Игорем не приехали, и Лера снова пела одна. Я не стал спрашивать почему. Не до того было.
Хотя на следующий день праздновалась Казанская, народу прибыло немало, и по обыкновению больше половины – приезжие из районного центра и более отдалённых мест.
Перед началом литургии по заведённому обычаю я прочитал акафист перед иконой Богородицы, дал возглас на «часы» и ушел на исповедь. Причаститься пожелали все, и я в очередной раз порадовался этому.
Когда вернулся домой, Катя была в панике. Говорила, что Алёшку надо срочно спасать, что он уходит, в смысле умирает, что Зинаида Геннадьевна, наш знакомый невропатолог, по одному только описанию по телефону предположила ужасный диагноз. Оказывается, по тем самым синякам вокруг глаз, или «очкам», течению крови из ушей, хотя, как выяснилось, это была не кровь, а мозговая жидкость, раньше, до появления аппаратуры, ставили диагноз «перелом основания черепа», не говоря уже о явном сотрясении и сильном ушибе мозга и множестве переломов и гематом. Зинаида Геннадьевна даже удивилась, что он у нас до сих пор живой, поскольку с такими травмами, оказывается, больше полутора суток без срочной и квалифицированной медицинской помощи обыкновенно не живут, и настаивала на немедленной госпитализации. Но куда везти, если ЦРБ не принимала? Везите, сказала, куда угодно, в другую больницу, в конце концов. Слава Богу, у нас была ещё одна больница, в соседнем молодом городе (назову его хотя бы Зареченск), жизнь которому дало градообразующее, некогда известное на всю страну, а ныне захиревшее по причине частой смены акционеров предприятие.
Я сел перекусить. Пока ел, Катя рассказывала, что дала на ночь Алёшке снотворное и обезболивающее, а сама до половины третьего не спала.
Сначала разговаривала по телефону с младшей сестрой Надей, которая жила с семьёй в областном центре. Надин муж Антон всю жизнь проработал в «убойном отделе» и считался одним из лучших оперов. После выхода на пенсию в звании подполковника трудился охранником в одном из коммерческих банков и продолжал оказывать оперативные услуги своим бывшим коллегам, заметив как-то в нашем с ним разговоре, что бывших оперов тоже не бывает. Оба уже знали о случившемся и тоже настаивали на срочной госпитализации. Надя – чтобы лечить, Антон – чтобы наконец появился реальный диагноз, а стало быть, повод для возбуждения соответствующего уголовного дела, которое, по его мнению, до сих пор не было возбуждено, о чём свидетельствовало, по его мнению, то, что дело пустили через участкового, а не через дежурную часть, как это бывает в таких случаях, а через двое суток будет и поздно, и нам уже ничего не удастся доказать. Поводом к такому заключению послужил эмоциональный Дашин рассказ о том, как обошлись с ней и с Алёшкой в больнице и в отделении полиции, из чего Антон, в отличие от своей благоверной и моей Кати, ничего, кроме бессердечия сотрудников полиции и врачей в этом не увидевших, заключил следующее: диагноз специально был занижен дежурным хирургом, а затем из солидарности подтверждён вторым, скорее всего, по просьбе сотрудников полиции, чем – преступников, чтобы в самом начале развалить дело, в чём сразу увидел чётко отработанную схему, и посоветовал срочно поднимать по этому поводу общественность через СМИ.
Так вот, значит, почему Зайлер сказал, приезжайте во вторник! Оказывается, тогда уже будет поздно! А на здоровье сына, будет он жить или останется на всю жизнь калекой, ему, вместе с нелюдями в погонах, наплевать!
Я был так поражён, что всё это у меня встало стопором в голове. Полиция ладно, её и теперь в сращивании с преступным миром на всю страну обличают (хотя бы в недавней истории в станице Кущёвской), но что могло быть общего между людьми в белах халатах, в которых мы привыкли видеть защитников нашего здоровья, с этими нравственными уродами? Даже если бы об этом попросил какой-нибудь недобросовестный сотрудник полиции, неужели это могло быть основанием для того, чтобы вот так просто взять и попрать клятву Гиппократа, да просто обыкновенной человечности, отказав больному в неотложной медицинской помощи? Или до того уже они тут все повязаны, что, как в Кущёвской, ничем этот порочный узел, как только вмешательством Москвы, не разрубить? Да нет же! Ну не может же этого быть! За двадцать два года мы столько узнали прекрасных отзывчивых людей, что во всю эту грязь просто не хотелось верить. И потом, не может же зло победило добро, такого по определению быть не может, успокаивал я себя.
Катя между тем продолжала рассказывать. После разговора с сестрой она прибралась на кухне и решила прочитать акафист, а потом ещё один, и ещё (не это ли, кстати, ещё давало сыну возможность жить?). И так до половины третьего. Наконец свалилась, как выразилась сама.
– А он (представляешь?) проснулся!
– Алёшка? Чего?
– От невыносимой головной боли. Только я об этом утром узнала. Очнулся, говорит. Меня будить пожалел (слышал, видно, что я не спала долго), насилу поднялся, по стеночке добрался до кухни, поискал обезболивающие таблетки, не нашёл, глянул на часы (говорит, три двадцать было), выпил воды, вернулся в свою комнату и до утра на кровати просидел. Согнул ноги в коленях и на них голову положил. Таким образом, сказал, не так сильно головная боль мучила. В таком положении я его и застала. Лёша, говорю, ты чего сидишь? А он мне вот это вот и расскажи. Представляешь? Меня пожалел!
Во всё время разговора каждая черта её лица изобличала крайнюю степень переживания, но от последних слов она уже не выдержала и заплакала. Я поморщился, как от зубной боли, погладил её по плечу, сказал:
– Ладно, давай собираться.
– А если и там не примут?
– Пусть только попробуют!
– А что ты можешь сделать?
– Потребую написать отказ в госпитализации и с этим отказом поеду в областную больницу.
5