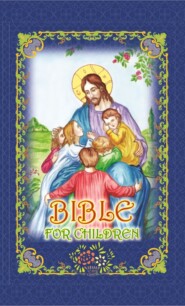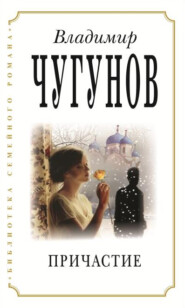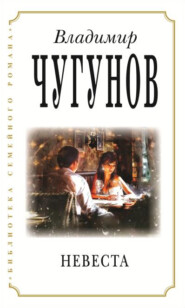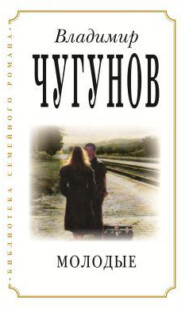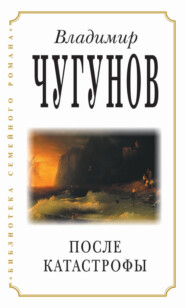По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Запущенный сад (сборник)
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Гармонист у нас хороший,
Я его приворожу:
Я возьму и на гармошку
Две ромашки положу.
Дойдя до конца деревни, возвращаются назад. И так до наступления темноты. Солнце давно скрылось за холмом, стала темнее полоска леса, проклюнулись звезды. Кое-где уже светятся едва приметным заревом оконца. По одному расходятся старухи. Песни тонут за деревней. Мы с Сашком идём домой. И я очень рад, что, наконец, избавился от Светланкиного внимания.
Спускаемся проулком, выходим на зады. Сашок вдруг замирает.
– Слысыс?
– Чего?
– Сопот слысыс?
Спускаемся ниже. За усадами, в бурьяне, стоит с кем-то Шурочка. Я сразу узнал её по голосу.
– Ты ай белены объелся? – говорит она кому-то.
Шёпот. Возня. Шлепок.
– Ой! Ктой-то там?
Мы летим вниз, и ноги мои едва за мной поспевают. Вслед нам летит разбойничий свист. Мы перебираемся по жердям на ту сторону, и только на родном берегу мне становится спокойно.
– Чего это они там? – спрашиваю я.
– Зазымаюца.
– Зачем?
– Ну спелва зазымаюца, апосля зеняца.
7
Едем в лес за сеном. Бежит вдоль ржаного поля пепельная лента дороги. Лошадь идёт бодрым шагом, ровно катится по мягкой пыли телега. Пыль летит из-под копыт, брызжет по сторонам. По ржи волнами ходит ветер, приятно обдувает лицо, шею, и если бы не строка, было бы полное блаженство. Откуда-то сверху льётся пение жаворонка. Задираю голову и вижу крохотную, дрожащую в небе точечку. Правит Сашок, и время от времени покрикивает, как взрослый:
– Посла! Но-о, лазлази тибя глом! Я кому говолю? Посла, говолю, халела!
Я сижу рядом и краем уха слышу разговор деда с дядей.
– Я тебе, Степан, давно не указ, у самого дети малые, но как отец всё же скажу. Коли в избу пустить свинью, она своё поганое дело сделает. Всё вверх дном перевернёт, всё опрокинет. А и выгонишь, не сразу порядок наведёшь. Так и в жизни, Степан. Смотри. Не пускай свинью в душу. Семья – дело святое, смотри…
Дядя сидит явно недовольный и всё отворачивается от дедушки. И когда отворачивается, рот его кривит нехорошая улыбка.
В лесу ветра нет и на поляне поэтому очень жарко. Звонко-оглушительно стрекочут кузнечики, поют птицы, стучит в отдалении дятел. Пока навивают воз, мы собираем конопатые ягоды луговой земляники, пресной, хрустящей на зубах как песок. Потом забираемся наверх, на дрожащую громаду пахучего сена и, уцепившись за гнёт, смотрим по сторонам. На возу так высоко, что ступни ломит от страха.
8
Дедушка только что вычистил самовар и, сидя на крылце, поглаживая сияющее на полуденном солнце самоварное брюхо, рассуждает вслух:
– Самовар – незаменимая вещь в избе. Ишь, как блестит! Ну, блести, милок, блести… Вот, к примеру, на морозе назябнешь, ступишь в избу – а на столе самовар сипит. Хошь руки об ёво грей, хошь выпей весь. А после бани? О-о! После бани без самовара вообще тоска. А вода в ём от березовых углёв какая лёгка! Пьёшь и всё хочется.
Мы не возражаем. За самоваром бабушка нас одаривает колотым сахаром, а по праздникам – «подушечками» и «печенюшками».
Когда дедушка уносит самовар, идём за дом, где в специально вырытой квадратной, на штык глубиной, канаве тетушка месит ногами грязь – глину, солому, песок. Затем накладывает месиво в ведро и кидает рукой на плетёную из тальника стену хлева. Брызги отлетают мне в лицо, прилипают и тут же засыхают щекочущими коростами.
Появляется дядя.
– Помочь? – спрашивает он, весело-виновато бегая туда-сюда глазами.
Хочет взять у тетушки ведро, она со всей силы дёргает его на себя, оступается и чуть не падает.
– Чё цеплясся? – кричит она, раскрасневшись. – Ишь вцепился клешнями-то, как в своё!
– А то – чужое… – ненастойчиво возражает дядя.
– Сказала бы я тебе, да дети рядом!
Дядя будто только теперь замечает нас.
– Это откуда взялось? А ну марш! Марш, кому говорю?
Мы удаляемся с повернутыми назад головами.
9
– Ну и посол в оголот к бауски под юбку! – говорит с презрением Сашок, и я соглашаюсь.
По дороге братец уверяет меня, что мёд там хоть ложкой черпай.
– Я узэ, навелна, целое ведло созлал! – говорит он и подтягивает штаны.
Сползают они у него вовсе не оттого, что широки, а оттого, что живот у него постоянно то надувается, то опадает, угадать невозможно. Ест же он всё подряд, без разбору. И всякий раз, похлопывая себя по животу, приговаривает: «В лусском пузе всё сгниет!» И, по словам бабушка, ни одна холера его не берёт.
– А если он нас в свиней превратит?
Я боюсь не столько пчёл (я ещё не знаю, что они жалят), сколько колдовских чар Ивана Зыбина, на пасеку которого направляемся есть мёд.
– А клест на сто? – храбрится Сашок. – Мы ёво клестом, он и сдохнет, как сильвяк!
Ульи на задах, у плетня, заросшего с нашей стороны репейником, конским щавелём, крапивой, лебедой, беленой. Кое-как минуем ферму, извозившись попутно в навозе, и пробираемся через бурьян к огороду. Какая-то пчёлка проносится мимо, потом ещё одна, и ещё. Добравшись до плетня, слышу мерное гудение. И тут разом кончается геройство братца. Он хватается за голову и, отмахиваясь руками, с визгом кидается назад. Пчёлы за ним. Я приседаю в надежде, что беда минёт стороной, но тут словно иглой колют мне под правый глаз. Пчела отрывается и начинает тяжело подыматься. Я вскрикиваю от боли и бегу следом за братом. Пчёлы носятся над нами, бьют в голову, в шею, путаются в волосах, жалят. Если бы не высокий бурьян, нам пришлось бы туго.
Домой возвращаемся с воем. Глова моя становится деревянной, словно кто сдавливает её со всех сторон. Глаз совсем заплыл, щеку тянет вниз и, как что-то прилепленное, она трясётся при ходьбе. Изверга тут же наказывают, а меня стыдят:
– А ежели он тебе в печь велит лезть, полезешь?
– Не-е, – реву, – В печь не полезу-у…
– И на том спасибо, – говорит дедушка, – Поди, жала выну.
Я его приворожу:
Я возьму и на гармошку
Две ромашки положу.
Дойдя до конца деревни, возвращаются назад. И так до наступления темноты. Солнце давно скрылось за холмом, стала темнее полоска леса, проклюнулись звезды. Кое-где уже светятся едва приметным заревом оконца. По одному расходятся старухи. Песни тонут за деревней. Мы с Сашком идём домой. И я очень рад, что, наконец, избавился от Светланкиного внимания.
Спускаемся проулком, выходим на зады. Сашок вдруг замирает.
– Слысыс?
– Чего?
– Сопот слысыс?
Спускаемся ниже. За усадами, в бурьяне, стоит с кем-то Шурочка. Я сразу узнал её по голосу.
– Ты ай белены объелся? – говорит она кому-то.
Шёпот. Возня. Шлепок.
– Ой! Ктой-то там?
Мы летим вниз, и ноги мои едва за мной поспевают. Вслед нам летит разбойничий свист. Мы перебираемся по жердям на ту сторону, и только на родном берегу мне становится спокойно.
– Чего это они там? – спрашиваю я.
– Зазымаюца.
– Зачем?
– Ну спелва зазымаюца, апосля зеняца.
7
Едем в лес за сеном. Бежит вдоль ржаного поля пепельная лента дороги. Лошадь идёт бодрым шагом, ровно катится по мягкой пыли телега. Пыль летит из-под копыт, брызжет по сторонам. По ржи волнами ходит ветер, приятно обдувает лицо, шею, и если бы не строка, было бы полное блаженство. Откуда-то сверху льётся пение жаворонка. Задираю голову и вижу крохотную, дрожащую в небе точечку. Правит Сашок, и время от времени покрикивает, как взрослый:
– Посла! Но-о, лазлази тибя глом! Я кому говолю? Посла, говолю, халела!
Я сижу рядом и краем уха слышу разговор деда с дядей.
– Я тебе, Степан, давно не указ, у самого дети малые, но как отец всё же скажу. Коли в избу пустить свинью, она своё поганое дело сделает. Всё вверх дном перевернёт, всё опрокинет. А и выгонишь, не сразу порядок наведёшь. Так и в жизни, Степан. Смотри. Не пускай свинью в душу. Семья – дело святое, смотри…
Дядя сидит явно недовольный и всё отворачивается от дедушки. И когда отворачивается, рот его кривит нехорошая улыбка.
В лесу ветра нет и на поляне поэтому очень жарко. Звонко-оглушительно стрекочут кузнечики, поют птицы, стучит в отдалении дятел. Пока навивают воз, мы собираем конопатые ягоды луговой земляники, пресной, хрустящей на зубах как песок. Потом забираемся наверх, на дрожащую громаду пахучего сена и, уцепившись за гнёт, смотрим по сторонам. На возу так высоко, что ступни ломит от страха.
8
Дедушка только что вычистил самовар и, сидя на крылце, поглаживая сияющее на полуденном солнце самоварное брюхо, рассуждает вслух:
– Самовар – незаменимая вещь в избе. Ишь, как блестит! Ну, блести, милок, блести… Вот, к примеру, на морозе назябнешь, ступишь в избу – а на столе самовар сипит. Хошь руки об ёво грей, хошь выпей весь. А после бани? О-о! После бани без самовара вообще тоска. А вода в ём от березовых углёв какая лёгка! Пьёшь и всё хочется.
Мы не возражаем. За самоваром бабушка нас одаривает колотым сахаром, а по праздникам – «подушечками» и «печенюшками».
Когда дедушка уносит самовар, идём за дом, где в специально вырытой квадратной, на штык глубиной, канаве тетушка месит ногами грязь – глину, солому, песок. Затем накладывает месиво в ведро и кидает рукой на плетёную из тальника стену хлева. Брызги отлетают мне в лицо, прилипают и тут же засыхают щекочущими коростами.
Появляется дядя.
– Помочь? – спрашивает он, весело-виновато бегая туда-сюда глазами.
Хочет взять у тетушки ведро, она со всей силы дёргает его на себя, оступается и чуть не падает.
– Чё цеплясся? – кричит она, раскрасневшись. – Ишь вцепился клешнями-то, как в своё!
– А то – чужое… – ненастойчиво возражает дядя.
– Сказала бы я тебе, да дети рядом!
Дядя будто только теперь замечает нас.
– Это откуда взялось? А ну марш! Марш, кому говорю?
Мы удаляемся с повернутыми назад головами.
9
– Ну и посол в оголот к бауски под юбку! – говорит с презрением Сашок, и я соглашаюсь.
По дороге братец уверяет меня, что мёд там хоть ложкой черпай.
– Я узэ, навелна, целое ведло созлал! – говорит он и подтягивает штаны.
Сползают они у него вовсе не оттого, что широки, а оттого, что живот у него постоянно то надувается, то опадает, угадать невозможно. Ест же он всё подряд, без разбору. И всякий раз, похлопывая себя по животу, приговаривает: «В лусском пузе всё сгниет!» И, по словам бабушка, ни одна холера его не берёт.
– А если он нас в свиней превратит?
Я боюсь не столько пчёл (я ещё не знаю, что они жалят), сколько колдовских чар Ивана Зыбина, на пасеку которого направляемся есть мёд.
– А клест на сто? – храбрится Сашок. – Мы ёво клестом, он и сдохнет, как сильвяк!
Ульи на задах, у плетня, заросшего с нашей стороны репейником, конским щавелём, крапивой, лебедой, беленой. Кое-как минуем ферму, извозившись попутно в навозе, и пробираемся через бурьян к огороду. Какая-то пчёлка проносится мимо, потом ещё одна, и ещё. Добравшись до плетня, слышу мерное гудение. И тут разом кончается геройство братца. Он хватается за голову и, отмахиваясь руками, с визгом кидается назад. Пчёлы за ним. Я приседаю в надежде, что беда минёт стороной, но тут словно иглой колют мне под правый глаз. Пчела отрывается и начинает тяжело подыматься. Я вскрикиваю от боли и бегу следом за братом. Пчёлы носятся над нами, бьют в голову, в шею, путаются в волосах, жалят. Если бы не высокий бурьян, нам пришлось бы туго.
Домой возвращаемся с воем. Глова моя становится деревянной, словно кто сдавливает её со всех сторон. Глаз совсем заплыл, щеку тянет вниз и, как что-то прилепленное, она трясётся при ходьбе. Изверга тут же наказывают, а меня стыдят:
– А ежели он тебе в печь велит лезть, полезешь?
– Не-е, – реву, – В печь не полезу-у…
– И на том спасибо, – говорит дедушка, – Поди, жала выну.