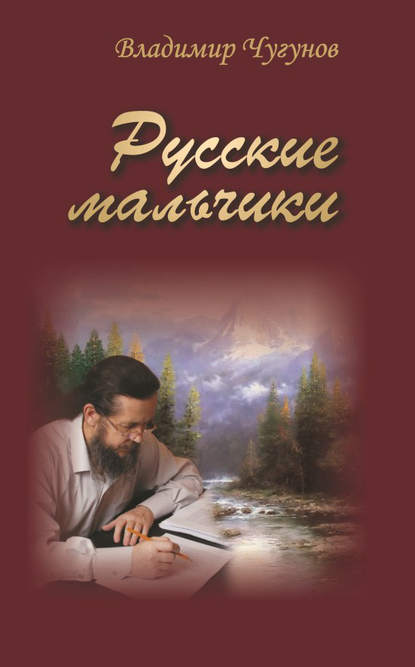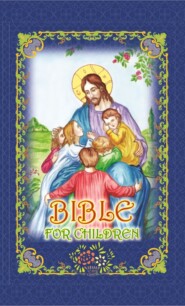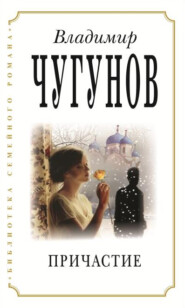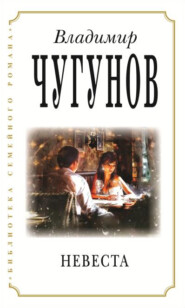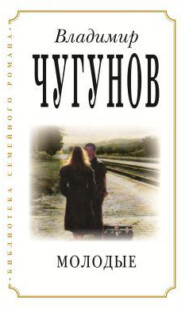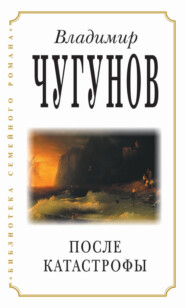По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русские мальчики (сборник)
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не морозь меня.
Не морозь меня,
Моего коня…
Ничего особенного в те далёкие времена это не представляло. И, сколько мне известно, не только у нас. Желающих отвести душеньку было хоть отбавляй. Справляли и Масленицу, переименованную в «проводы русской зимы». С непременными блинами, чаем на льду нашего огромного пруда, со снежной бабой, с дырявым ведром на голове и морковкой-носом. Был тут и обледенелый столб для удальцов, с призом наверху, и, увы, уже лишь переодетые в «русских красавиц» женщины, песни, частушки. И зябко, и грустно, и весело. Какой-то цветистый лоскуток древности, его ядрёное, как квас, дыхание. Забытое-презабытое, но отчего-то ещё волнующее. Скрип расписных и простых саней, визг и восторг детворы. А поутру или даже к вечеру, когда потянет со стороны железной дороги пробирающим насквозь ветром, пометёт мусор, клочки соломы, обёртки конфет, окурки, всегда оставалось чувство неудовлетворённости, как в детстве: пообещали подарок – и не привезли.
Куда цельнее воспринималась застольная песня. В ней было больше искренности, не было той эстетической парадности, она жила, а порою будила в душе нечто до того глубинное, до того важное, что, казалось, не будь этих песен, я любил бы и понимал свою землю куда меньше, а то и вовсе бы не любил. Проводы же русской зимы уже не были, к сожалению, тем последним весельем перед заговеньем, когда поутру всё преображается от грядущего по городам и весям Чистого Понедельника, тем началом всенародного покаяния, собиравшим в первых сумерках в храмы народ русский, отворяя, особенно после вчерашнего Прощёного воскресения, двери Великого Канона: «Откуда начну плакати окаянного моего жития деяний? Кое убо положу начало, Христе, нынешнему рыданию? Но сам мне даруй, Спасе, умиление».
Поскольку не было этого покаянного продолжения, а также ожидаемой вдали связи с вечностью, Пасхи, всё обрывалось тут, возле грязной чёрной от угля луже, на месте снеговика, клочков соломы и мусора, да ещё беспросветной, ничего не обещающей впереди, кроме «голодной могилы», жизни. И мне ведь предстояло умереть! Умереть, чтобы «никогда и никогда», как выразил свой ужас перед грядущим небытием один мой земляк. Иногда при мысли о смерти (гроб, сырая земля, могильные черви, вечный холод и мрак) мне становилось дурно. Зачем? Вся эта жизнь, всё это – зачем? Чтобы умереть и быть забытым навеки? Забыл же я крёстного, Вовку Патроманского, которого переехал трактор, одноклассника, умершего от белокровия в десять лет, я даже не пошёл смотреть на него умершего. А мать школьного друга, Валентина Грачева – какой удар для всего нашего девятого «А»! И особенно для меня – его слова: «Пахнет». Кто – мама? Как он мог так сказать? Мама – и пахнет. Но забыл же! А все мы, весь наш род, репрессированный, сгинувший в тюрьме ни за что дед, бабушка, – вообще все, весь род человеческий, появились тут для чего? Чтобы умереть и «никогда и никогда»? Какая то была вопиющая несправедливость! Одна-единственная среди всего этого великолепия. Всё, решительно всё до мелочей было рационально и премудро, и лишь одно единственное «никогда и никогда» перечёркивало напрочь всё, отравляло сознание, ограничивало, а то и на нет сводило радость бытия.
6
Осенью мы перегоняли бульдозеры от Бийска до Степного, Солонешенского района, где в горах Алтая открывался новый участок. До заморозков, наступавших в горах в конце октября, надо было сделать вскрышу на будущий год.
Тогда, в Бийске, если не считать детства, когда с бабушкой Марфой ходил из Казыевки к «Егорию» в памятный дождём и причастием Троицын день, я второй раз был в церкви.
В середине октября тут уже лежал снег, на улицах было неуютно и холодно. Три дня, в ожидании подхода на станцию состава с нашей техникой, мы бродили по городу в поисках развлечений и даже, чтобы походить друг на друга, выкрасились в парикмахерской с моим тогдашним приятелем Пашкой Новосёловым в черный цвет. Сидеть в гостинице к вечеру было просто невыносимо. И мы слонялись по осеннему городу в поисках кинотеатра и хотя шутили, что «лучшее кино – это вино», пить надоело.
Ночной Бийск представляется в памяти, как «Урень в сорок восемь деревень». Хотя был там, кажется, театр драмы. И даже центр, с красным флагом на крыше дома «советов или приветов». Мы особо не разглядывали, а вот кинотеатр нашли и что смотрели, не помню. Зато хорошо помню, как в одной из слабо освещённых улочек, подсвеченная фонарями, величественно и уверенно спокойно плыла и плыла ввысь, навстречу крупному снегопаду, белая каменная церковь, с невысокой колокольней, за каменной же, как в Карповке, оградой.
Что потянуло меня туда, не знаю. Может, тоска, спустя два дня вылившаяся в том вопросе, который задам Васе-паровозу во время перегона бульдозеров по заснеженным степям Алтая, а может, болезненное от простуды недомогание, перешедшее на подъезде к Солонешному, с красивою высокою церковью на отшибе, в грипп, с высоченной температурой, так что весь остальной путь вдоль реки Ануй, мимо бесконечно тянувшегося вдоль сопок Топольного, до самого Степного я проехал в полусонном бреду.
Сказав что-то своим «архаровцам» и дождавшись, когда скроются из виду, я повернул назад и быстро, зачем-то оглянувшись, вошёл в ограду церкви. Во дворе было пусто и тихо. Сквозь стеклянную массивную старинной работы дверь струился тихий свет. В притворе, на лавках, совсем похожие на карповских, сидели нищие: старичок, с шапкой-ушанкой на коленях, перевязанная шалью старушка, безногий, с испитым лицом инвалид на каталке с маленькими колёсиками. Передвигаться он мог, очевидно, лишь с помощью рук. При моём появлении они стали истово креститься, нарочно на меня не глядя. На этот раз я отнесся к ним иначе. Выгреб мелочь и, отчего-то волнуясь, раздал её.
– Спаси Христос… Дай Бог здоровья, благополучия, – благодарно забормотали они, крес тясь.
Я поспешил пройти дальше, где за другими красивыми дверями шла вечерняя служба. Народу было немного, в основном впереди, у алтаря. Слева от входа была стойка со свечами. Я купил самую дорогую, за три рубля, и спросил у одной чем-то напомнившей бабушку Шуру и отчасти бабушку Марфу, старушки у подсвечника:
– Скажите, пожалуйста, кому свечку надо поставить, чтобы всё было хорошо?
Она снизу глянула мне в глаза, отчего я опять застыдился, положила на медный подсвечник гусиное перо, которым смахивала в сухую, как у бабушки, ладонь застывшие капли воска, отер ла о тряпицу руки и спросила:
– В первый раз, что ль?
– Я не здешний.
– Вижу, что не наш. Эк умотало тебя! Вон… поставь «Споручнице грешных».
И указала на большую, в серебряном окладе икону, где Господь держал в руках правую руку Божией Матери.
– Молитву знаешь какую?
– Нет.
– Запомни самую доходчивую, – и она произнесла негромко, протяжно, а главное, так проникновенно, что у меня даже защипало в носу: – Го-о-споди-и, поми-и-илуй… Запомнил? Ступай с Богом.
И ещё что-то уже вполголоса, со вздохами, всё причитала и причитала, пока я почему-то дрожащей рукой зажигал от другой свечи свою и ставил на подсвечник.
Шагая по тихой улице в сторону гостиницы, я вдруг заметил, что со мною что-то случилось. Окружающее уже не давило и не угнетало, как прежде, как будто что-то забытое из самого раннего детства вошло в моё сердце.
Утром прибыла наша техника. День ушел на перевоз её трайлерами за город, в завьюженные, с туманными далями степи Алтая. А затем по двое в бульдозере, очумелые от шума, похмелья, голода и холода, мы тащились наугад по волнам сиявшего до рези в глазах белого покрова к синеющему впереди горизонту, от одной черной приметы, деревушки, к другой, населенных людьми отзывчивыми, выручавшими нас, болезных, то лучком, то солью, то хлебушком и даже соленым салом. В советских магазинах, кроме водки и «Завтрака туриста», который даже собаки не ели, ничего не было.
На ночь мы пришвартовывались к такой заметеленной деревеньке, пропускали для согрева по стаканчику и то дремали в тарахтевших бульдозерах, развернув их задом к ветру, чтоб не выдувало то малое тепло, в котором ещё кое-как можно было существовать, то вели нескончаемые разговоры про «жись».
Тогда, помнится, в шутливой форме я и задал пожилому семейному бульдозеристу Васе-паровозу мучивший меня в то время вопрос:
– Рассуди, Вася, на ком жениться? Одна говорит: «Делай, что хочешь, только меня не обижай». Другая: «Не пей, не кури, мой мне ноги и воду эту пей».
Любовь, как и любовь к пресловутой «свободе», в моём воображении, под впечатлением от бесшабашного старательского окружения представлялась тогда в виде нескончаемого праздника, но никак не обязанности, пусть даже и семейной. В большинстве окружавших меня тогда людей я видел сочувствие к такому образу жизни. Но что-то всё же глодало совесть, раз хотелось подтверждения со стороны. Может, поэтому обратился к такому легкомысленному, как думалось, всегда шутившему и такому же чудаку, как все, Васе-паровозу. Прозвали его так за то, что по возвращении с первого сезона пытался нанять на станции за отсутствием такси паровоз, чтоб добраться до родного поселка, куда вела тупиковая, давно заросшая травой ветка.
Что же услышал!
Вот уж воистину даже через бессловесную ослицу Бог может остановить безумие пророка – нашего жалкого надменного ума.
– Которая говорит, «не пей и не кури», – не задумываясь, ответил он.
– Это ещё почему?!
– Она думает жить.
Это было новостью. «Думает жить». Выходит, всё, чем жили мы – не жизнь? Что она есть совсем не то, что я себе представлял? Ну да, я мечтал о семейной жизни прежде. Но что это были за глупые идиллические мечты! Разве можно было относиться к ним серьёзно? Оказалось, да, и не только можно, но и нужно относиться к семейной жизни исключительно серьёзно. Словом, задал мне Господь через Васю загадку. Следующей весной, недалеко от слияния Корымы с Ануем, Он задаст мне ещё одну.
В тот день, помнится, было прекрасное майское утро. Сопки, поросшие жидкими березками и кустарником, кое-где лиственницей, благоухали множеством цветов. Солнце изрядно подъело тени, туман зыбко курился над шумной протокой. С северной сопки к проволочной ограде спустилось стадо маралов. В широченной от сопки до сопки пойме, тянувшейся километра три – от слияния рек до поворота южной сопки к Тогалтаю, шла оживленная подготовка к промывке. Недавние сенокосные угодья и пастбища были обезображены нами. Не только маралам было чему подивиться. С появлением тепла не расцвел ни один цветок, не зазеленилась ни одна травка. Вся эта пёстрая и пахучая растительность ради презренного металла была соскоблена и сгружена в огромные кучи поближе к «Элеваторам» в ожидании промывки, а сама пойма превращена в грязный отстойник. Жители Топольного поносили нас на чём свет стоит, а мы, не обращая внимания, делали своё дело, презрительно величая их кулугурами. Старообрядцев и в самом деле тут было немало: благообразные, в подпоясанных косоворотках, с седыми бородами, в сапогах, старики, в тёмных, если не сказать в чёрных, повязанных на глаза платках, старухи – неразговорчивые и недоброжелательные с виду. Хотя за что было нас жаловать? Несколько купленных за бесценок в заброшенном Чегоне домишек мы перевезли и поставили вдоль Ануя. Как всегда, целыми днями топилась банька, которой заведовали мы с Пашкой Новосёловым. Дымилась труба столовой. На ремонтной площадке кипела обычная работа. Тут же, вместе с собаками, среди разобранных бульдозеров, бродили грязные поросята. Каждый был занят своим делом, а мы с Пашкой своим.
А потому, подцепив к бульдозеру железную бочку на полозьях, отправились за чистой водой для бани и столовой. В Ануе вода была мутная и непригодная для питья. И мы качали ее ручным насосом из ключа под южной сопкой. Работали по очереди, не торопясь. Впереди был целый сезон, спешить было некуда. Солнце припекало. Успокоительно журчала вода в реке. Клейкие листочки на берёзках трепетали на слабом ветру, трава серебрилась и гнулась от обильной росы, щебетали, порхая с ветки на ветку, птицы, и так мирно, так благостно было вокруг и особенно здесь, на пригретой полянке, за сопкой, скрывшей обезображенную пойму, что, казалось, так будет всегда в нашей кажущейся бесконечной молодости. Искусственно чернявые, чем-то похожие, мы по-молодецки легко, играючи работали насосом, перебрасывались пустыми, казавшимися нам смешными фразами. Жажда и сила молодой жизни играла в нас, и многое представлялось в розовом цвете.
Шутили о том, что неплохо бы для разнообразия жениться на какой-нибудь «невесте», построить на этой, к примеру, поляне дом – и жить. И хотя бабушка уверяла, что моя «жена ещё не рожена», я всерьёз подумывал о женитьбе. Разговор с Васей-паровозом к тому подталкивал. Похоже, и Пашка думал о том же. И даже, как оказалось потом, опередил меня, удачно, как думается, женившись в конце сезона на «невесте» по имени Татьяна. По осени, когда играли в Степном свадьбу и всю совместную дорогу до Нижнего, я исходил завистью, перефразируя знаменитого Митрофанушку: «Хочу жениться». Но всё это будет потом, а пока мы были веселы и беспечны, и всё вокруг, казалось, обещало одни только радости впереди.
Не знаю, когда и как оказался рядом седой старик, один из тех тополинских кулугуров, в подпоясанной косоворотке, в истёртом пиджаке, полосатых тёмно-синих штанах, сапогах и кепкой на голове. Он подошёл, держа на плече удочку, в другой руке брезентовую, подмокшую снизу сумку, из которой пахло свежей рыбой.
– Бог в помощь!
– Бог спасёт! – по инерции ответил Пашка.
– Золото добывам?
– Есть маненько. А что – нельзя?
– Кто ж вам воспретит? – хмыкнул он и, покачав головой, глядя мимо нас, задумчиво произнес: – Всё золото, золото… А придёт время (может, доживёте), захочешь пить, глянешь, вроде вода блестит-переливается, подойдёшь – а там золото. И везде, куда ни глянь – одно золото, воды ни маковой росинки. Так-то, сынки.
И пошёл своей дорогой, прямой, статный, как и не старик вовсе. Мы переглянулись – и ничего не сказали. Нечего было сказать. Старик напомнил о конце света, о чём мы, конечно, слышали, как о придуманной «толстопузыми попами» сказке. Но какой резон было врать этому убелённому сединами старцу? Какая корысть? И если он прав, что тогда? И ад, и рай, и конец света, и Страшный Суд – никакая не сказка, а вполне возможная реальность? Однако думы эти недолго посидели в весёлой голове, надо было работать, надо было жить. Земля ещё не горела, вода не убывала, золото было в цене, а мы молоды и беспечны.
Глава третья
1
В ту осень решилась и моя судьба. Господь услышал Митрофанушкину молитву.
Теперь я иногда шучу, что женила меня мама, но это совсем не так. И хотя официальное предложение я сделал именно после совета мамы («Сходи-ка в общежитие: какая там хорошая девушка есть – Галя Лебедева!»), я много раз видел её прежде, а за день до памятного вечера встретил её на главной улице совхоза катавшуюся с подружкой Шурой на железном ящике из-под кефира. Обе так заразительно весело смеялись, что я невольно остановился и, поглядывая на их детскую забаву (одна лошадка – другая кучер), сказал, нарочно путая её имя:
Не морозь меня,
Моего коня…
Ничего особенного в те далёкие времена это не представляло. И, сколько мне известно, не только у нас. Желающих отвести душеньку было хоть отбавляй. Справляли и Масленицу, переименованную в «проводы русской зимы». С непременными блинами, чаем на льду нашего огромного пруда, со снежной бабой, с дырявым ведром на голове и морковкой-носом. Был тут и обледенелый столб для удальцов, с призом наверху, и, увы, уже лишь переодетые в «русских красавиц» женщины, песни, частушки. И зябко, и грустно, и весело. Какой-то цветистый лоскуток древности, его ядрёное, как квас, дыхание. Забытое-презабытое, но отчего-то ещё волнующее. Скрип расписных и простых саней, визг и восторг детворы. А поутру или даже к вечеру, когда потянет со стороны железной дороги пробирающим насквозь ветром, пометёт мусор, клочки соломы, обёртки конфет, окурки, всегда оставалось чувство неудовлетворённости, как в детстве: пообещали подарок – и не привезли.
Куда цельнее воспринималась застольная песня. В ней было больше искренности, не было той эстетической парадности, она жила, а порою будила в душе нечто до того глубинное, до того важное, что, казалось, не будь этих песен, я любил бы и понимал свою землю куда меньше, а то и вовсе бы не любил. Проводы же русской зимы уже не были, к сожалению, тем последним весельем перед заговеньем, когда поутру всё преображается от грядущего по городам и весям Чистого Понедельника, тем началом всенародного покаяния, собиравшим в первых сумерках в храмы народ русский, отворяя, особенно после вчерашнего Прощёного воскресения, двери Великого Канона: «Откуда начну плакати окаянного моего жития деяний? Кое убо положу начало, Христе, нынешнему рыданию? Но сам мне даруй, Спасе, умиление».
Поскольку не было этого покаянного продолжения, а также ожидаемой вдали связи с вечностью, Пасхи, всё обрывалось тут, возле грязной чёрной от угля луже, на месте снеговика, клочков соломы и мусора, да ещё беспросветной, ничего не обещающей впереди, кроме «голодной могилы», жизни. И мне ведь предстояло умереть! Умереть, чтобы «никогда и никогда», как выразил свой ужас перед грядущим небытием один мой земляк. Иногда при мысли о смерти (гроб, сырая земля, могильные черви, вечный холод и мрак) мне становилось дурно. Зачем? Вся эта жизнь, всё это – зачем? Чтобы умереть и быть забытым навеки? Забыл же я крёстного, Вовку Патроманского, которого переехал трактор, одноклассника, умершего от белокровия в десять лет, я даже не пошёл смотреть на него умершего. А мать школьного друга, Валентина Грачева – какой удар для всего нашего девятого «А»! И особенно для меня – его слова: «Пахнет». Кто – мама? Как он мог так сказать? Мама – и пахнет. Но забыл же! А все мы, весь наш род, репрессированный, сгинувший в тюрьме ни за что дед, бабушка, – вообще все, весь род человеческий, появились тут для чего? Чтобы умереть и «никогда и никогда»? Какая то была вопиющая несправедливость! Одна-единственная среди всего этого великолепия. Всё, решительно всё до мелочей было рационально и премудро, и лишь одно единственное «никогда и никогда» перечёркивало напрочь всё, отравляло сознание, ограничивало, а то и на нет сводило радость бытия.
6
Осенью мы перегоняли бульдозеры от Бийска до Степного, Солонешенского района, где в горах Алтая открывался новый участок. До заморозков, наступавших в горах в конце октября, надо было сделать вскрышу на будущий год.
Тогда, в Бийске, если не считать детства, когда с бабушкой Марфой ходил из Казыевки к «Егорию» в памятный дождём и причастием Троицын день, я второй раз был в церкви.
В середине октября тут уже лежал снег, на улицах было неуютно и холодно. Три дня, в ожидании подхода на станцию состава с нашей техникой, мы бродили по городу в поисках развлечений и даже, чтобы походить друг на друга, выкрасились в парикмахерской с моим тогдашним приятелем Пашкой Новосёловым в черный цвет. Сидеть в гостинице к вечеру было просто невыносимо. И мы слонялись по осеннему городу в поисках кинотеатра и хотя шутили, что «лучшее кино – это вино», пить надоело.
Ночной Бийск представляется в памяти, как «Урень в сорок восемь деревень». Хотя был там, кажется, театр драмы. И даже центр, с красным флагом на крыше дома «советов или приветов». Мы особо не разглядывали, а вот кинотеатр нашли и что смотрели, не помню. Зато хорошо помню, как в одной из слабо освещённых улочек, подсвеченная фонарями, величественно и уверенно спокойно плыла и плыла ввысь, навстречу крупному снегопаду, белая каменная церковь, с невысокой колокольней, за каменной же, как в Карповке, оградой.
Что потянуло меня туда, не знаю. Может, тоска, спустя два дня вылившаяся в том вопросе, который задам Васе-паровозу во время перегона бульдозеров по заснеженным степям Алтая, а может, болезненное от простуды недомогание, перешедшее на подъезде к Солонешному, с красивою высокою церковью на отшибе, в грипп, с высоченной температурой, так что весь остальной путь вдоль реки Ануй, мимо бесконечно тянувшегося вдоль сопок Топольного, до самого Степного я проехал в полусонном бреду.
Сказав что-то своим «архаровцам» и дождавшись, когда скроются из виду, я повернул назад и быстро, зачем-то оглянувшись, вошёл в ограду церкви. Во дворе было пусто и тихо. Сквозь стеклянную массивную старинной работы дверь струился тихий свет. В притворе, на лавках, совсем похожие на карповских, сидели нищие: старичок, с шапкой-ушанкой на коленях, перевязанная шалью старушка, безногий, с испитым лицом инвалид на каталке с маленькими колёсиками. Передвигаться он мог, очевидно, лишь с помощью рук. При моём появлении они стали истово креститься, нарочно на меня не глядя. На этот раз я отнесся к ним иначе. Выгреб мелочь и, отчего-то волнуясь, раздал её.
– Спаси Христос… Дай Бог здоровья, благополучия, – благодарно забормотали они, крес тясь.
Я поспешил пройти дальше, где за другими красивыми дверями шла вечерняя служба. Народу было немного, в основном впереди, у алтаря. Слева от входа была стойка со свечами. Я купил самую дорогую, за три рубля, и спросил у одной чем-то напомнившей бабушку Шуру и отчасти бабушку Марфу, старушки у подсвечника:
– Скажите, пожалуйста, кому свечку надо поставить, чтобы всё было хорошо?
Она снизу глянула мне в глаза, отчего я опять застыдился, положила на медный подсвечник гусиное перо, которым смахивала в сухую, как у бабушки, ладонь застывшие капли воска, отер ла о тряпицу руки и спросила:
– В первый раз, что ль?
– Я не здешний.
– Вижу, что не наш. Эк умотало тебя! Вон… поставь «Споручнице грешных».
И указала на большую, в серебряном окладе икону, где Господь держал в руках правую руку Божией Матери.
– Молитву знаешь какую?
– Нет.
– Запомни самую доходчивую, – и она произнесла негромко, протяжно, а главное, так проникновенно, что у меня даже защипало в носу: – Го-о-споди-и, поми-и-илуй… Запомнил? Ступай с Богом.
И ещё что-то уже вполголоса, со вздохами, всё причитала и причитала, пока я почему-то дрожащей рукой зажигал от другой свечи свою и ставил на подсвечник.
Шагая по тихой улице в сторону гостиницы, я вдруг заметил, что со мною что-то случилось. Окружающее уже не давило и не угнетало, как прежде, как будто что-то забытое из самого раннего детства вошло в моё сердце.
Утром прибыла наша техника. День ушел на перевоз её трайлерами за город, в завьюженные, с туманными далями степи Алтая. А затем по двое в бульдозере, очумелые от шума, похмелья, голода и холода, мы тащились наугад по волнам сиявшего до рези в глазах белого покрова к синеющему впереди горизонту, от одной черной приметы, деревушки, к другой, населенных людьми отзывчивыми, выручавшими нас, болезных, то лучком, то солью, то хлебушком и даже соленым салом. В советских магазинах, кроме водки и «Завтрака туриста», который даже собаки не ели, ничего не было.
На ночь мы пришвартовывались к такой заметеленной деревеньке, пропускали для согрева по стаканчику и то дремали в тарахтевших бульдозерах, развернув их задом к ветру, чтоб не выдувало то малое тепло, в котором ещё кое-как можно было существовать, то вели нескончаемые разговоры про «жись».
Тогда, помнится, в шутливой форме я и задал пожилому семейному бульдозеристу Васе-паровозу мучивший меня в то время вопрос:
– Рассуди, Вася, на ком жениться? Одна говорит: «Делай, что хочешь, только меня не обижай». Другая: «Не пей, не кури, мой мне ноги и воду эту пей».
Любовь, как и любовь к пресловутой «свободе», в моём воображении, под впечатлением от бесшабашного старательского окружения представлялась тогда в виде нескончаемого праздника, но никак не обязанности, пусть даже и семейной. В большинстве окружавших меня тогда людей я видел сочувствие к такому образу жизни. Но что-то всё же глодало совесть, раз хотелось подтверждения со стороны. Может, поэтому обратился к такому легкомысленному, как думалось, всегда шутившему и такому же чудаку, как все, Васе-паровозу. Прозвали его так за то, что по возвращении с первого сезона пытался нанять на станции за отсутствием такси паровоз, чтоб добраться до родного поселка, куда вела тупиковая, давно заросшая травой ветка.
Что же услышал!
Вот уж воистину даже через бессловесную ослицу Бог может остановить безумие пророка – нашего жалкого надменного ума.
– Которая говорит, «не пей и не кури», – не задумываясь, ответил он.
– Это ещё почему?!
– Она думает жить.
Это было новостью. «Думает жить». Выходит, всё, чем жили мы – не жизнь? Что она есть совсем не то, что я себе представлял? Ну да, я мечтал о семейной жизни прежде. Но что это были за глупые идиллические мечты! Разве можно было относиться к ним серьёзно? Оказалось, да, и не только можно, но и нужно относиться к семейной жизни исключительно серьёзно. Словом, задал мне Господь через Васю загадку. Следующей весной, недалеко от слияния Корымы с Ануем, Он задаст мне ещё одну.
В тот день, помнится, было прекрасное майское утро. Сопки, поросшие жидкими березками и кустарником, кое-где лиственницей, благоухали множеством цветов. Солнце изрядно подъело тени, туман зыбко курился над шумной протокой. С северной сопки к проволочной ограде спустилось стадо маралов. В широченной от сопки до сопки пойме, тянувшейся километра три – от слияния рек до поворота южной сопки к Тогалтаю, шла оживленная подготовка к промывке. Недавние сенокосные угодья и пастбища были обезображены нами. Не только маралам было чему подивиться. С появлением тепла не расцвел ни один цветок, не зазеленилась ни одна травка. Вся эта пёстрая и пахучая растительность ради презренного металла была соскоблена и сгружена в огромные кучи поближе к «Элеваторам» в ожидании промывки, а сама пойма превращена в грязный отстойник. Жители Топольного поносили нас на чём свет стоит, а мы, не обращая внимания, делали своё дело, презрительно величая их кулугурами. Старообрядцев и в самом деле тут было немало: благообразные, в подпоясанных косоворотках, с седыми бородами, в сапогах, старики, в тёмных, если не сказать в чёрных, повязанных на глаза платках, старухи – неразговорчивые и недоброжелательные с виду. Хотя за что было нас жаловать? Несколько купленных за бесценок в заброшенном Чегоне домишек мы перевезли и поставили вдоль Ануя. Как всегда, целыми днями топилась банька, которой заведовали мы с Пашкой Новосёловым. Дымилась труба столовой. На ремонтной площадке кипела обычная работа. Тут же, вместе с собаками, среди разобранных бульдозеров, бродили грязные поросята. Каждый был занят своим делом, а мы с Пашкой своим.
А потому, подцепив к бульдозеру железную бочку на полозьях, отправились за чистой водой для бани и столовой. В Ануе вода была мутная и непригодная для питья. И мы качали ее ручным насосом из ключа под южной сопкой. Работали по очереди, не торопясь. Впереди был целый сезон, спешить было некуда. Солнце припекало. Успокоительно журчала вода в реке. Клейкие листочки на берёзках трепетали на слабом ветру, трава серебрилась и гнулась от обильной росы, щебетали, порхая с ветки на ветку, птицы, и так мирно, так благостно было вокруг и особенно здесь, на пригретой полянке, за сопкой, скрывшей обезображенную пойму, что, казалось, так будет всегда в нашей кажущейся бесконечной молодости. Искусственно чернявые, чем-то похожие, мы по-молодецки легко, играючи работали насосом, перебрасывались пустыми, казавшимися нам смешными фразами. Жажда и сила молодой жизни играла в нас, и многое представлялось в розовом цвете.
Шутили о том, что неплохо бы для разнообразия жениться на какой-нибудь «невесте», построить на этой, к примеру, поляне дом – и жить. И хотя бабушка уверяла, что моя «жена ещё не рожена», я всерьёз подумывал о женитьбе. Разговор с Васей-паровозом к тому подталкивал. Похоже, и Пашка думал о том же. И даже, как оказалось потом, опередил меня, удачно, как думается, женившись в конце сезона на «невесте» по имени Татьяна. По осени, когда играли в Степном свадьбу и всю совместную дорогу до Нижнего, я исходил завистью, перефразируя знаменитого Митрофанушку: «Хочу жениться». Но всё это будет потом, а пока мы были веселы и беспечны, и всё вокруг, казалось, обещало одни только радости впереди.
Не знаю, когда и как оказался рядом седой старик, один из тех тополинских кулугуров, в подпоясанной косоворотке, в истёртом пиджаке, полосатых тёмно-синих штанах, сапогах и кепкой на голове. Он подошёл, держа на плече удочку, в другой руке брезентовую, подмокшую снизу сумку, из которой пахло свежей рыбой.
– Бог в помощь!
– Бог спасёт! – по инерции ответил Пашка.
– Золото добывам?
– Есть маненько. А что – нельзя?
– Кто ж вам воспретит? – хмыкнул он и, покачав головой, глядя мимо нас, задумчиво произнес: – Всё золото, золото… А придёт время (может, доживёте), захочешь пить, глянешь, вроде вода блестит-переливается, подойдёшь – а там золото. И везде, куда ни глянь – одно золото, воды ни маковой росинки. Так-то, сынки.
И пошёл своей дорогой, прямой, статный, как и не старик вовсе. Мы переглянулись – и ничего не сказали. Нечего было сказать. Старик напомнил о конце света, о чём мы, конечно, слышали, как о придуманной «толстопузыми попами» сказке. Но какой резон было врать этому убелённому сединами старцу? Какая корысть? И если он прав, что тогда? И ад, и рай, и конец света, и Страшный Суд – никакая не сказка, а вполне возможная реальность? Однако думы эти недолго посидели в весёлой голове, надо было работать, надо было жить. Земля ещё не горела, вода не убывала, золото было в цене, а мы молоды и беспечны.
Глава третья
1
В ту осень решилась и моя судьба. Господь услышал Митрофанушкину молитву.
Теперь я иногда шучу, что женила меня мама, но это совсем не так. И хотя официальное предложение я сделал именно после совета мамы («Сходи-ка в общежитие: какая там хорошая девушка есть – Галя Лебедева!»), я много раз видел её прежде, а за день до памятного вечера встретил её на главной улице совхоза катавшуюся с подружкой Шурой на железном ящике из-под кефира. Обе так заразительно весело смеялись, что я невольно остановился и, поглядывая на их детскую забаву (одна лошадка – другая кучер), сказал, нарочно путая её имя: