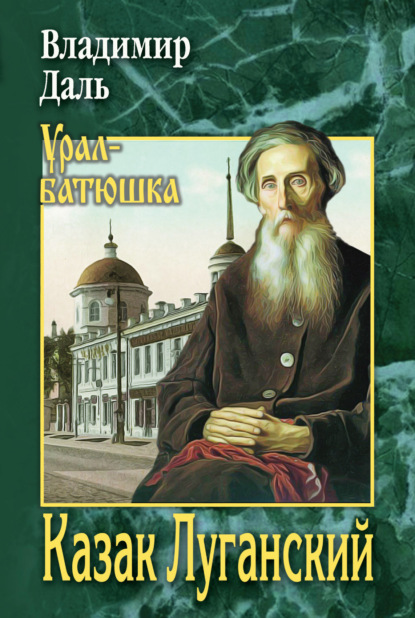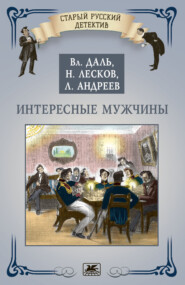По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Казак Луганский
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Евсей Лиров попадал в ловушку на каждом шагу, несмотря на все старания и хлопоты Корнея Горюнова, который наконец уже и сам выбился из сил, спасовал и пошабашил, потому, как уверял он, что не военному и еще не по казенной надобности ездить не годится. Евсея передавали с рук на руки, торговались и продавали на каждой станции, после каждого перегона сызнова, рядились всегда до какого-нибудь города, вымаливали и выманивали хотя половину прогонов наперед, чтобы его не беспокоить ночью к расчету, а после заставляли уплачивать сверх прогонов все привески и недовески, которые, по взаимным расчетам, скоплялись на последней станции, и, уверяя нахально в глаза, что это было по ряду и в уговоре, не везли дальше, между тем как тот, с кем Евсей рядился, покинул его на том же месте, продал, взял слазу и после того сменилось уже на том же основании пять или шесть человек.
Таким образом Евсей Стахеевич наконец добрался до Чудова, за пять только станций от Петербурга, как вдруг проняла его дрожь, когда прочитал он на столбе, что осталось всего сто одиннадцать верст. Страшно было подумать нашему Евсею, что через какие-нибудь полсутки будет он в столице, в этом вихре, водовороте, в этом исполинском смерче кипучей жизни, где всё и все ему чужие, все, от первого до последнего. Куда там приютиться, каким путем начать искать место, куда, к кому обратиться… «Стой, – подумал Евсей, – надобно пособраться с силами и с духом, приготовиться да сообразиться, дела этого рода так не вершатся. Я думал ехать в Москву, меня повезли в Петербург, и я не успел еще опамятоваться». И, покинув повозку свою у чудовского почтового дома и верного стража, неизменное копье свое при ней, отправился он пешком куда глаза глядят, пройтись и подумать,
Корней Горюнов выспался, потом встал, умылся, набил трубчонку свою, присел у подъезда, начал преобширный разговор с ямщиками и рассказал им почти всю службу свою с начала и до конца. Началось тем, что слуга гостиницы спросил, где ночевали, а Власов отвечал преспокойно и не оглядываясь: «Под шапкой»; потом разговорились, зачем и куда едут, и вот Корней Власович уже рассказывает слушателям своим, что прежние времена не нынешние, что прежде бывало много дивного, а нынче – что, и прочей.
Между тем, однако же, настал вечер, смерклось, Корней Власов давно уже покончил рассказы свои, а барина его нет. Стемнело вовсе, и Власов начинает уже крепко беспокоиться: «Это, – говорит, – дивное дело, о ею пору, хоть бы и потонул, прости господи, где-нибудь, так бы уже давным-давно на воду всплыл; а его таки все нет да нет; диковина, да и только!»
Но диковина, как это почти всегда случается, объяснилась очень просто. Евсей задумался тугою думою, пустившись по дороге направо, в село Грузино, шел да шел и все думал да думал. Ему как-то тесно стало на чужбине; он вспомнил о семействе, к которому было так крепко привязался, стал припоминать все былое и минувшее, хотел забежать и заглянуть вперед, что будет, чего ожидать, наткнулся мысленно опять на всегдашнюю участь свою, не блестящую, не завидную, и догадался, что он просто бедовик, которому, видно, на роду написано маяться и перебиваться до последнего дня своей жизни. Хорошо, если бы нам дозволялось заглядывать таким образом иногда вперед, в конечные страницы таинственной книги судеб; хорошо, а может быть, и очень худо, если бы можно иногда предугадывать назначение свое и участь; но как бы то ни было, а Лиров думал, что заветная тайна перед ним раскрылась, что ему почти нечего искать, нечего ожидать. Эту грустную думу донес он наконец до села Грузина[19 - Село Гру?зино – было центром аракчеевских военных поселений.], куда дошел без умысла, без намерения; но, дошедши туда и оглянувшись и услышав, что это село Грузино, Евсею, согласитесь сами, можно было и подумать и призадуматься. У него в голове стало тесно, в груди душно. Утомившись до крайности, нашел он наконец на обратном пути своем мужика, который его подвез до места; и вот почему Лиров явился в Чудове уже близко полуночи.
Около того же времени приходит в Чудово и петербургский дилижанс.
Когда Лиров возвратился, два дилижанса, четырехместная карета и огромная шестиместная колымага, стояли под крыльцом почтового дома, а ямщики закладывали. Погода была очень тепла и хороша; месяц на убыли взошел с час тому назад, и три женщины прогуливались взад и вперед помимо крыльца в ожидании запряжки. Лиров остановился рядом с верстовым столбом, и отныне, более чем на четверть часа времени, у Чудовой станции стояли не один, а два столба. Мы знаем уже обычай Лирова, созерцательную способность его стоять, и глядеть во все глаза, и думать про себя и больше ни о чем не заботиться; поэтому нас два столба эти не удивят: ни тот, который стоит уже многие годы в неизменном пегом кафтане своем и не думает, вероятно, ни о чем, ниже другой, в черном сюртуке, с острыми карими глазами, который столько досаждает и себе и другим всеми странностями своими и затяжною думою.
Наконец мужчина средних лет со звездой подошел звать барынь в карету и взглянул при этом на притаившегося соседа своего, на Лирова, так незастенчиво, что недоставало к этому только вопроса: «А тебе чего тут надобно?» Потом, оборотясь к попутчицам своим, спросил по-французски: «Не попросить ли и его также в карету?» В это самое время Корней Власов, не видя еще впотьмах барина своего и приложившись с отчаянья и нетерпенья к килиановской, рассказывал ребятам, что, бывало, в походе идут они, то есть пехота, в страшную слякоть, в дождь, да месят грязь по колено, а конница и, пуще того, кирасиры обходят их подбоченясь да только знай покрикивают на них: «Не пылить, ребята, не пылить!» Бедный Евсей вздохнул втихомолку и применил рассказ старого служивого к себе и к надменному насмешливому звездоносцу. «Что, я ему мешаю? Разве и солнце и луна не для всех нас равно светят, куда бы луч их ни упал? Разве природа освещает лучом этим предметы исключительно для каких-нибудь избранных любимцев и баловней своих, а не ради всякого, кому чадолюбивая дала зеницу ока? Неуместная зависть и горькая, несправедливая насмешка! Что трудовой и бедовой пехоте отвечать на это надменное «не пылить»?»
Так-то заносился думами наш Евсей Стахеевич и все еще стоял на одном и том же месте, когда и карета, и кавалер ордена звезды, и предмет, на котором Лиров созерцал так благоговейно отражающийся лунный луч, давно уже умчались из вида. Колымага еще стояла все тут же; одна барыня из числа клади занемогла и упросила сопутников своих дать ей часа два отдыху и покою.
Власов непритворно обрадовался, увидав наконец своего барина, и рассказам и объяснениям Корнея не было конца. Раз десять принимался он рассказывать, как он дивился и дивовался, что нет барина; что за пропасть фу ты пропасть – эка подумаешь и прочее. Евсей отвечал на все это мало, почти ничего и, задумавшись, пустился было опять по образу пешего хождения, как изъяснялись в Малинове, и пустился прямо по дороге туда, куда покатила карета. Но Власов поймал его за полу, снял перед ним шапку и побожился, что не пустит его более никуда; потом выпустил из правой руки полу и перекрестился, побожившись еще раз, что не пустит, а после всего этого уже стал уверять и божиться, что пора ехать, что их в Питере, чай, давно уже ожидают и так далее. Не знаю, поверил ли Евсей последнему обстоятельству, но по крайней мере он не мог противиться решительным мерам Корнея Горюнова; понял слова: «Ей-богу, не пущу, вот те Христос, не пущу» – и воротился назад. А вошедши в гостиницу, он и сам немало изумился, когда один из старых и давнишних знакомых его, о котором поговорим после, вскочил со стула и вне себя от радости обнял и облобызал его с восторженными восклицаниями и исступленными возгласами. Малинов, Москва, Петербург, Грузино, карета, луна на ущербе, новый приятель – все это сбилось и смоталось в голове Лирова в огромный клубок, которым, казалось, голова его набита туго-натуго, так что ни для какой думы не было более места, иначе Евсей Стахеевич был бы почти готов подумать хорошенько, Власов ли или уж не сам ли он, Лиров, приложился сегодня с горя к килиановской? Между тем, чтобы говоривши долго да коротко кончить, все это вместе, и Чудово, и Питер, и Москва, и Малинов, и Грузино, и карета, и луна, и дилижанс, и новый приятель, – все это снова распуталось и приняло в уме и памяти Лирова настоящий толк и смысл, когда он, Лиров, уже около рассвета сладко дремал, сидючи в том же самом дилижансе, который стоял перед Чудовым почтовым домом, а теперь ехал в Москву. Итак, Корней Власович, поворачивай оглобли да поезжай в Москву, а в Питере еще подождут.
Глава VI
Евсей Стахеевич поехал в Петербург
Вот изволите ли видеть, как дурен этот обычай делать наперед уже надпись или заголовок перед каждой главой! Евсей Стахеевич только что отправился с дилижансом и старым приятелем своим в Москву, а тут, вслед за тем, уже поневоле пророчишь, что он опять поедет в Петербург. Надобно, однако ж, пояснить еще первое обстоятельство; и вот как все это случилось.
Евсей Стахеевич вошел в первую комнату гостиницы Чудовой, как вдруг невысокий черноволосый мужчина в зеленом мундирном сюртуке с желтыми пуговицами, с дорожною трубкою в руках кинулся его обнимать. Лиров узнал старого своего сослуживца тех инстанций, о которых мы уже говорили, упомянув о тавлинках и бумажных платках. Это был запросто Иван Иванович, и даже по прозванию только Иванов, бывший писец и бесчиновный – чтобы не сказать бесчинный – служитель жировского земского суда. Ивану Ивановичу стало тесно в земском суде, – да, признаться, ему и письмо как-то не давалось; он вышел на простор, пошел искать счастья по белому свету и попал, как видно, на большую дорогу. Лиров с тех пор потерял его из глаз и из памяти; встреча эта при нынешних обстоятельствах все-таки обрадовала Евсея; по крайней мере знакомое лицо, если смею назвать так Иванова; а Евсею уже тяжело становилось на чужбине и грустно. Он, разумеется, полюбопытствовал узнать звание и место бывшего сослуживца своего, который разъезжал себе так важно в дилижансе между обеими столицами, так развязно, так ловко принял старого знакомца и распоряжался в почтовом доме как дома, приказав уже подать на радости бутылку лучшего вина, слово за словом, и Евсей услышал собственными своими ушами, что Иван Иванович, которого он считал по виду, по осанке, по обращению по крайней мере титулярным советником, если не коллежским асессором, что Иван Иванович просто-напросто кондуктор, проводник дилижанса. «О, – подумал Евсей про себя, – при всем уважении моем ко всякому состоянию и ремеслу, даже к знанию проводника дилижансов… но если попытка уездного жителя видеть свет и служить в столице сулит такое или подобное этому блестящее поприще, тогда… тогда…» Но Иван Иванович тряхнул Лирова за локоть, которым этот подперся было, повесив голову, – тряхнул, раскачал и растолкал его дружески, понуждая выпить чудное вино. Но Лиров заметил презрительную улыбку старика-трактирщика, колченогого голштинца, в ответ на запрос Иванова и прочел на ярлыке, хотя и мало смыслил толку в винах, что цена этому чудному вину назначена была восемь гривен. Между тем Иванов, не спросив даже того, за чье здоровье опорожнил уже полбутылки этого красного ротвейна, то есть Лирова, куда и зачем он едет, где служит, как служил доселе и прочее, принялся сам рассказывать ему о Кунсткамере[20 - Кунсткамера (кабинет редкостей) – первый естественно-научный музей в России, основанный Петром I в 1714 году. В 30-е годы XIX века из нее выделились в самостоятельные учреждения Анатомический, Ботанический, Зоологический и др. музеи.], которую теперь, к сожалению, разорили, и о Грановитой палате, которую привели в положение, о памятниках Петру Великому, Минину и Суворову с Пожарским; о самородковом столпе Александра Благословенного; о Царь-колоколе, выставленном недавно на фундамент, и об Английской набережной, на которой лежат две свинки[21 - Имеются в виду сфинксы, которые находятся не на правом берегу Невы, перед Академией художеств. Здесь в 1832–1834 годах был сооружен гранитный спуск к реке и на верхней террасе установлены два высеченных из гранита сфинкса. Они были найдены при археологических раскопках на месте древней столицы Египта Фив и приобретены русским правительством.], огромные, как значится и в самой на них надписи; о Красной площади и об Эрмитаже, – и везде он был, и все видел, и везде принят как дома. Он продолжал в этом духе, покуда наконец староста пришел доложить, что ямщики не хотят долее дожидаться и просят позволения, коли господа не поедут, отпрячь лошадей. Между тем и Власов доносил, что повозка давным-давно заложена и что пора, ей-богу, пора ехать. Иванов вскочил, побежал опрометью и прилетел с известием, что больной барыне полегче и что она собирается в поход. Лиров стал прощаться, но Иванов не хотел этого слышать. «Сошлись, – говорил он, – через восемь лет и старые товарищи и приятели, а теперь разбежаться врознь! На что это похоже?» И при этих восклицаниях размахивал он руками, словно мельница, и сшиб со стола кожаным картузом своим порожнюю бутылку. Лиров невольно отскочил и наступил на ногу содержателю гостиницы, старому подагрическому немцу, который подкрался было к столу, чтобы прибрать роковую бутылку эту, и теперь раскричался, разохался и растопался, как будто настал его последний час. А бедный Евсей уже стоял и кланялся, и просил, и извинялся.
– Ну полно, полно, – продолжал Иван Иванович, – ведь Иван Иванович не сердится, я его знаю, он тезка мой и старый приятель! Послушай же меня, Стахей Сергеевич, – так, кажется, зовут тебя? Не откажи другу, поедем вместе!
– Да послушай же и ты, – отвечал Лиров, – я еду в Петербург, а ты в Москву; как же нам ехать вместе?
– Да зачем же ты едешь в Петербург?
– Искать места, хочется попытаться, не удастся ли пристроиться.
– Где? В Петербурге? Место? Пристроиться? Да какие там, в Петербурге, места?
– Какое найду, побьюсь, поколочусь, мне не привыкать стать; авось добьюсь.
– Где, в Питере? Да какие там места, говорю я тебе, какие места в Питере? Нет ни одного, кто ж там у тебя есть, дядя-сенатор, что ли?
– Хоть бы лавочник какой был, так я бы и за то спасибо сказал: было бы у кого пристать. Нет, я так еду, на вывези господь; у меня нет там никого.
– Шут ты прямой, да и только! И нашел же где искать места, в Петербурге! Стало быть, у тебя нет там никакого дела больше, никакой нужды?
– Да, никакой больше, дай бог и с этой одной управиться.
– Так полно бредить, коли так, поедем вместе, у меня в моем дилижансе и четвертые места оба порожние, садись да поедем; все равно, чем ехать порожняком, подвезу, да уж зато на выбор дам тебе место в Москве, какое захочешь. Да! В Питере нашел место!
Евсей подумал: «Врет-то он врет, что место даст, это я знаю; коли сам в проводниках, так, видно, и у него нет дяди в сенаторах; да ведь, правду сказать, мне что Москва, что Петербург – оба равны; коли человек берет с собою, и еще даром, и познакомит меня, может статься, хоть с кем-нибудь в Москве, – почему уж не ехать? А говорят, действительно трудно найти место в Питере, да я и сам говорил это наперед Власову; сверх всего этого, мне как-то душа говорит, что мне надо бы ехать в Москву…» Тут луна на ущербе и что-то темное, неясное, несвязное мелькнуло в воображении Лирова, но он решительно ничего об этом не думал, не рассуждал, а сказал сам себе: «Нет, все это вздор, доехав за сто верст до Петербурга, было бы слишком смешно и глупо воротиться в Москву, когда и тут и там виды и надежды мои одинаковы: поеду в Питер». Сказав это сам себе, спросил он только Иванова, вовсе сам не зная, что говорил:
– Да как же быть, у меня телега заложена и со мною человек…
– О, об этом не заботься, это мое дело. Это мигом уладим.
И Лиров не успел ни опомниться, ни очнуться, как Иванов велел отложить телегу его, дал Власову какую-то записку на место в сидейке, которая должна была прийти, по словам господина кондуктора, через час или полтора, обнял и усадил Евсея с заднего крыльца в рыдван свой, и кони уже мчали его на Спасскую Полесть, в Москву.
Евсей распустил на досуге поводья вольной вольнице своей, этой докучливой для нас уносчивой думе, прищурил глаза и после проходки в Грузине и беспокойной ночи заснул на зыбком рыдване мертвым сном и проспал два или три перегона до самого Новгорода. В крепком и продолжительном сне прошел он снова все инстанции своего служения, подавал секретарю и членам огня и набивал трубки, наливал чернил, между тем как сторож отбирал у двух товарищей его, по приказанию секретаря, сапоги; потом перепечатывал, как наборщик, бумаги, глухо и слепо, не заботясь о содержании их, потом сидел уже сам за зеленым сукном и так далее. Но все это было озарено каким-то новым, таинственным светом; и везде и всюду видел он теперь в углу, в киоте, на обычном месте, какую-то ангельскую головку, которая завесила душеспасательные очи свои темными ресницами; Лирову хотелось помолиться, но откуда он к ней ни заходил, никак головка эта не хотела на него взглянуть, упорно потупив взоры. Вот около чего вертелись грезы его во всю ночь. Спросите, пожалуйста, снотолковательниц наших: что значит этот сон?
Дилижанс остановился в Новгороде, и Евсей, проснувшись и потянувшись, стал ощупываться и оглядываться, припоминая все, что над ним сбылось: казалось, все было хорошо и благополучно, а между тем Евсею как будто чего недоставало, было что-то неладно или нездоровилось. Для приведения этого обстоятельства в ясность он объяснился сам с собою откровенно, и по справке оказалось, что он был просто-напросто голоден. Итак, он позавтракал в гостинице, а доставая деньги на расплату, увидел, что с ним была только одна мелочь, а бумажник хранился у казначея Корнея Горюнова. «Надобно, – подумал Евсей, – рассчитать, чтобы стало до Москвы». В Валдае, однако же, довольно пригожая девушка уговорила его еще купить колокольчик с надписью: «Купи, денег не жалей, со мною ездить веселей»; а другая с приговорками: «Ты мой баринушка, красавчик мой» – втерла на двугривенный баранок. Отроду в первый раз Евсея назвали красавцем; ему это показалось так забавно, что он купил баранки и грыз их дорогою, улыбаясь выдумке затейливой продавщицы. Но в Вышнем Волочке Евсей пожалел уже о своем мотовстве, потому что вспомнил еще одно неприятное обстоятельство: где найдет его Корней Горюнов в Москве и скоро ли еще до нее доволочется? Власову вовсе не сказано было, где искать барина, да и барин еще сам этого не знал. Поэтому Лиров проехал Торжок не торговавшись, а притворясь спящим, не купил ни одной пары гнилых бараньих сапожков, хотя они продавались за козловые и были ему очень нужны. Лиров был один из тех людей, которые иногда целый год не думают мотать, даже не решаются купить и необходимое, но зато, пустившись однажды в покупки, готовы закупить все, что ни видят глазами. В Твери Евсей забыл вовсе о бумажной котлетке, вошел в гостиницу и спросил было поесть. Но когда в биллиардной раздалась во всеуслышание весть, что «уморительный чужестранец, который съел бумажку, опять прибыл», то Лиров воротился в дилижанс и завалился спать. Долго слуга гостиницы ходил и высматривал, и искал барина, который спрашивал закусить; но Евсей сам себя не выдавал и поел уже в Городне.
В Черной Грязи, то есть на последней станции к Москве, словоохотливый Иванов наконец счел нужным объясниться с Лировым. Взяв его под руку и отшед в сторону, сказал он:
– Послушай, дружище, я взял тебя так, на свой страх – понимаешь, не на счет конторы, а от себя, по дружбе и на порожнее место: так уж ты, сделай милость, в Москве где-нибудь на дороге слезь, а в контору нашу не езди, или не останешься ли, может статься, здесь, в Черной Грязи? Смотритель мне человек знакомый, да отселе и недалече, попадешь в Москву, когда захочешь.
«Приятное предложение, – подумал Лиров, – и самое приятельское!»
– Да помилуй, не ты ли сулил мне не только довезти меня до Москвы, но и пристроить к месту? По крайней мере сдержи хоть первое обещание да довези; ведь я не напрашивался, а ты сам меня угостил!
– Ну, не вдруг же все, любезный; не горячись, место – это легко сказать, да и место месту рознь. Пожалуй, мало ли мест и даром дают, да никто не берет, что в них? Будет тебе и место и все, только погоди; я ведь, видишь, по службе, по должности своей всегда разъезжаю взад и вперед промежду столиц, Москвы, то есть, и Питера, и есть у меня основательные друзья и тут и там, – и я тебя не забуду; но рассуди сам, как же мне везти тебя в контору свою? Тогда все труды и беспокойство мое пропадут задаром, там с тебя сорвут, а уж мне ничего не достанется; а не две же шкуры с тебя сымать!
«Эге, – подумал Евсей, – да как же он вытерся и наметался!»
– А где же я найду после всего этого человека своего? – спросил он. Помилуй, что ты со мною делаешь?
– Человека? Э, он не пропадет! Язык до Киева доведет, да и окроме того, братец, верь, по записке моей, – ведь сидейки от нас же ходят, – по записке моей его на руках принесут, свяжут да привезут, коли заупрямится, а на месте будет, об этом не заботься.
– Да место-то велико: где я его найду в Москве?
– Да, в Москве! Ну то-то, видишь, поэтому тебе и лучше выждать его здесь; с ним вместе и отправишься!
– А, так мне сидеть ночь и день на перепутье и выжидать сидейки, чтобы не проглядеть ее! Хорошо и это! Спасибо, друг Иван Иванович! Ну а что, если я тебе еще скажу, что при мне теперь налицо состоит только два двугривенных, коли еще не один пятиалтынный, – не видать точек, – и что деньги мои остались у человека?
– Экой же ты шут подновинский[22 - Шут подновинский – в Москве, на пустыре, где позднее был разбит Новинский бульвар, со времен Екатерины II устраивались народные гулянья во время Масленицы, Пасхи и т. п., где происходили различные представления.], ей-богу, шут! Да кто же этак ездит? Ты думаешь проехать от Жирова до Малинова? Нет, брат, тут без рубля нет и копейки, не как там, без копейки рубля! Ну, хорошо, что наткнулся ты на старого приятеля, на товарища, а другой бы на это не посмотрел…
Евсей Стахеевич уставил по привычке своей глаза на Ивана Ивановича, сложил руки и начал думать, так, про себя; а отвечать не отвечал уже более ничего. Но он этим не отделался от старого приятеля и товарища: Иванов полез шарить с заднего крыльца в дилижанс, вытащил оттуда старый плащ Лирова и колокольчик, то есть все, что там было, стал развертывать и разглядывать сперва плащ и заметил вслух, что он уже очень поношен.
– Так уж отдай мне, Евсей Стахеевич, – продолжал Иванов, – отдай до времени на дорогу хоть шинелишку эту, я поберегу тем часом свою от пыли, ведь моя стоит без малого сто рублев! – И не выжидая ответа, сложил он плащ и перекинул его на левую руку, а правою поднял повыше колокольчик и прочитал по складам: – «Купи, денег не жалей, со мной ездить веселей», – позвонил, прислушался и продолжал: – Экой проказник, Стахей Евсеевич, да с какой погудкой выбрал, да заунывный какой! На черта же он тебе? Теперь, чай, уж и без колокольчика доедешь, недалече, отдай уж мне и его, нашему брату, дорожному человеку, пригодится!
Заметив, что Евсей Стахеевич на все это, по-видимому, соглашается беспрекословно, что он был тих и смирен, и кроток, и в лице у него «ни тени злобы», Иванов подошел к нему, попотчевал его трубкой, убрав уже на место и плащ и колокольчик, и в ответ на отказ Лирова, который сказал, что не курит, заглянул, как бы мимоходом, Евсею за воротник и спросил:
– Да сюртучишко у тебя никак сверх фрака надет аль нет?
– Нет, любезный товарищ и дорогой приятель, – отвечал Лиров довольно положительно, – не две же шкуры с меня сымать, как сам ты сказал; сюртука я тебе не дам.
– Экой чудак! – сказал Иванов, захохотав, прикусив роговой наконечник пружинного чубука своего, свернутого узлом, и почесывая затылок. – Экой чудак! Да кто же об этом говорит? Ты уж и сейчас и бог знает что подумал! Полно горевать, – продолжал он, потрепав его по плечу, – приезжай-ка в Москву, так гляди как заживем, и местечко найдется, да еще и служить будем вместе, что ты задумался, а?
И затем Иванов раскланялся дружески с Лировым, обнял его, полез в кожаный мешок свой подле козел – и дилижанс покатился. А Лиров остался в Черной Грязи.