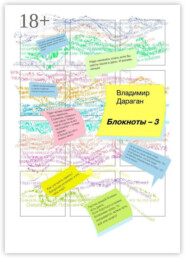По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Идеальная Катя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Как страшно проснуться и не услышать щебетания птиц. Это значит, что пришла осень, что природа будет умирать, и я буду умирать вместе с ней. Но природа оживет, а мне однажды это не удастся».
«Какие звезды холодные! Теплая только первая вечерняя звезда, которая зажигается около заходящего солнца и уходит вместе с ним».
«Я люблю жить одна. Я хочу быть уверенной, что если я поставлю на стол чашку, то она там будет стоять до тех пор, пока я сама не переставлю ее».
«Мне столько раз было плохо и больно, что я заслужила маленькую радость. Меня обязательно кто-нибудь найдет, пожалеет и согреет».
Я закрыл тетрадь и поднял глаза на Верку. Она неотрывно смотрела на меня и ждала, что я скажу.
– Ты ведь не ходила в школу, а пишешь очень хорошо, – наконец, я придумал, что сказать.
– У соседки много книг, я читала, переписывала то, что понравилось, потом сама начала писать. А ты так быстро читаешь! Может, посидишь, почитаешь все внимательно?
Я покачал головой.
– Нет, Верка, я послезавтра уезжаю, у меня еще много дел. Но я обязательно приеду и все прочитаю.
Верка кивнула и отвернулась. Я успел заметить, что в ее глазах блеснули слезы. Подойдя к двери, я постоял, потом вернулся и погладил Верку по голове.
– Я обязательно вернусь и все прочитаю!
Верка, не оборачиваясь, закивала, а потом закрыла лицо руками. Я проглотил комок, вставший у меня в горле, и ушел.
Так получилось, что больше я никогда не возвращался в эти места. Один раз я встретил земляка и спросил про Верку. Он долго вспоминал, о ком идет речь, потом махнул рукой и сказал, что она по-прежнему подолгу сидит у окна и смотрит на проезжающие автомобили.
– Может, ждет кого? – добавил он и перевел разговор на другую тему.
Попутчики
Север Италии. Ветер гоняет по железнодорожной платформе бумажки и сухие листья, вдали видны лесенки альпийских хребтов, над ними вечерние темные тучи.
На этот раз мы без машины. У нас твердое намерение погрузиться в итальянскую жизнь по уши. Уже освоен итальяно-железнодорожный язык, и мы можем запросто переводить на русский и обратно что-то вроде: «Внимание, поезд до хрр-хрр-шшш-тю-тю отходит с пятого путю».
Мы храбро разговариваем по-итальянски с кассирами, не лезем в вагоны первого класса, произносим названия итальянских городов так, что нас понимают со второго раза. Один раз, правда, поняли с первого раза, но неправильно.
Мы с женой стоим на платформе, смотрим на неработающее табло и прикидываем – успеем ли перекусить в ближайшем кафе или будем терпеть до нашей станции. На севере Италии много русских, и мы не удивляемся, когда к нам подходит высокий парень, одетый во все черное, и спрашивает, откуда мы приехали. Не вдаваясь в подробности, говорим, что едем из Бергамо, где провели полдня, что это сказочный город, где можно запросто прожить неделю и не заметить пролетевшее время.
Про Бергамо ему неинтересно, но больше мы ничего не говорим и вопросительно смотрим на него. Парень начинает рассказывать, что давно мотается по Европе, что-то перевозит, что-то продает. Потом вспоминает, как он плыл на пароме из Хорватии в Венецию, как из тумана вставали венецианские дворцы и соборы, как он хотел это запомнить. Затем он предлагает пойти на вокзал и там в буфете попить кофе. Мы кофе не пьем, чая там нет и в буфет мы идти не хотим.
Больше разговаривать не о чем. Парень мнется и отходит в сторону. Общение закончено. У нас чувство неловкости, мы не знаем, как нам надо себя вести, чтобы все были счастливы.
– Сколько у нас было таких знакомств, – философски говорю я, с подозрением разглядывая черную тучу над головой. – Пока что-то общее, хочется общаться, а потом разбежались и забыли.
– Общение и общее – однокоренные слова, – говорит жена.
Подходит поезд, мы садимся в теплый вагон и в окне видим нашего знакомого. Он курит у столба с фонарем. Его лицо закрывает поднятый капюшон ветровки, на которой уже блестят капли дождя.
Мы устали и сидим молча, прислушиваясь к тихому стуку колес, разглядывая за окном мелькающие домишки, в окнах которых уже зажегся свет. Потом я закрываю глаза и пытаюсь понять, как появляются друзья, с которыми у меня нет общих дел. Ну, может, раза четыре в год мы собираемся на дни рождения и какой-нибудь праздник. Но ведь собираться можно и с другими? Но с другими не хочется. Хочется, наверное, просто тепла, просто понимания, просто уверенности, что к тебе придут, когда будет плохо. И ты тоже придешь. Просто так. Просто потому, что они не задают лишних вопросов, не ждут от тебя подвигов и развлечений.
А остальные знакомые? Они были попутчиками. С некоторыми было даже интересно, но недолго. Только пока вы ехали вместе. Они не умели давать тепло и не умели дорожить тем, что давал им ты. Они все время чего-то ждали и обижались, когда ты не соответствовал. Им были не интересны твои дела, они любили рассказывать о своих проблемах.
Вот как-то так… Я удовлетворенно вздыхаю и крепче зажмуриваю глаза. У нас есть еще полчаса, чтобы подремать. Я думаю о друзьях, которых не видел много лет. И я знаю, что когда их увижу, то они не будут обиженно спрашивать, а почему ты не звонил. Они просто скажут: «Смотрите, кто пришел! А ведь мы как раз о тебе говорили!».
Сын вот приедет…
Казалось, что изба стала погружаться в землю. Ее левый угол просел так, что я мог дотянуться до крыши. Некоторые стекла полопались, и их заменили фанерками от старых почтовых ящиков. Огород зарос лебедой и огромными лопухами. Там стояла коза, привязанная длинной веревкой к крыльцу, она что-то жевала и задумчиво смотрела, как я стучу в дверь.
– Что надо, милок? – дверь, наконец, открылась, и показалась старуха, одетая в серую кофту, меховую безрукавку и длинную черную юбку. На ногах у нее были валенки, в руках старая суковатая палка. Стояла старуха с трудом, но старалась быть приветливой.
Мне не удалось купить у нее козьего молока, старуха только что продала его дачникам. А так у нее все хорошо. Раз в неделю приезжает автолавка с хлебом, крупой и сахаром. Все остальное привозит сын. Он у нее хороший, старается приезжать раз в два года. Вот у соседки сын пропащий. Уже десять лет ни слуху, ни духу.
Как-то раз мы выпивали
Андерграунд
Как-то раз мы выпивали у художника Беренедеева.
– Друзья, – сказал художник Беренедеев. – Я собрал вас, чтобы официально объявить: с завтрашнего дня я ухожу в андерграунд.
– В подполье, что ли? – уточнил поэт Варфоломеев. – Ты новую мастерскую в подвале отхватил?
– В андерграунд! – настаивал Беренедеев. – В жесткую и решительную оппозицию!
Мы притихли.
– Кукиш в кармане будешь крутить? Как в старые времена? – мечтательно вздохнул Варфоломеев, явно что-то вспомнив.
– Никаких кукишей! – торжественно заявил Беренедеев. – Я и оттуда скажу все, что думаю.
Он подошел к мольберту и сдернул с него тряпку с пятнами высохшей краски.
На холсте мы увидели барабан на фиолетовом фоне.
Телевизор
Как-то раз мы выпивали у поэта Варфоломеева.
– Друзья, – сказал поэт Варфоломеев. – Мы все гордимся, что не смотрим телевизор. А это ошибка – так мы никогда не узнаем, о чем думают те, для кого мы творим.
В комнате повисла тишина. Вечер был безнадежно испорчен. Денег на телевизор ни у кого не было.
Перспектива
Как-то раз мы выпивали у прозаика Глыбы.
– Друзья, – сказал прозаик Глыба. – Мы с вами ковыряемся в наших соплях и страданиях. А надо смотреть шире и дальше.
– Ой! – на всякий случай сказал поэт Варфоломеев.