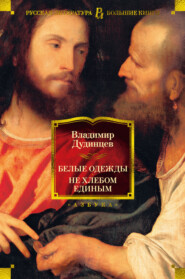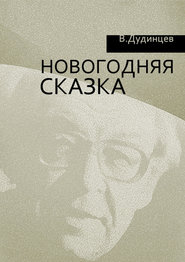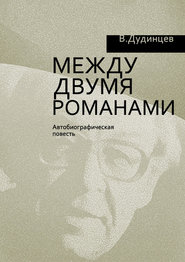По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Белые одежды
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Микроскопы и микротомы – имущество цитологической лаборатории! – Вонлярлярский выкатил глаза.
– Он сам его собрал, из деталей… Хотел унести домой… Просил… Это нечестно, Стефан Игнатьевич, человека и так…
– Зря, совершенно зря, Елена Владимировна, связываетесь с таким делом. Это же государственное имущество! Не понимаю, как вы собирались его выносить? Тайком? В такие дни…
– Никакого обмана, – наливаясь угрозой, забухала низким голосом Вонлярлярская. – Ни прямого, ни косвенного никогда и ни при каких обстоятельствах я не совершала и не позволю при мне… – и гордо отошла боком.
– Я, во всяком случае, патриот института. И к такому делу не прикоснусь даже в форме уступки вам…
Оба супруга поглядывали на Федора Ивановича. Они таким способом доносили ему на Елену Владимировну.
– Я вас не понял, – сказал Федор Иванович. И пока оба супруга мялись, набирая разгон для более точного доноса, он добавил: – Стефан Игнатьевич! Ведь вы сами, когда бежали с супругой по парку – помните? – и когда я вас догнал, как раз говорили об этом микротоме. Что вы говорили? Что он списанный, подобран на свалке, что Иван Ильич заказывал точить винт в Москве.
Вонлярлярские посмотрели друг на друга.
– Ну? Ведь было это? Словом, я ничего не вижу, не слышу и не говорю. А микротом вы с Еленой Владимировной отнесите ко мне в кабинет. Я сам посмотрю и решу…
– Пусть несет сама. Она вон какая. Коня на ходу остановит…
– Дайте, тогда я сам. – И Федор Иванович, отобрав у них тяжелый микротом, смеясь и качая головой, понес его себе.
Елена Владимировна вошла за ним следом. Федор Иванович, поставив прибор на столе, подвигал кареткой, покрутил винт и поднял на нее глаза.
– Федор Иванович, это микротом Ивана Ильича…
– Я знаю, – ответил он.
– Вы позволите вынести? Надо как-то пропуск…
– Никаких пропусков, я вынесу сам – Федор Иванович сказал это негромко. – Принесите мне сумку или большой портфель. Вечером вы подойдете к этому окну. Тут клумба… И я вам подам. А потом выйду. И отнесем хозяину.
– А эти, незапятнанные? Они же шум поднимут…
– О чем? Какой может быть шум о том, чего не было? Ведь вещь нигде не значится!
И опять пришел теплый душистый вечер. К концу дня Елена Владимировна принесла чей-то огромный брезентовый портфель с кожаными кантами, и Федор Иванович уложил в него прибор. Когда стемнело, он уселся у окна, не зажигая света. В открытое окно тянуло ночной, чуть пересушенной ароматной прохладой парка. Вдали скользили какие-то тени, исчезали в наплывающей тьме.
– Призадумались?.. – раздался около него тихий низкий голос Елены Владимировны. Она была у самого подоконника, как мальчишка, вскарабкалась на цоколь. Федор Иванович передал ей портфель и бесшумным гибким шагом заговорщика выскользнул на улицу, обежал вокруг корпуса.
Ее светло-серая тень ждала в сторонке. Елена Владимировна была в своем халатике. Федор Иванович взял у нее портфель, и они молча быстро зашагали к парку. Когда окунулись в черный дым ночи, уже окутавшей парк, Елена Владимировна взяла его под руку.
– Можно? Это я чтоб вы не потерялись. Не страшно вам?
– А почему должно быть…
– Вы разве не чувствуете, что на всех налетела какая-то…
– Ну, не на всех же она налетела.
– На хоздворе все еще жгут… Кто сжигает, все как-то молчат. Хейфец сказал: пламя того самого химического состава, что и пятьсот лет назад…
– Значит, не совсем того состава, раз не пляшут, а молчат.
– Федор Иванович, знаете, что скажу? Вы слишком афишируете свое отношение… Свою объективность. Вы – наш последний шанс. Вас нам надо беречь. Все и так уже знают, что одежды у вас белые. Их надо иногда в шкаф…
– В шкаф никак нельзя.
– Так накиньте сверху что-нибудь.
– По вашей завиральной теории?
– Ага…
– А не боитесь, что, когда придет время снять это что-нибудь, белых одежд там и не будет.
– В отношении вас не боюсь. Ведь вы же сами говорили нам про добро. И про зло. Вы сами сказали, что это качество намерений. А Вонлярлярский выразился: без-вари-антно. А вы еще добавили: его нельзя ни привить, ни отнять.
– Я тогда не все еще сказал, Елена Владимировна. Качество намерений – оно то возникнет, то пропадет. Оно только когда возникают намерения. А самое первое, постоянное – такая в некоторых сидит сила. Только нельзя путать: это не гнев вспыльчивого, нервного человека. Вон наша тетя Поля, уборщица. Знаете, что сказала? Говорит, если кошка к тебе в кастрюлю забралась, и ты бьешь ее со сладостью, не можешь ты быть ни начальником, ни судьей. Но это – нервы, болезнь, это еще не зло. Зло кошку не бьет, а спокойно ее в мешок… Мы его можем чувствовать в себе, у кого есть. У кого его достаточно много. А вот понять, дать определение – никак не ухватишь. В нас много чего есть, чего сами не видим. А зло чувствуется, Елена Владимировна…
– Надо будет прислушаться…
Они пошли медленнее.
– Я вам помогу прислушаться. Вообразите такое: в печати появляется сенсационная статья. Ученые разных стран, не сговариваясь, открыли, что самая страшная болезнь века… Скажем, рак… возбуждается в человеке разрушительными эмоциями определенного толка. Эмоциями зла, умыслами причинить кому-нибудь страдание, отравить жизнь, подсидеть, обобрать… Вот Вонлярлярские, они ведь тихонько хотели обобрать Ивана Ильича. Небось, и обсудили все заранее между собой.
– Они давно на этот микротом посматривали…
– В общем, эти эмоции существуют, видимо, у всех. Но у одних чуть-чуть, и человек, осознав, краснеет. А у других определяют лицо, личность. Вот и представьте себе, что появилась такая статья, и по этой статье рак – регулирующая мера со стороны природы. Против угрожающего роста влияния тихих людей зла. Особенно сейчас, когда с религиями покончено. Почему, пишет эта – воображаемая – статья, почему совпадает рост заболеваний раком с убылью религий? Религии удерживали нас – страхом наказания. А сейчас, мол, другой фактор включился. Кто гибнет от рака? – задались ученые. И статистика показала: люди зла. Я не утверждаю, это я такой заход построил. Чтоб удобнее было, как вы говорите, прислушиваться к себе. Допустим, такая появилась статья, и факты ее, имена подписавших ученых – заставляют задуматься. Вопрос уже к вам. Как вы думаете, Елена Владимировна, прочитав это, не станут те, кто хочет жить, ловить себя на дурных, злых намерениях, подавлять их в себе – и притом без промаха? Не случайный гнев, не раздражение от усталости, а настоящую силу зла в себе начнут давить! И будут устанавливать в себе эту напасть с величайшей точностью! Без всякой аппаратуры!
– Я иногда чувствую что-то похожее, – сказала Елена Владимировна задумчиво. – Впрочем, чувствую или нет? В общем, чужого микротома я не желала никогда. Уж вам-то призналась бы. Нет, не желала. А если я что-нибудь по своей завиральной теории… Я не чувствую, ничего, кроме веселья, что мне удалось надуть злого человека. Но вы правы, Вонлярлярские метили на микротом. И им не было жаль Ивана Ильича…
– Я так много над этим думал, что мне хочется иной раз сесть и написать книгу. Я назвал бы ее – «Очки для близорукого добра». Есть у Соловьева «Оправдание добра». Но я не понимаю этого заголовка. Добро в оправдании не нуждается. Его не обвиняют, а бьют, над ним издеваются, к чему оно само, правда, иногда дает повод. Вот добро гонится за злом, совершившим преступление. На пути газон с надписью: «ходить по траве воспрещено». Зло, не задумываясь, бросается через газон. А добро, даже не читая, пускается в обход: нельзя мять траву. И упускает преступника. Добро, Елена Владимировна, сегодня для многих звучит как трусость, вялость, нерешительность, подлое уклонение от обязывающих шагов. Но конечно, все далеко не так. Далеко, далеко не так. Это все – путаница, накрученная тихим злом, чтоб легче было действовать. И ее надо распутать, путаницу.
– Подождите. А если добро бросится через газон и ошибется?
– Мне лучше пострадать от ошибки доброго человека, чем от безошибочного коварства. Настоящий-то добрый осудит, а потом и маяться будет, страдать. Пересмотрит приговор пять раз.
– А вы ведь смыкаетесь с моей завиральной теорией! Хотите, расскажу, как я недавно применила ее на практике?
Парк начал светлеть, в лицо пахнуло теплым осенним полевым духом. Они вышли на простор, как в громадный, тихо и ровно гудящий цех.
– Как сверчки сегодня распелись, – сказала Елена Владимировна. – Может, это у них последняя ночь… Вы не боитесь, что это последняя ночь?
– Я вас не понимаю, – Федор Иванович прижал локтем ее руку.
– Ладно, я сейчас доскажу, мне хочется. Полгода назад я получила пакет. И в этом пакете письмо, а в нем такие важные слова. Высшая аттестационная комиссия извещает, что я лишена кандидатской степени. Ввиду ложности посылок, слабого фундамента, недостаточной разработки, шаткости базы и так далее. Через две недели еще пакет – Иван Ильич получает. И его лишают докторской степени. Такие же доводы. Оба мы получаем, каждый – в свой день рождения! Сволочи – они могут и врать и пакостить. Им все можно! И рак их не берет! Я поехала однажды в Москву и думаю – зайду-ка я в этот ВАК! Захожу. Туда, где хранятся диссертационные дела. Две старушки эти дела хранят. Я начальственным тоном: «Дайте мне папку с таким-то делом». Старушка топ-топ-топ, и смотрю – несет мое дело! Я сразу ищу мотив лишения: как ученица такого-то и таких-то вейсманистов-морганистов, преданных проклятию. Успела сделать выписку. Теперь, говорю, давайте дело Стригалева. Топ-топ-топ – принесли и эту папку. Только пристроилась листать, пришло начальство и меня выгнали. Так что вот… Я нарушила норму.
Они некоторое время шли молча.