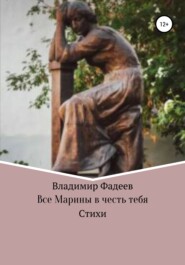По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ясные дни в августе. Повести 80-х
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Домик батюшки стоял с той стороны церкви – через луг, через кладбище, через дорогу – рядом, когда идти не в тягость. Антон же у первых могилок сел отдышаться, подержаться за впалый живот – глядишь, половина боли уйдёт в ладони.
Становилось душно. Август шёл на убыль, а погода который уж день держалась жаркая – июнь, да и только. Если б не жёлтые да пустые поля. Над землёй тихо всё плыла и плыла благодать. Видно было далеко во все стороны. Там, где не мешали сады и крыши, даже в самом дальнем лесу угадывались берёзовые и еловые, светлые и тёмные лоскутики! Как это, оказывается, здорово – далеко видеть! Эх, случился бы этот день раньше… Хотелось думать какую-нибудь просторную думу, чтобы ни во что она не утыкалась: ни в затвердевшее прошлое, ни в задымленное настоящее, ни в будущее, очень уж низко нависшее, но всё равно непроницаемое. Бывают ли такие думы? Так чтоб… Антон попробовал вздохнуть глубоко, но осёкся на полувздохе – боль караулила его строго. Не бывают… всё опутано, стреножено. Отчего так?
А воздух вокруг прозрачный. Тишина. Безлюдье, если не считать тех, чьи имена крошатся свой второй век на камнях и железе. Дятел, гость из леса, стучит по самой верхушке сосны, как в микрофон, на берёзах, что поодаль, орут вовсю грачи, – а всё равно тишина. Рябые и белые куры молча ищут на груде старых венков, петух, чуть в стороне, наблюдает – одним глазом за курами, другим – за сидящим человеком. Вот выросли два валуя – один по одну сторону крашеной синим ограды, другой – по другую, ни сном, ни духом, а в разные миры угодили. На пеньке – опёнки, ложные, настоящие – в обнимку. По берёзовым веткам прыгают безголосые птички, отпелись за лето. От их скоков всё новые и новые жёлтые кляксы послушно падают на землю, чтоб и самим стать ей, сырой и чёрной. С одного огорода на другой через всё кладбище медленно, упрямо, по человечьей тропинке ползёт полосатый колорадский жук. Вредитель, который сам об этом не знает, которому и невдомёк, за что его сжигают тысячами в керосиновых лужах на концах длинных картофельных гряд. Ползёт, у него свои дела. Зачем-то подумалось, что и у этого вредителя может быть своя жучиная судьба… Ползёт, ему надо жить. Ползёт жить – приползёт в смерть. «Захочу – раздавлю… кто я для него? Бог?»
Поднялся. Через десять шагов ткнулся в свежий, похоже, только вчера насыпанный бугорок. Рядом валялась лопата, испачканная в не засохшей ещё земле, три пластмассовые розы и подгнившее с одного бока яблоко, штрифель. «Бедно хоронили, – подумал Антон, – без музыки, не голосили, не гуляли. Всё богатство – пластмассовые розы. Ох, и глупые старухи! У каждой полон сад-огород цветов, нет – из пластмассы, дольше… Разве в том смысл, чтоб дольше? А в чём?» Рябинка – уже без листьев, одни гроздья, прижала их к небу, держит, гордится. Сорвал ягодку, разжевал. Вкусно, хоть и горько. Глотать не решился, выплюнул.
Угол кладбища совсем зарос и ничем теперь не отличался от молодого леса, если бы не вздыбленная потерявшими форму буграми земля. Не верилось, что под этим живым частоколом – люди, имевшие когда-то имя и дело на свете, а теперь немного ставшие и деревцами.
Ограды раздражали. «Зачем они мёртвым? От кого? По себе живые судят, ссорят и этих… и выпивать неуютно, как в клетке. На старых могилах оград нет, это уж мы придумали, огородились. Сколько вот чугунному кресту лет? Без ограды». Кирпичный фундамент надгробия выморозило из земли, наскучила ему та кампания, вылез. Вылез и – завалился, знай место. Ветка хлестнула по чугуну, и крест неожиданно звонко и долго запел, как истосковавшийся по звуку немой человек.
Несколько раз повторил про себя слово «памятник». Только что открылся в нём иной, простой и глубокий смысл, а вот повторил – и остались лишь плоские, ломаные звуки: па-мят-ник. Чушь…
Фамилии. Во! Генералов. Как ни крути, а наверняка течёт в хлопце генеральская кровь: генеральский ли сын, внук ли генераловой прачки… Текла… Вот – Барабошкины, Селифановы, Кундиновы, Кудины. Что за напасть – всё незнакомые, как будто проходила где-то рядом, по его следам, над ним, сбоку, впереди – где? где? – ещё и другая жизнь, не спрашивая его и не открываясь ему.
Заставила вздрогнуть фотография старухи – больно уж похожа на саму смерть. Хорошо б, если это была её могила. Задумался: будет ли смерть смерти означать жизнь? Вряд ли. Скорее, это будет конец всей жизни вообще, так сказать, абсолютная смерть. Обыкновенная смерть только тогда и бывает, когда есть кому умирать, смерть – это очень жизненная штука. Пусть живёт, пусть плетёт свою кладбищенскую паутину: Генераловы, Барабошкины… их же не убывает!
Вылезая из пролома, оглянулся, словно обронил там что-то, зацепился за что-то ниточкой, ниточка тонкая, а не пускает, больно… Ладно, пусть рвётся, надоели за сегодня загадки! Вылез, перешёл через дорогу и… отгадал, что тянуло: в другом от петляющей тропки краю кладбища есть совсем другие две могилки. Сколько ж он на них не был! Даже на пасху всё на чужих, где нальют – и уж не отца с матерью, поминаешь кого ни попадя… На обратной дороге надо зайти. Захламились, наверное, заросли… А как им не захламиться? Кому ухаживать? Из детей на селе один Антон остался, а какой с него спрос – пьяница. Сестра, Ольга – лёгкая была девка! – с первым же холостым дачником уехала в Москву, не прижилась там, как ни цеплялась. Вернулась с агрономом, в соседний колхоз, почти в родные края – от села пятнадцать километров по шоссе и три по грунтовке через лес. Антон был у неё два раза. Первый помогал строиться, хотя вся стройка – крышу перебрали, дом-то старый, а второй… второй… лучше б не вспоминался! Агроном уже исчез – в лихой нашей жизни это просто случается: был агроном и – нету.
С братишками ещё круче вышло… могилы матери они и не видели: сначала их посадили, а потом она умерла, через полгода после суда, больше не вытянула. А тянуть, чтобы дождаться, нужно было б ещё лет девять с гаком. Антон тоже, поди, не дождётся, хоть теперь и немного осталось. Есть ли только, кого ждать? Может, к другой встрече готовиться надо…
Братьям было по тринадцать, когда Антон с отцом выучили их стрелять – в лесной стороне живут, как без этого? По четырнадцать, когда умер отец, по пятнадцать, когда начал – с первыми дачными делами – пить Антон, по шестнадцать, когда начали пить сами, по семнадцать, когда завалили своего первого лося, и по двадцать пять, когда вместе с одиннадцатым своим сохатым застрелили насмерть егеря…
Следствие, суд, затухание матери, похороны Антон помнил плохо – едва ли один день в тот год он был трезв.
Вообще-то батюшка жил в соседнем селе, но и здесь у него был небольшой тёплый домик, несколько соток огорода под картошкой, вокруг которого, с обеих сторон забора, густо росла сирень.
«Ну, и что я у него спрошу? – Антон снова прилаживался отдохнуть, теперь под сиренью, невдалеке от раскрытых поповских окон, – что в этом хорошего – умирать? Как спросить? Захочет он с мной говорить? Припёрся!.. А что такого? Может быть всё дело – в одном слове, которого ещё не слышал, а может и не в слове: увидишь что-нибудь этакое… и сам всё поймёшь. И всё-то будет ясно. И легко…»
Из открытого окна доносились голоса – один женский, старостихи, антоновской соседки, он её узнал, другой – поповский. Голоса и смех. По антонову разумению попу смеяться не пристало, не смог бы объяснить – почему, но не пристало. «Что они там – пьют?» Прислушался. Поп пел частушки, правда, вполне приличные, старостиха старалась подпевать. «Пьют… а может и не пьют. Чего тогда петь?» Пенье прекратилось. Батюшка в светлых брюках и в рубашке с короткими рукавами вышел и засеменил к туалету – домик его был без двора. Но до туалета не добежал, у первого же сиреневого куста остановился, помочился и заспешил обратно. «А вот эту, вот эту… – снова послышалось из окна:
С неба звёздочка упала
И в траве растаяла.
Поп за милою гонялся,
Попадьиха лаяла.
Антон сидел под сиренью мрачный. Ещё с десяток частушек, утыканных короткими подвизгиваниями соседки, высыпались из окна на его поникшую голову, потом пенье опять неожиданно прервалось, послышался звук упавшей табуретки и стало тихо.
«Врёшь ты, поп! – подумал Антон, – помирать-то плохо…» Поднялся, захотелось крикнуть в окно что-нибудь обидное, даже поближе подошёл, потом махнул рукой, повернулся и поплёлся прочь.
Да, не открывалась тарабарская книга, не про него, видно, писана.
Запертая церковь зарешеченными окнами смотрела теперь враждебно, отталкивала чугунная ограда, и пролом в ней показался открытой пастью с кривыми железными зубами. И про родительские могилы забыл, пошёл другой дорогой, в обход.
Отдохнуть наметил у колодца. Скамейка не скамейка, а присесть можно. Чистили они с Козлом колодец, да осадить, как задумали, не получилось, вот лишний венец с тех пор и лежит около сруба, бабы вёдра ставят, и посидеть опять же.
А ремонтировали они его лет пять, или уже все семь назад. Вода начала уходить давно, как только дачники начали сушить себе болото, а к тому лету осталась одна грязь. Собрали они с Козлом по пятнадцать рублей с дыма, принялись углублять. Но не так-то просто работать, когда деньги есть. Бросили углублять, пошли в сельпо. Два дня пили, четыре, неделю… Бабы спохватились, да не нанимать же заново! Отыскали приятелей у Козлова в бане, поколотили немного, приволокли к журавлю. Пришлось пообещать в два дня кончить. Козёл тут же влез в болотные сапоги и в колодец, бабы опять поверили и разошлись, а Антон сразу в сельпо. Наверх ведро с жижей – вниз полбутылки бормоты. Потом Антон залез, а Козёл за вином, да и пропал. Пьяного Антона затянуло ледяным плывуном по пояс. Чуть живого его вытащили чужие мужики, напиться хотели. Ревматизма и радикулита, как пророчили, не случилось, и почки выдержали, а вот мужской силы с того разу не стало.
За спиной звякнули вёдра. Оглянулся: Серёжи-верующего внучка, та, с которой он шёл по слободке. И опять началось наваждение – ведь в первый раз видит её так близко, а узнал, узнал! Узнал, как ходит, как губку поджимает. Сейчас вёдра поставит и обеими руками откинет назад волосы… Затаился. Девушка, девочка, поставила около сруба вёдра и, помедлив мгновение, подняла обе руки, так знакомо выставив вперёд локти, запрокинула голову и отбросила назад волосы. Антон старался не смотреть, задыхался – вот, вот откроется, наконец, из его слепоты дверь и он узнает себя… Не открылась, хотя так ясно услышал, как ударило в неё – с той стороны, от света – лёгкое крыло. Очнулся, стукнул слабыми кулаками по коленям, встал.
– Давай, помогу…
Пустое ведро опустить сил хватило, полное поднять не смог, журавль не в помощь – на втором перехвате скрутило, ведро плюхнулось обратно… Не распрямляясь, побрёл к своей калитке.
В доме пахло кислятиной, и Антон никак не мог отделаться от этого запаха. Искал расчёску – загорелось вдруг причесаться! – изругался, но не нашёл. Протёр рукавом зеркало – из-за ржавых разводов смотрел на него худой небритый человек. Антон понял, что тот, в зеркале, боится, очень хочет, но боится спросить: «Ты – кто?»
Чтобы выбить из головы зеркального страшилу и острые девчоночьи локти, и волосы, принялся крутить ручку приёмника. Домашние, свои хрипы неохотно пропускали слова и звуки из другого мира, но те всё же прорывались: кого-то запустили, кто-то куда-то поехал, кто-то только собирается и обещает, где-то собрали больше, чем в прошлом году, какая-то ерунда творится в неведомой Танзании, на что-то жалуется обворованная эфиром скрипка, и между всем этим вонзаются иностранные фразы. «Тоже ведь – живут… – обиделся Антон на радио, – куда ни крутни.» Хотел уже выключить, но, как уже не в первый раз за сегодняшний день, споткнулся о лёгкий голос под щемящую гармошку: «Две девчонки танцуют, танцуют на палубе…» и чуть не захлебнулся собственным вздохом: вспомнил! Секунда, две, три… Что? Что?! Пароход, река, высокие таёжные берега… Да не был он никогда в жизни дальше районной больницы и колонии в соседней губернии! Или не берега, нет! Пшеничная стерня, до самой рощи без дороги, волосы – такие мягкие, густые – волнами… Что!? Канули три секунды… «А река бежит, зовёт куда-то, плывут сибирские девчата навстречу утренней заре – по Ангаре, по Ангаре…» Распахнулось, окатило, ослепило и – захлопнулось, и снова – темно. Только как будто глаза больно от не увиденного света, или не глаза… Попробовал напеть сам: «Две девчонки танцуют, танцуют…» – вышло коряво, не похоже, всё враз забылось, разлетелось, как вспугнутая железным скрежетом стайка лёгких птичек…
«Что же так воняет?» – потягивая носом и морщась, Антон обошёл дом, но нигде не обнаружил ни гнилого, ни кислого – нечему было в доме гнить и киснуть. И зло не на ком сорвать. Нужный все-таки человек в доме – жена. Попади она сейчас под руку! Длинно выругался в её адрес, закончив уже привычным: «Мужику подыхать, а она, стерва!..» Стало вспоминаться, как привёл её в этот дом в первый раз, сразу с приданым, богатым – чёрной комолой коровой, и как соседи, особенно старостиха, всё норовили заглянуть и хихикнуть, как он напился в тот день с братьями – вроде свадьба получилась, и за соседские же смешки побил молодую жену, обозвав её тогда безрогой шалавой, и как обидное это прозвище прилипло к ней навсегда, оттого ли, что было самым первым словом в мужнином доме, а первое слово липучее, оттого ли, что её комолой корове слободка сразу дала новое – хозяйкино имя – Валя, а хозяйке, стало быть, приклеили коровью комолость, или оттого, что точно и ёмко отражало суть их супружеских отношений: она от пьяного мужа гуляла постоянно, он же ей так ни разу и не изменил. «Пить некогда, а уж по бабам!..» – отсмеивался он от дружков, и ему, смеясь в ответ, верили – никто не знал его трагедий. Про последние пять (или семь?) лет, как обморозился в колодце, что и говорить, но ещё раньше произошёл с ним случай, стоивший ему – в отношении – женского вопроса – двух колодцев.
Позвали его знакомые плотники на халтуру в недальний отход. Положили, как мастеру, две сотни в неделю и харчи, то есть выпивку, поехал. Свои ребята, деревенские, а с топором – как городские, рубят только в лапу, замок, самый простой, им уж не под силу, а с запотёмками – не то, что не умеют, даже не видели, только что слышали. Похмелились и целый день катали брёвна, шкурили, тесали, рубили, правда, с обеда начали серьёзно раскручивать по стаканчику и к темноте все четверо на ногах еле держались, но додумались-таки поехать в «одно место», где за пять рублей с брата можно получить столичное удовольствие, хоть десять человек приезжай, пропустит. За стакан взяли на ночь в прокат трактор и понесла нелёгкая. Как-то договорились. Ополоумевшему Антону выпало по жребию третьим, но, когда на тёмное крыльцо вышел первый и принялся цокать от удовольствия зубом, хвалить медовую хозяйку, называя её всяко – и по имени, Антон, сколько можно было в таком состоянии, начал осматриваться и… быстро трезветь. Он узнал дом, в котором перебирали крышу!.. Духу у него хватило только убежать, заглушая себя руганью и слезами, и всё равно было нестерпимо горько и больно, гораздо горше и больнее, чем когда первый раз узнал об измене жены. В ту ночь из гадко творящейся вокруг него жизни выделилась особенная мерзость и надолго, до самого колодца, наглухо задавила все немногие взбрыки выживших в винных разливах инстинктов. Гулящая жена осталась единственным существом, допущенным к нему через этот тошнотворный полог с другой стороны человеческого рода.
…А теперь исчезла и она. Не сказала даже – куда, стерва. Мучается, наверное, гадает: а вдруг помер, вдруг уже… Это ж надо на себя такое взять! Неужели так стало невмоготу? Ведь не позвали же её! Кому она могла приглянуться, шалава безрогая…
Неожиданно поймал себя на том, что не помнит её лица. «Этого не хватало!» Выдернул из комода ящик, где фотографии, порылся. Отцовских – военных, довоенных, незнакомой родни – полно, а их с женой ни одной карточки. Вот отец, вот мать… молодая; вот жёлтая, узорчатая – бабка, наверное… А он-то где? Жена его? Как и не жили… «Я – ладно, урод, так ведь и баба…»
Впервые за много лет жену ему стало жалко. Через обиду Антон подумал о ней хорошо, и неожиданно самому стало хорошо, как давно уже не было, может быть – никогда. Опять подступилась к нему какая-то истина, но опять не открылась до конца. «Затем и ушла, чтоб тебе хоть перед смертью…» – додумать не смог, потёр только шершавыми ладонями защипавшие глаза и поспешил из дома в огород.
В больнице всё лето мёрзли. Что ни день – дождь, прохладно. Деревенские сетовали – погниют огурцы! И погнили бы, если бы не эти ясные дни в августе. Ясные дни, тёплые ночи. Грядки словно закипели зеленью, плети поползли в междугрядья, стали цепляться друг за друга, кидаться на забор, скручиваться, путаться, выливать свою скопившуюся и чуть не пропавшую силу в десятки и десятки крутобоких красавцев. «Не поливал, не полол… растут!» Огурцов было много, больших и маленьких, а когда нагнулся и раздвинул зелёные заросли, даже присвистнул: ого! Давно не видел такого урожая. «Чем меньше трогаешь, тем, может быть, лучше? – подумал Антон и сам же себя обсмеял, – нет, брат, тепло нужно, тепло! Чтоб и с неба, и от земли…» Он сидел на корточках и искренне удивлялся и радовался этому огуречному торжеству: «Из зёрнышка, из сухого семечка – и такая прёт сила. Жизнь!»
Послышались звонкие детские голоса – возвращались «дачники». Маленькая девочка теперь сидела у отца на шее, одной рукой держась за лоб, чтоб не свалиться, другой играла в волосах. Старшая весело бежала впереди матери по тропинке. Уже сейчас они не были похожи. Антон выбрал четыре самых ладных огурчика, просунул рук между штакетин.
– На-ка, малышка!
Девочка взвизгнула и спряталась за мать.
«Как зверь, небось, за решёткой. Только детей пугать», – подумал Антон.
– Возьми, возьми, доченька, – пожалела молодая мамаша Антона и подтолкнула девочку, – вот… – и шёпотом, – что надо сказать?
– Спасибо, дедушка… – прозвенела девочка.
Антон долго смотрел им вслед, по жёсткой недельной щетине катились непонятные тёплые слёзы…
А вечером сделалось худо. Безвольно лёжа на примолкшей кровати, одетый, с ослабленным ремешком на впалом животе, пересиливая тупую, растущую боль, горькой тоской возвращался в прожитый день: открылась, а прочитать уже некогда! И скулил, больше от этой тоски, чем от боли – боль терпеть было легче…
Прошло несколько часов, и оба мучителя обрели полную власть над человеком. Он уже не скулил, а долго, прерывисто, в такт частому дыханию, выл. Наступил момент, когда разгоревшаяся в животе боль, жгла уже всё тело: грудь, голову, огонь её вытекал в руки, ноги и остро ударял в кончики пальцев, а из всех мыслей осталась только одна: как бы всё это кончить.
Придумал, решился и уже вытаскивал из-под себя ремень, попутно соображая, где бы повыше закрепит его, а боль стала отступать. Прислушался к себе – не показалось ли? Нет, с каждой секундой становилось легче. Криво усмехнулся, догадался: боль тоже была живая и ей тоже не хотелось умирать вот так, разом, от самой себя. «То-то же!» – зло прохрипел Антон. Победив, он решил, что здесь, на самом краю можно уже ничего не бояться. Как непросто открывались истины, как досадно было, что главные, самые сильные из них видны только отсюда, с самого края и нести их можно было только в эту пустую бездну, больше некуда. И тут же почувствовал, что из страшных, эта истина всё же не самая страшная, потому что её можно было и не нести, а вот так, ухватив, просто стоять на краешке и пугать ею своего вечного врага, что за ней есть ещё одна, последняя, которая открывается вместе с тем шагом…
А пока слушать можно было и не только внутрь – там устанавливался покой – но и «наружу». Слушал, но не мог распознать часов, хотя они исправно топали по темноте дома, не слышал и заливистого перелая соседских псов (кто-то чужой прошёл по слободке), не услышал возни и урчанья вернувшегося кота, а услышал упорную работу древоточцев: сразу с трёх сторон доносились частые короткие поскрёбывания. «Грызут, живут!.. – проговорил сдавленным шёпотом и добавил ревниво, – паразиты». Рискнул встать – кровать пропела свой скрипучий «подъём» и стихла. Стихли и древоточцы, но, переждав немного, заскребли снова. Его уже не станет в этом доме, его доме, а они всё будут грызть, грызть… жить. Вышел, стуча каменными пятками по полу, на крыльцо. Теплынь! Вздохнул. Ну, зачем, зачем теплынь!? Был бы дождь, холод… осень на носу, а тут… И ночь была как живая: пенье насекомых, крики и писки, жужжанье и шелест – как в мае. «Соловьёв только не хватает, да и…» – запнулся, не мог понять, вспомнить, чего ещё не хватало для ночного майского благоухания. Чего-то ведь не хватало.
Звёзд было – полное небо, тоже, как живые, толпились над головой, крупные, мелкие, и до самых звёзд – тепло и ясно. «Дурьё, повысыпало!..» Усмехнулся горько – им было не до него, это почувствовать было нетрудно, а вместе с этим, с их наглой вечностью так ничтожно, жалко представала одинокость, конечность, кончаемость своя. «У-у-у-у…» – снова заскулил Антон и, раскачиваясь, опустился на ступеньки крыльца.
Он проснулся до рассвета, от необычного кошмарного сна. Снилось – страшно и долго – что он уж прожил свою жизнь и сделался стариком, собравшимся умирать. Даже пить захотелось от этой жути. Легко встал, тряхнул головой, прогоняя видение, сладко зевнул и потянулся. За окном только-только брезжило. Мало спал – загулялись вчера с Ленкой – только этот сон и успел увидеть, а бодрость уже вернулась. «За грибами, что ли, сгонять, пока все дрыхнут? Или уж поспать часок, а потом перед домом покосить, мать просила для кроликов отавы…» В то лето он вошёл во вкус косьбы: раньше как-то не получалось, а освоил – и каждое утро теперь тянуло покосить. Тихо, а ты бруском – вжик, вжик! – и от церкви ещё отлетит-вернётся, такое же, но уже другое, теплее, гуще – вжик, вжик. Что за звук! «Покошу! А за грибами пусть Олька с пацанами, как встанут»