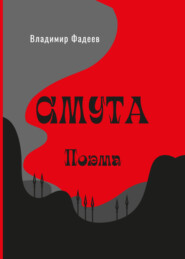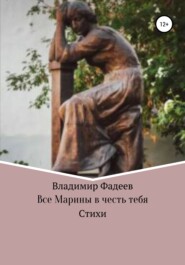По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ясные дни в августе. Повести 80-х
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ясные дни в августе. Повести 80-х
Владимир Алексеевич Фадеев
Отечественная литература конца века не успела дать ответа на вопрос, что же случилось с нашим человеком, так легко сдавшим рвачам и недругам завоевания трёх предыдущих поколений, не успела, захлебнувшись в окололитературной и, особенно, публицистической вакханалии «огоньков» и «московских комсомольцев». Голоса русских патриотов тонули, а те немногие, которые были у слышаны, тут же искажались и шельмовались. В предлагаемых вам произведениях сделана попытка восполнения этого пробела – они написаны «с натуры», в 80-е годы XX века, и объект пристального внимания автора именно русский человек в стадии превращения из гордого советского в жалкого и беспомощного совка.
Владимир Фадеев
Ясные дни в августе. Повести 80-х
Ясные дни в августе
Антон вытер пучком травы косу, достал брусочек из глубокого кармана брюк, привычно провёл два раза по лезвию и… как будто что-то споткнулось в нём о раздавшиеся звуки. Нет, они не были особенными – вжиканье камня по тонкому металлу, как собственный голос, знакомо, – и сегодня с утра уже звучало, и вчера, и позавчера, и год назад, и десять… а об эти два споткнулся. Нахмурился. Непонятное чувство не проходило. Хотелось воскликнуть: «Вот! Так ударяет брусок о косу!» Хотелось обрадоваться этому узнаванию – эва, как посветлело, посвежело отчего-то на сердце, словно опахнуло его, взопревшее, задымившее от долгой зряшней усталости лёгким ветерком, и сразу сладко защемило далёким воспоминанием, но – ничего не удалось в нём подсмотреть и подслушать, только это: вжик, вжик… Целое мгновенье пытался сообразить, как же это можно узнать, вспомнить то, что всегда тебе было известно и никогда не забывалось, – пять минут назад он гладил косу тем же брусочком, не столько, правда, гладил, сколько отдыхал, прячась, не сознаваясь самому себе, что отдыхает. А вот звенькнуло – и узнал… Что?
Озаренье было мимолётно. Не набрав силы, оно уже рассеялось, как ни старался Антон остановить его. Выскользнуло. Переждав немного – не вернётся ли? – сперва осторожно, потом излишне резко, начал править. Вслух ругался, а втайне от себя прислушивался. К звуку, к себе. Иногда казалось, что стоит на краешке, шагнёт, а там… Что? Что? Звук, цвет, вкус, запах, – равные только самим себе, не затасканные, не заляпанные тысячью грубых повторений, первые в ряду меняющихся искажающихся подобий, истинные. Шагал… и уходил всё дальше и дальше от этой далёкой истины, всё ближе и ближе к себе нынешнему: косишь – значит, правишь, а раз правишь – брусок о косу вжик, вжик. И всё…
Стоял посреди лужка, оглядывался украдкой, – не видел ли кто его глупого замешательства? Слободка была пуста. Теперь совсем не мог понять внезапной лёгкой радости, да и не хотел верить, что она была, что вообще бывает радость на свете: чем меньше её, тем проще будет пройти через последние свои дни. Брусок в руке подрагивал. Антон сжал его, как мог крепко, но быстро очень обмяк и выронил.
Как назло, последние дни выдались тёплые и ясные…
Когда из районной больницы его выписали в первый раз, в самом начале апреля, никаких изменений в окружающем его мире он не заметил. Разве что наступила весна, но она и так бы наступила, лежи он в больнице или не лежи, время идёт и идёт – тогда Антон не сомневался – только в одну сторону: была зима – стала весна, было когда-то тридцать лет – стало почти сорок. Ничего не изменилось, а раз ничего не изменилось вокруг, то и ему ничего менять не пристало, подумаешь, требухи поубавили! Даже здорово – со второй группой ни одна фуражка не страшна, знать бы – отрезать раньше какую-нибудь селезёнку, только б не лезли с тунеядством! Нашли тунеядца! Он один домов поставил больше, чем всё районное начальство вместе взятое, со штатскими. Не положено!.. Как будто дачники не люди… Хотя, конечно, дрянь народ. Но топор стал потяжелей, да в дыхалке вьюшка стала быстро закрываться, десять раз тюкнешь – кури. Зато пьянеть легко – чем не выгода? До кромсанья с двух бутылок не сыт, а после – с двух лафетничков веселье. Ох, всеселье!.. Так крепко и здоровым не запивал. Говорил врач – всё, теперь нельзя, а когда они, врачи, говорили, что можно? Тогда получилось скоро: два дня с топором, две недели со стаканом, и в ночь перед пасхой приволокли его с сочащейся брюшиной домой богомолки: три старушки и, видно, сам Господь с ними, с крестного хода возвращались, узнали своего, слободского, дотянули до крыльца. И нежно ведь тянули, где им грубеть в такой день! – а всё же оборвалось что-то. Или пришили плохо, или и впрямь те нитки вина не держат…
Ещё четыре месяца лежал, хвалился перед докторами нутром, мог бы и дальше хвалиться, да вывели его за ворота, иди, говорят, тебе уже всё равно, где…
Дома три дня не поднимался, пил рассол с прошлогодней брусники, хоть опять предупреждали, чтоб не сладко, не солёно, да предупреждать – одно, а когда в доме больше нет ничего, будет тебе и сладко, и солоно… Потом два дня яйца собирал по двору, варёные не лезли, а сырьём глотались. Окреп малость, но топора так и не осилил, а вот с косой сладил, неожиданно оказалась она для безбрюхого сподручней. Пока лечился, лужайку перед домом кто-то исправно окашивал, а теперь отава поднялась густо, звала косу. Он её и понёс. Первый день только и сделал, что донёс и, отдышавшись, понёс обратно в дом; второй день раз десять махнул, третий, с двумя перекурами целый ряд вдоль забора прошёлся, в четвёртый – два… Хотел уже обрадоваться, что прибывает силы, напрасно очкарики в халатах каркали, даже подумал – не попробовать ли винца? На радостях? – как вдруг через внезапную жгучую боль услышал внутри себя и другую музыку, совсем не такую весёлую. Почувствовал, что сила не прибывает, а просто в последний раз собирается вся вместе, чтобы отслужить своё до конца, – сколько её есть, на сколько хватит. Почувствовал не болью, не горькой рвотой, не животом своим, выжженным и вырезанным, а чем-то странным, никогда в себе не подозреваемым и как будто совсем не имеющим отношения к его несчастной плоти.
Вчера, не успев вовремя спрятаться от чужой радости – от тёплой, широко ткущей в свою залесную страну ночи, по-покойницки тихо улёгшись на несвежую кровать, он ясно увидел, как раздвоилось время: главный поток, по которому он до этого плыл, неудержимо покатил куда-то дальше, а его маленькая струйка отделилась в особый ручеёк, и тот стал сохнуть в песчаной ложбинке прямо под ногами. Когда задремал, увидел то же самое, но по-другому: его время отвалилось от большой машины колёсиком и само по себе закрутилось всё быстрей и быстрей – так казалось со стороны, а изнутри он опять увидел ясно: оно угасало, останавливалось. Так катящаяся по столу монета, потеряв скорость, завалится на бок и, всё убыстряя и убыстряя обороты до последнего короткого жужжащего вскрика, затихает, возвращаясь к своей начальной стихии – лежать плашмя.
«Вот и раскручиваюсь, – сообразил сквозь сон Антон, – возвращаюсь…» На мгновение смяла его тупая боль, а потом сразу стало легко, как никогда: в странном бреду он отслоился сам от себя, облачком поднялся через темноту на печь и без всякого сострадания принялся рассматривать неподвижно лежащего внизу худого грязного человека, в котором уже не было жизни и который секундой назад был – он. «Угораздило же вляпаться в такую гнилость!» – подумалось с печи. Ни с того, ни с сего, вздыбился спавший тут же, на печи, кот, с визгом бросился вниз, на грудь хозяину, но неживого хозяина испугался ещё больше и, отчаянно оттолкнувшись, одним махом перелетел через перегородку. А грудь лежащего судорожно задёргалась, он захрипел, потом застонал и стонал долго, то отрывисто и громко, то протяжно и жалобно; перед самым рассветом дыхание установилось, выступила испарина – тут бы и ему и поспать, но он пробудился.
Не шевелясь, не поворачивая головы, ощупывал темноту глазами, словно пытаясь догадаться, где он находится; догадался и тут же насторожился. В этом узнанном месте, сделавшимся сразу знакомым до самой мелкой щербинки в печных кирпичах, до самого тихого скрипа половиц услышалось и что-то новое, монотонное, навязчивое, неслышимое никогда ранее: кто-то неторопливым мелким шагом шёл из одного угла дома в другой и никак не мог дойти – топ-топ, топ-топ, топ-топ…
Вот те на! Он никогда не слышал, как тикают часы! Вот эти, его часы. Они висели здесь всегда – а он их не слышал! Или – нет! Нет – никогда здесь не было никаких часов. Ну, конечно! Если бы в доме были настенные часы, то он бы из заводил, он бы вспомнить, какие они, он бы узнал их голос, а не этот топоток из одного края темноты в другой: топ-топ, топ-топ. Или – да, да! Были какие-то часы!.. Ведь это на него ругалась мать: «Опять раскачал гири! Ещё раз увижу!..» А мать? Какая она была тогда? Старая, как недавно? Или не очень, как… сколько же лет назад? Как это – не очень старая мать? Он же отлично помнит – старая, руки сухие и теплые… А кто же та женщина на портрете рядом с молодым отцом? Другая, из другой жизни? Отец таким и остался, не слишком перестарел свой настенный лик, а мать… и прожила всего на двенадцать лет больше и стала… нет, она всегда была такой, да и что за белиберда – молодая мать… Как это? Как это молодая мать кормит его, Антона, которому без малого сорок лет? Ведь мне же сорок? Сорок. А кто тогда ругался: «Ещё раз раскачаешь!..» Топ-топ, топ-топ, топ-топ…
Повернулся на бок – спать, спать!.. Но вместо сна из плесневелого мрака стали вырастать воспоминания, в который увиделось неожиданно радостное, почти восторженное движение около той стены: повесили часы. Новые часы! Оба младших братишки, старшая сестра, довольный, но сдержанный отец, мать, та, другая, с карточки, – все наперебой что-то говорили, наверное, хвалили, шутили, а потом встали полукругом, как перед ожившей иконой и слушали вот это: топ-топ, топ-топ, топ-топ. Только тогда, единственный раз и прошёл бестелесный робкий мальчуган со звонкой походкой – топ-топ… и больше этих шагов Антон не слышал. Всё. Приставал к гирям – было, кому ж ещё могла кричать мать из-за перегородки: «Ещё раз раскачаешь!..» Тридцать лет их не заводили, а они вдруг пошли. И разбудили – так бы не проснулся! Гм… надо же, стояли полукругом и слушали. Только не вчера ли это было? Вчера – тридцать лет назад? А не вздор ли все эти тридцать лет? Не сон ли?
В голове Антона помутилось, мысли загустели, не хотели двигаться к тому краю, за которым или выход, или тьма. Со стоном перевернулся на другой бок, сосущая, при поворотах – жгущая боль вернула в реальность. Ерунда! Вчера! Вчера он косил вдоль забора, без желудка и половины кишок… А те тридцать лет? Топ-топ, топ-топ, топ-топ…
Не выдержал, помогая руками, поднялся, неровно прошлёпал до дальней стены, надеясь, встав перед часами, как давно в детстве, всё сразу вспомнить и узнать, но, когда подошёл и всё узнал – и часы, и гирьки в виде еловых шишек, и тиканье, настолько привычное, что неслышное то всё сразу забыл. Прошлое, прожитое заняло свое место и приняло свою форму, – извилистого заросшего оврага, по дну которого должен бы течь ручеёк, а может и течёт, только не видно его за камнями и дикой травой.
А проснувшись утром, незаметно для себя, как и все тридцать лет, тронул гирьки.
Ещё через полчаса споткнулся уже о другие звуки: вжик, вжик…
Он даже не стал поднимать обороненного бруска, хотел отшвырнуть и косу, как будто это она виновата в исчезновении наваждения, непонятного, но такого свежего и прозрачного – смотри и радуйся!.. Ан нет – пропало. Не отшвырнул, побоялся – увидят. Потащил швырять во двор, не поленился, прошёл до самого дальнего угла, наглухо заросшего высоченной крапивой и лопухами, куда уже много лет отваживались залезать только куры да старый кот со своими блудливыми приятелями. Размахнулся и… вдруг обратил внимание на невысоко торчащий из крапивы столб, чуть наклонившийся, с изъеденной ржавчиной и еле державшейся на трухлявом конце его скобой. Ну и что – столб? Прислушался к недобрым звукам в себе и вспомнил: это же были качели! Качели! Ясно, как сейчас, здесь, услышал своё собственное хныканье, визг, когда отец норовил качнуть его повыше. Он, старший, высоты боялся, над ним смеялись, он обижался и плакал, а над ним смеялись ещё сильнее. И сестра, и особенно противно – эти, голопузые… Неужели всё было здесь? В этих крапивных джунглях? А где же берёза? Рядом с качелями росла берёза!
Антон положил косу и полез в крапиву искать пенёк, но скоро оставил это занятие: ровной земли под лопухами и крапивой не было – бугрился, местами проминаясь, местами пружиня, покрытый посеревшими остатками бывших сорняков полуметровый слой хлама. В одну дыру Антон провалился и, вытащив ногу, рассмотрел по краю ямы слой ушедшей назад жизни: гнилые тряпки, разбитый чугунок, спутанная проволока и – бутылки, бутылки. Была берёза и – нету. Даже пенька, даже следа…
Вылезая, обстрекался. Выругал себя за всю эту лирику, огляделся – обматерить бы кого! Самая утеха для бессильного, да нет ни одного живого человека во всём доме. Жена и та куда-то канула. Он вторую неделю как вернулся, а её нет. Правда, когда в последний раз в больницу приезжала, говорила, что уедет, но он её и слушать не хотел, потому что не до глупостей ему было, помирать всё-таки собрался, а она говорила ерунду, просто, как соседскую сплетню, рассказала, что бычка свела, кроликов продала, остались куры да кот, пусть живут. Рассказала, что огород засадила картошкой и огурцами, чтобы Антон не сдох раньше смерти с голоду. Так и сказала – раньше смерти. Он-то знал – блажит, не может быть такого у людей: мужику на тот свет собираться, а баба – в бега. Уж помер бы, потом и ступай с богом… хотя, что уж ступай? Живи, твой дом… Так – нет же её вторую неделю!
Он и без неё дотянет, в больницах за полгода приучился без помощи, но странно: жил, жил человек рядом с тобой, и раз – нету. Не умерла, не развелась. Жена… Жена… Жена… Женаженаженажена… Да, был человек рядом, звали его жена. Когда-то и спала с тобой. Бранила. Плакала по тебе, чаще, правда, от тебя, бывало – жалела. Высохла тоже, почернела – и лицом, и руками. А ведь не сказать, чтоб пила сильно, так… А звали её как? Гм… Не рехнулся часом? Забыл, как жену зовут… звали! Но – как? Как?
Вспомнил по корове: тьфу ты, конечно – Валя.
Антон почесал затылок, пожал плечами. Валя? Чтоб отогнать неизвестно откуда взявшиеся сомнения, произнёс вслух: «Ва-ля» и только после этого с собой согласился, хотя и не мог связать это имя с жившей с ним женщиной, выходила не жена, кто-то другой. И зачем этой Вале было мучиться у него в жёнах? А может всё-таки её не было? Была, была… Просто вместо него она кого-то другого имела ввиду. И готовила для этого другого, и стирала, и даже – когда-то – как это назвать попроще? – любила, что ли, того, другого… А тут оказалось, что это не другой, а – он. Убежишь.
«Но я-то, я-то как сумел всех объегорить? У меня ведь и мысли не было. Всю жизнь жил, как я, а оказался не я. Кто же это мог быть? Почему я его не замечал? И он ведь тут жил, на качелях маленький качался, его мать с отцом на фотографии… А откуда здесь тогда я?»
Антон почувствовал, что запутался, но ещё сильнеё почувствовал, что в чём-то главном – прав. «Теперь вот я ещё умру дней, может, через пять, или три, или – завтра, – продолжал он размышлять, – куда тот денется? Тоже умрёт?» Того ему почему-то стало ещё жальче, чем себя, и он неожиданно заплакал – слёзы были теперь близко. Не хотелось умирать, не то, что в детстве: «Вот умру!..» И не то, что четыре месяца назад, когда уговаривали: «Антон, хватит тебе, окочуришься!» – а Антон легко отмахивался: «Давно пора!» – и смеялся. А сейчас плакал, но не себя было жалко, того, другого. Хотелось как-то перед ним оправдаться.
Вспомнилось, как однажды выпивали на могилках – церковное кладбище рядом, на могилках выпивать одно удовольствие! Хорошо выпивали, с чувством, да так на могилках и уснули. Проснулся Антон один, остальные, кто как мог, расползлись. Один да не совсем – стоит над ним поп, местный батюшка.
– И что ты тут делаешь? – спросил печально.
Антону тоже было печально, даже хуже. Огрызнулся.
– Помирать собрался.
– Хорошее дело, – вздохнул батюшка и отошёл.
Тогда Антон только чертыхнулся вслед, а теперь, ожидая безносую со дня на день, захотелось иначе услышать давнее поповское: а вдруг он без всякого умысла? Вдруг, и впрямь – «дело хорошее?» Зацепился за робкую надежду. Доползти, что ли до попа, поговорить? А может, не так всё безнадёжно и темно, не зря же вокруг столько старух вьётся?
Сравнение себя со старухами не понравилось. Нет, ну его к чёрту, и без попа уж как-нибудь…
Солнце поднялось уже над слободкой – опять будет ясно и жарко! Что за наказанье, умирать в такую погоду! Нет, чтоб дождь, слякоть, грязища непролазная, крыша бы потекла, огород бы сгнил – только и помирай! Нет, распогодилось напоследок. Умрёшь вот в такую благодать и будешь всю смерть завидовать.
Ушёл в дом, прочь с солнца, пристроился смотреть на распаляющийся день из окошка. Раньше в хорошую погоду всегда бывал пьян. Самая работа – самое вино. Погода для работы, работа для вина, а уж пьяному всё едино – солнце, слякоть… Вздохнул. Почему вышел один позор да беда из его умения рубить дома? Всем он вышел чужой: и для колхоза своего несчастного, и для милиции, и для сельчан, и даже для самих дачников, кому строил. Замок навесит хозяин – дружба кончилась. Хотя какая дружба? Налей да похмели, дай пятёрку да заплати вперёд, а ты – строй лучше, да ещё чуть-чуть получше, да ещё побыстрей, да не так, как ты знаешь и умеешь, а как я хочу. «Дрянь народ… всю жизнь на дачника отработал. Они на веранде чай пьют, а ты без двух дней покойник, – поёжился от такого открытия, – что ж ты раньше думал? Что, что… Как бы похмелиться – вся дума».
По слободке проехал тогдашний его компаньон Козлов, Козёл. Из сумки на багажнике торчал обух – на болото. И не посмотрел в его сторону: раз не пьёшь, раз не помощник – уже и не товарищ. Говорят, и у него неладно, жена от рака умирает, тоже вот-вот. «Встретимся ведь там, – подумал Антон, наведаться, что ли…» Казалось, им есть о чём поговорить, будто вместе собрались ехать далеко, как бы чего не забыть.
Туда же, на дачи, прошли «чужие» – молодые папаша с мамашей и с ними две дочки, одна у отца на шее, другая, совсем маленькая – у матери в стульчике-коляске. «Пока дачу строят, в слободке дом снимают», – сообразил Антон. Одна девочка, старшая, заливалась звонким смехом, младшая, в колясочке, так же звонко плакала.
По тропке вдоль дальнего ряда домов прошёл с внучкой Серёжа-верующий. Борода, схваченные ободком волосы – ни за что ему не дашь шестьдесят. Взяла бы под ручку – были б ровней. Из всего мужского населения слободки он один открыто верил в бога, соблюдал посты, ходил в церковь, оттого и звали его так, не приставляя к имени ни «дядя», ни добавляя отчества. Почему-то с ним особенно дружил отец, в гости ходить было не принято, но помогали друг другу всегда. Наверное, только Серёжа-верующий и пытался отвадить Антона от вина, когда на другой год после смерти отца, тот, почуяв волю и безнаказанность, повадился относить в магазин не такой уж тяжёлый халтурный заработок. Антон слушал его, но делал по-своему. И в столярку к Серёже не стал устраиваться – на дачах вольнее и богаче: работники на болоте были нарасхват. А вместо армии Антон за участие в обыкновенной драке, но как лицо «без определённого рода занятий», рубил дома под присмотром очень строгих дяденек в соседней Владимирской области. Серёжа-верующий и после этого не отступался, но Антон стал не тот: откровенно отмахивался, гнал бородача со двора и даже куражился над ним, особенно если был уже навеселе и в компании: «Вот я сейчас выпью стакан, и если бог есть, пусть он меня тут же покарает, пусть! – и пил под восторженные улюлюканья до дна, задирал голову и плевал в небо, – ну, где он там?»
У Серёжи-верующего было пятеро детей. Четырёх дочек выдал замуж в город, по праздникам они семьями приезжали, все на машинах. Пятый, младший сын, со своей семьёй жил в отцовском доме и вместе со стариками вёл хозяйство. В слободке, да и во всём селе они считались богачами: сад, большой огород, скотина, лошадь, пруд, даже свой трактор. Сельчане и любили Серёжу, потому что надо же кого-то любить, а выбирать из опускавшихся и редевших ближних становилось всё труднее, и – не любили: за «богатство», из зависти на «путных» детей, на забытый в их семьях мир, за то, что не пил и вообще – был ближе к богу, не понятному уже никому, чем к миру, к людям, пьяным и несчастным.
Антон долго смотрел на уходящего Серёжу-верующего, даже перешёл к другому окошку – ещё что-то важное просилось в воспоминание, но дед с внучкой вошли в свою калитку и исчезли сразу за высокими белыми цветами. Не вспомнилось… сдавило только в груди, так же цепко, как и в животе.
«А что и в самом деле – к попу?»
Засуетился: пойти – не пойти? С одной стороны – наплевать на всех попов, лечь и умереть, перестанет в брюхе жечь, да и ладно, а только лишь натыкался на смерть, начинало подташнивать и хотелось побыстрей узнать, может есть в ней какой секрет? Может, есть какой секрет и в пока ещё держащейся в нём жизни? Ведь наверняка и поп, и Серёжа-верующий знает о ней, чего не знает он, чего он так и не узнал, хотя только за этим и родился на этот свет, а на том свете – пусть там и хорошо, – если поп не врёт, конечно, – ничего уже не узнать, и, значит, если ты живёшь и этого главного не знаешь, то, считай, что и не живёшь, а если узнаешь, то даже если… Тут он запутался и тем более решил идти к попу – за ясностью.
С крыльца его словно в грудь толкнуло назад: на икону хоть посмотреть, к попу всё-таки собрался. Воротился – иконки в углу не было. Опустился на шаткий табурет, поскрёб лоб. Выходит, не сон. Жена кричала: «побоялся бы бога, скотина!» – а он в ответ на это выдрал из угла икону, выскочил в сени и запустил её на чердак. Пьяный, конечно.
На чердаке он не был давно, с прошлогодней зимы, когда искал здесь что продать неожиданным старьёвщикам из Москвы. Продал за пятнадцать рублей распаявшийся мятый самовар и льняную чесалку – отдельно, за небольшой пузырёк спирта. Больше ничего москвичам не приглянулось, и Антон, помнится, чертыхнулся в адрес предков: столько их на свете копошилось, а одного Антона один раз досыта напоить не сумели, эх!..
На середине лестницы в кишках резануло и заклёкало. Антон замычал от боли и подумал, что если свалится вниз, то больше уж не встанет. Наверху огляделся: куда могла полететь боженька? Полез через груды старья к дальней застрехе. Поднявшаяся пыль обозначила невидимый до этого солнечный лучик. Усмехнулся: пока пыли нет и света не видно. Иконы не было. «Ладно, и такого примет…» Хотел привычно выругаться в адрес попа, но сдержался. Уселся на край фанерного ящика, огляделся теперь по-другому: сколько же здесь всего! Сундуки, плоские деревянные чемоданы с железными уголками, огромный светлый чугун, в нём – скобы, кольца, петли, костыли… Старый жернов, связка обручей, навалом конская сбруя, мятые полдёнки, тележное колесо, инструменты, непонятные даже ему, едва ли не первому плотнику на селе и болоте, и почти в полчердака, тоже навалом, части большой деревянной машины. На всём лежало столько пыли, что это была уже и не пыль, а новая естественная оболочка, мёртвая кожа этих никому, даже тем чудакам из столицы, не нужных мёртвых вещей.
В солнечном луче лениво плавали бестелесые пылинки: одни возникали из ниоткуда, освещались, другие соскальзывали с ясного жёлоба, исчезали, словно прекращали своё бытие, словно их и не было никогда и нигде. Какие-то новые, грустные мысли отразились на лице человека, когда он наблюдал рождённую им круговерть самого ничтожного из существующего на земле – пыли. Он перевёл потяжелевший взгляд на громоздившиеся вокруг вещи, провёл ладонью по шершавому попробовал разогнуть ржавую скобу, не осилил. Сокрушённо покачал головой – как они похожи ненужностью своей, и как всё-таки непохожи: жернов этот ещё век пролежит, и не где-нибудь, а на родном чердаке, бок о бок с тележным колесом, с обручами, а вот ему отсюда скорая дорога, насовсем-насовсем, и ничего от него не останется… Неужели ничего? Антон привстал и ещё раз ощупал глазами как будто насторожившиеся вещи. Ни-че-го. Выходило так, что жившие гораздо раньше его люди, чьи руки и души приняли эти разнообразные формы, пребудут на чердаке и впредь, а он ничем, ни на минуту после похорон не задержится в отцовском доме.
Потом он спустился и долго ещё ходил из комнаты в комнату, по двору, всё больше и больше сокрушаясь: как его здесь мало!
Владимир Алексеевич Фадеев
Отечественная литература конца века не успела дать ответа на вопрос, что же случилось с нашим человеком, так легко сдавшим рвачам и недругам завоевания трёх предыдущих поколений, не успела, захлебнувшись в окололитературной и, особенно, публицистической вакханалии «огоньков» и «московских комсомольцев». Голоса русских патриотов тонули, а те немногие, которые были у слышаны, тут же искажались и шельмовались. В предлагаемых вам произведениях сделана попытка восполнения этого пробела – они написаны «с натуры», в 80-е годы XX века, и объект пристального внимания автора именно русский человек в стадии превращения из гордого советского в жалкого и беспомощного совка.
Владимир Фадеев
Ясные дни в августе. Повести 80-х
Ясные дни в августе
Антон вытер пучком травы косу, достал брусочек из глубокого кармана брюк, привычно провёл два раза по лезвию и… как будто что-то споткнулось в нём о раздавшиеся звуки. Нет, они не были особенными – вжиканье камня по тонкому металлу, как собственный голос, знакомо, – и сегодня с утра уже звучало, и вчера, и позавчера, и год назад, и десять… а об эти два споткнулся. Нахмурился. Непонятное чувство не проходило. Хотелось воскликнуть: «Вот! Так ударяет брусок о косу!» Хотелось обрадоваться этому узнаванию – эва, как посветлело, посвежело отчего-то на сердце, словно опахнуло его, взопревшее, задымившее от долгой зряшней усталости лёгким ветерком, и сразу сладко защемило далёким воспоминанием, но – ничего не удалось в нём подсмотреть и подслушать, только это: вжик, вжик… Целое мгновенье пытался сообразить, как же это можно узнать, вспомнить то, что всегда тебе было известно и никогда не забывалось, – пять минут назад он гладил косу тем же брусочком, не столько, правда, гладил, сколько отдыхал, прячась, не сознаваясь самому себе, что отдыхает. А вот звенькнуло – и узнал… Что?
Озаренье было мимолётно. Не набрав силы, оно уже рассеялось, как ни старался Антон остановить его. Выскользнуло. Переждав немного – не вернётся ли? – сперва осторожно, потом излишне резко, начал править. Вслух ругался, а втайне от себя прислушивался. К звуку, к себе. Иногда казалось, что стоит на краешке, шагнёт, а там… Что? Что? Звук, цвет, вкус, запах, – равные только самим себе, не затасканные, не заляпанные тысячью грубых повторений, первые в ряду меняющихся искажающихся подобий, истинные. Шагал… и уходил всё дальше и дальше от этой далёкой истины, всё ближе и ближе к себе нынешнему: косишь – значит, правишь, а раз правишь – брусок о косу вжик, вжик. И всё…
Стоял посреди лужка, оглядывался украдкой, – не видел ли кто его глупого замешательства? Слободка была пуста. Теперь совсем не мог понять внезапной лёгкой радости, да и не хотел верить, что она была, что вообще бывает радость на свете: чем меньше её, тем проще будет пройти через последние свои дни. Брусок в руке подрагивал. Антон сжал его, как мог крепко, но быстро очень обмяк и выронил.
Как назло, последние дни выдались тёплые и ясные…
Когда из районной больницы его выписали в первый раз, в самом начале апреля, никаких изменений в окружающем его мире он не заметил. Разве что наступила весна, но она и так бы наступила, лежи он в больнице или не лежи, время идёт и идёт – тогда Антон не сомневался – только в одну сторону: была зима – стала весна, было когда-то тридцать лет – стало почти сорок. Ничего не изменилось, а раз ничего не изменилось вокруг, то и ему ничего менять не пристало, подумаешь, требухи поубавили! Даже здорово – со второй группой ни одна фуражка не страшна, знать бы – отрезать раньше какую-нибудь селезёнку, только б не лезли с тунеядством! Нашли тунеядца! Он один домов поставил больше, чем всё районное начальство вместе взятое, со штатскими. Не положено!.. Как будто дачники не люди… Хотя, конечно, дрянь народ. Но топор стал потяжелей, да в дыхалке вьюшка стала быстро закрываться, десять раз тюкнешь – кури. Зато пьянеть легко – чем не выгода? До кромсанья с двух бутылок не сыт, а после – с двух лафетничков веселье. Ох, всеселье!.. Так крепко и здоровым не запивал. Говорил врач – всё, теперь нельзя, а когда они, врачи, говорили, что можно? Тогда получилось скоро: два дня с топором, две недели со стаканом, и в ночь перед пасхой приволокли его с сочащейся брюшиной домой богомолки: три старушки и, видно, сам Господь с ними, с крестного хода возвращались, узнали своего, слободского, дотянули до крыльца. И нежно ведь тянули, где им грубеть в такой день! – а всё же оборвалось что-то. Или пришили плохо, или и впрямь те нитки вина не держат…
Ещё четыре месяца лежал, хвалился перед докторами нутром, мог бы и дальше хвалиться, да вывели его за ворота, иди, говорят, тебе уже всё равно, где…
Дома три дня не поднимался, пил рассол с прошлогодней брусники, хоть опять предупреждали, чтоб не сладко, не солёно, да предупреждать – одно, а когда в доме больше нет ничего, будет тебе и сладко, и солоно… Потом два дня яйца собирал по двору, варёные не лезли, а сырьём глотались. Окреп малость, но топора так и не осилил, а вот с косой сладил, неожиданно оказалась она для безбрюхого сподручней. Пока лечился, лужайку перед домом кто-то исправно окашивал, а теперь отава поднялась густо, звала косу. Он её и понёс. Первый день только и сделал, что донёс и, отдышавшись, понёс обратно в дом; второй день раз десять махнул, третий, с двумя перекурами целый ряд вдоль забора прошёлся, в четвёртый – два… Хотел уже обрадоваться, что прибывает силы, напрасно очкарики в халатах каркали, даже подумал – не попробовать ли винца? На радостях? – как вдруг через внезапную жгучую боль услышал внутри себя и другую музыку, совсем не такую весёлую. Почувствовал, что сила не прибывает, а просто в последний раз собирается вся вместе, чтобы отслужить своё до конца, – сколько её есть, на сколько хватит. Почувствовал не болью, не горькой рвотой, не животом своим, выжженным и вырезанным, а чем-то странным, никогда в себе не подозреваемым и как будто совсем не имеющим отношения к его несчастной плоти.
Вчера, не успев вовремя спрятаться от чужой радости – от тёплой, широко ткущей в свою залесную страну ночи, по-покойницки тихо улёгшись на несвежую кровать, он ясно увидел, как раздвоилось время: главный поток, по которому он до этого плыл, неудержимо покатил куда-то дальше, а его маленькая струйка отделилась в особый ручеёк, и тот стал сохнуть в песчаной ложбинке прямо под ногами. Когда задремал, увидел то же самое, но по-другому: его время отвалилось от большой машины колёсиком и само по себе закрутилось всё быстрей и быстрей – так казалось со стороны, а изнутри он опять увидел ясно: оно угасало, останавливалось. Так катящаяся по столу монета, потеряв скорость, завалится на бок и, всё убыстряя и убыстряя обороты до последнего короткого жужжащего вскрика, затихает, возвращаясь к своей начальной стихии – лежать плашмя.
«Вот и раскручиваюсь, – сообразил сквозь сон Антон, – возвращаюсь…» На мгновение смяла его тупая боль, а потом сразу стало легко, как никогда: в странном бреду он отслоился сам от себя, облачком поднялся через темноту на печь и без всякого сострадания принялся рассматривать неподвижно лежащего внизу худого грязного человека, в котором уже не было жизни и который секундой назад был – он. «Угораздило же вляпаться в такую гнилость!» – подумалось с печи. Ни с того, ни с сего, вздыбился спавший тут же, на печи, кот, с визгом бросился вниз, на грудь хозяину, но неживого хозяина испугался ещё больше и, отчаянно оттолкнувшись, одним махом перелетел через перегородку. А грудь лежащего судорожно задёргалась, он захрипел, потом застонал и стонал долго, то отрывисто и громко, то протяжно и жалобно; перед самым рассветом дыхание установилось, выступила испарина – тут бы и ему и поспать, но он пробудился.
Не шевелясь, не поворачивая головы, ощупывал темноту глазами, словно пытаясь догадаться, где он находится; догадался и тут же насторожился. В этом узнанном месте, сделавшимся сразу знакомым до самой мелкой щербинки в печных кирпичах, до самого тихого скрипа половиц услышалось и что-то новое, монотонное, навязчивое, неслышимое никогда ранее: кто-то неторопливым мелким шагом шёл из одного угла дома в другой и никак не мог дойти – топ-топ, топ-топ, топ-топ…
Вот те на! Он никогда не слышал, как тикают часы! Вот эти, его часы. Они висели здесь всегда – а он их не слышал! Или – нет! Нет – никогда здесь не было никаких часов. Ну, конечно! Если бы в доме были настенные часы, то он бы из заводил, он бы вспомнить, какие они, он бы узнал их голос, а не этот топоток из одного края темноты в другой: топ-топ, топ-топ. Или – да, да! Были какие-то часы!.. Ведь это на него ругалась мать: «Опять раскачал гири! Ещё раз увижу!..» А мать? Какая она была тогда? Старая, как недавно? Или не очень, как… сколько же лет назад? Как это – не очень старая мать? Он же отлично помнит – старая, руки сухие и теплые… А кто же та женщина на портрете рядом с молодым отцом? Другая, из другой жизни? Отец таким и остался, не слишком перестарел свой настенный лик, а мать… и прожила всего на двенадцать лет больше и стала… нет, она всегда была такой, да и что за белиберда – молодая мать… Как это? Как это молодая мать кормит его, Антона, которому без малого сорок лет? Ведь мне же сорок? Сорок. А кто тогда ругался: «Ещё раз раскачаешь!..» Топ-топ, топ-топ, топ-топ…
Повернулся на бок – спать, спать!.. Но вместо сна из плесневелого мрака стали вырастать воспоминания, в который увиделось неожиданно радостное, почти восторженное движение около той стены: повесили часы. Новые часы! Оба младших братишки, старшая сестра, довольный, но сдержанный отец, мать, та, другая, с карточки, – все наперебой что-то говорили, наверное, хвалили, шутили, а потом встали полукругом, как перед ожившей иконой и слушали вот это: топ-топ, топ-топ, топ-топ. Только тогда, единственный раз и прошёл бестелесный робкий мальчуган со звонкой походкой – топ-топ… и больше этих шагов Антон не слышал. Всё. Приставал к гирям – было, кому ж ещё могла кричать мать из-за перегородки: «Ещё раз раскачаешь!..» Тридцать лет их не заводили, а они вдруг пошли. И разбудили – так бы не проснулся! Гм… надо же, стояли полукругом и слушали. Только не вчера ли это было? Вчера – тридцать лет назад? А не вздор ли все эти тридцать лет? Не сон ли?
В голове Антона помутилось, мысли загустели, не хотели двигаться к тому краю, за которым или выход, или тьма. Со стоном перевернулся на другой бок, сосущая, при поворотах – жгущая боль вернула в реальность. Ерунда! Вчера! Вчера он косил вдоль забора, без желудка и половины кишок… А те тридцать лет? Топ-топ, топ-топ, топ-топ…
Не выдержал, помогая руками, поднялся, неровно прошлёпал до дальней стены, надеясь, встав перед часами, как давно в детстве, всё сразу вспомнить и узнать, но, когда подошёл и всё узнал – и часы, и гирьки в виде еловых шишек, и тиканье, настолько привычное, что неслышное то всё сразу забыл. Прошлое, прожитое заняло свое место и приняло свою форму, – извилистого заросшего оврага, по дну которого должен бы течь ручеёк, а может и течёт, только не видно его за камнями и дикой травой.
А проснувшись утром, незаметно для себя, как и все тридцать лет, тронул гирьки.
Ещё через полчаса споткнулся уже о другие звуки: вжик, вжик…
Он даже не стал поднимать обороненного бруска, хотел отшвырнуть и косу, как будто это она виновата в исчезновении наваждения, непонятного, но такого свежего и прозрачного – смотри и радуйся!.. Ан нет – пропало. Не отшвырнул, побоялся – увидят. Потащил швырять во двор, не поленился, прошёл до самого дальнего угла, наглухо заросшего высоченной крапивой и лопухами, куда уже много лет отваживались залезать только куры да старый кот со своими блудливыми приятелями. Размахнулся и… вдруг обратил внимание на невысоко торчащий из крапивы столб, чуть наклонившийся, с изъеденной ржавчиной и еле державшейся на трухлявом конце его скобой. Ну и что – столб? Прислушался к недобрым звукам в себе и вспомнил: это же были качели! Качели! Ясно, как сейчас, здесь, услышал своё собственное хныканье, визг, когда отец норовил качнуть его повыше. Он, старший, высоты боялся, над ним смеялись, он обижался и плакал, а над ним смеялись ещё сильнее. И сестра, и особенно противно – эти, голопузые… Неужели всё было здесь? В этих крапивных джунглях? А где же берёза? Рядом с качелями росла берёза!
Антон положил косу и полез в крапиву искать пенёк, но скоро оставил это занятие: ровной земли под лопухами и крапивой не было – бугрился, местами проминаясь, местами пружиня, покрытый посеревшими остатками бывших сорняков полуметровый слой хлама. В одну дыру Антон провалился и, вытащив ногу, рассмотрел по краю ямы слой ушедшей назад жизни: гнилые тряпки, разбитый чугунок, спутанная проволока и – бутылки, бутылки. Была берёза и – нету. Даже пенька, даже следа…
Вылезая, обстрекался. Выругал себя за всю эту лирику, огляделся – обматерить бы кого! Самая утеха для бессильного, да нет ни одного живого человека во всём доме. Жена и та куда-то канула. Он вторую неделю как вернулся, а её нет. Правда, когда в последний раз в больницу приезжала, говорила, что уедет, но он её и слушать не хотел, потому что не до глупостей ему было, помирать всё-таки собрался, а она говорила ерунду, просто, как соседскую сплетню, рассказала, что бычка свела, кроликов продала, остались куры да кот, пусть живут. Рассказала, что огород засадила картошкой и огурцами, чтобы Антон не сдох раньше смерти с голоду. Так и сказала – раньше смерти. Он-то знал – блажит, не может быть такого у людей: мужику на тот свет собираться, а баба – в бега. Уж помер бы, потом и ступай с богом… хотя, что уж ступай? Живи, твой дом… Так – нет же её вторую неделю!
Он и без неё дотянет, в больницах за полгода приучился без помощи, но странно: жил, жил человек рядом с тобой, и раз – нету. Не умерла, не развелась. Жена… Жена… Жена… Женаженаженажена… Да, был человек рядом, звали его жена. Когда-то и спала с тобой. Бранила. Плакала по тебе, чаще, правда, от тебя, бывало – жалела. Высохла тоже, почернела – и лицом, и руками. А ведь не сказать, чтоб пила сильно, так… А звали её как? Гм… Не рехнулся часом? Забыл, как жену зовут… звали! Но – как? Как?
Вспомнил по корове: тьфу ты, конечно – Валя.
Антон почесал затылок, пожал плечами. Валя? Чтоб отогнать неизвестно откуда взявшиеся сомнения, произнёс вслух: «Ва-ля» и только после этого с собой согласился, хотя и не мог связать это имя с жившей с ним женщиной, выходила не жена, кто-то другой. И зачем этой Вале было мучиться у него в жёнах? А может всё-таки её не было? Была, была… Просто вместо него она кого-то другого имела ввиду. И готовила для этого другого, и стирала, и даже – когда-то – как это назвать попроще? – любила, что ли, того, другого… А тут оказалось, что это не другой, а – он. Убежишь.
«Но я-то, я-то как сумел всех объегорить? У меня ведь и мысли не было. Всю жизнь жил, как я, а оказался не я. Кто же это мог быть? Почему я его не замечал? И он ведь тут жил, на качелях маленький качался, его мать с отцом на фотографии… А откуда здесь тогда я?»
Антон почувствовал, что запутался, но ещё сильнеё почувствовал, что в чём-то главном – прав. «Теперь вот я ещё умру дней, может, через пять, или три, или – завтра, – продолжал он размышлять, – куда тот денется? Тоже умрёт?» Того ему почему-то стало ещё жальче, чем себя, и он неожиданно заплакал – слёзы были теперь близко. Не хотелось умирать, не то, что в детстве: «Вот умру!..» И не то, что четыре месяца назад, когда уговаривали: «Антон, хватит тебе, окочуришься!» – а Антон легко отмахивался: «Давно пора!» – и смеялся. А сейчас плакал, но не себя было жалко, того, другого. Хотелось как-то перед ним оправдаться.
Вспомнилось, как однажды выпивали на могилках – церковное кладбище рядом, на могилках выпивать одно удовольствие! Хорошо выпивали, с чувством, да так на могилках и уснули. Проснулся Антон один, остальные, кто как мог, расползлись. Один да не совсем – стоит над ним поп, местный батюшка.
– И что ты тут делаешь? – спросил печально.
Антону тоже было печально, даже хуже. Огрызнулся.
– Помирать собрался.
– Хорошее дело, – вздохнул батюшка и отошёл.
Тогда Антон только чертыхнулся вслед, а теперь, ожидая безносую со дня на день, захотелось иначе услышать давнее поповское: а вдруг он без всякого умысла? Вдруг, и впрямь – «дело хорошее?» Зацепился за робкую надежду. Доползти, что ли до попа, поговорить? А может, не так всё безнадёжно и темно, не зря же вокруг столько старух вьётся?
Сравнение себя со старухами не понравилось. Нет, ну его к чёрту, и без попа уж как-нибудь…
Солнце поднялось уже над слободкой – опять будет ясно и жарко! Что за наказанье, умирать в такую погоду! Нет, чтоб дождь, слякоть, грязища непролазная, крыша бы потекла, огород бы сгнил – только и помирай! Нет, распогодилось напоследок. Умрёшь вот в такую благодать и будешь всю смерть завидовать.
Ушёл в дом, прочь с солнца, пристроился смотреть на распаляющийся день из окошка. Раньше в хорошую погоду всегда бывал пьян. Самая работа – самое вино. Погода для работы, работа для вина, а уж пьяному всё едино – солнце, слякоть… Вздохнул. Почему вышел один позор да беда из его умения рубить дома? Всем он вышел чужой: и для колхоза своего несчастного, и для милиции, и для сельчан, и даже для самих дачников, кому строил. Замок навесит хозяин – дружба кончилась. Хотя какая дружба? Налей да похмели, дай пятёрку да заплати вперёд, а ты – строй лучше, да ещё чуть-чуть получше, да ещё побыстрей, да не так, как ты знаешь и умеешь, а как я хочу. «Дрянь народ… всю жизнь на дачника отработал. Они на веранде чай пьют, а ты без двух дней покойник, – поёжился от такого открытия, – что ж ты раньше думал? Что, что… Как бы похмелиться – вся дума».
По слободке проехал тогдашний его компаньон Козлов, Козёл. Из сумки на багажнике торчал обух – на болото. И не посмотрел в его сторону: раз не пьёшь, раз не помощник – уже и не товарищ. Говорят, и у него неладно, жена от рака умирает, тоже вот-вот. «Встретимся ведь там, – подумал Антон, наведаться, что ли…» Казалось, им есть о чём поговорить, будто вместе собрались ехать далеко, как бы чего не забыть.
Туда же, на дачи, прошли «чужие» – молодые папаша с мамашей и с ними две дочки, одна у отца на шее, другая, совсем маленькая – у матери в стульчике-коляске. «Пока дачу строят, в слободке дом снимают», – сообразил Антон. Одна девочка, старшая, заливалась звонким смехом, младшая, в колясочке, так же звонко плакала.
По тропке вдоль дальнего ряда домов прошёл с внучкой Серёжа-верующий. Борода, схваченные ободком волосы – ни за что ему не дашь шестьдесят. Взяла бы под ручку – были б ровней. Из всего мужского населения слободки он один открыто верил в бога, соблюдал посты, ходил в церковь, оттого и звали его так, не приставляя к имени ни «дядя», ни добавляя отчества. Почему-то с ним особенно дружил отец, в гости ходить было не принято, но помогали друг другу всегда. Наверное, только Серёжа-верующий и пытался отвадить Антона от вина, когда на другой год после смерти отца, тот, почуяв волю и безнаказанность, повадился относить в магазин не такой уж тяжёлый халтурный заработок. Антон слушал его, но делал по-своему. И в столярку к Серёже не стал устраиваться – на дачах вольнее и богаче: работники на болоте были нарасхват. А вместо армии Антон за участие в обыкновенной драке, но как лицо «без определённого рода занятий», рубил дома под присмотром очень строгих дяденек в соседней Владимирской области. Серёжа-верующий и после этого не отступался, но Антон стал не тот: откровенно отмахивался, гнал бородача со двора и даже куражился над ним, особенно если был уже навеселе и в компании: «Вот я сейчас выпью стакан, и если бог есть, пусть он меня тут же покарает, пусть! – и пил под восторженные улюлюканья до дна, задирал голову и плевал в небо, – ну, где он там?»
У Серёжи-верующего было пятеро детей. Четырёх дочек выдал замуж в город, по праздникам они семьями приезжали, все на машинах. Пятый, младший сын, со своей семьёй жил в отцовском доме и вместе со стариками вёл хозяйство. В слободке, да и во всём селе они считались богачами: сад, большой огород, скотина, лошадь, пруд, даже свой трактор. Сельчане и любили Серёжу, потому что надо же кого-то любить, а выбирать из опускавшихся и редевших ближних становилось всё труднее, и – не любили: за «богатство», из зависти на «путных» детей, на забытый в их семьях мир, за то, что не пил и вообще – был ближе к богу, не понятному уже никому, чем к миру, к людям, пьяным и несчастным.
Антон долго смотрел на уходящего Серёжу-верующего, даже перешёл к другому окошку – ещё что-то важное просилось в воспоминание, но дед с внучкой вошли в свою калитку и исчезли сразу за высокими белыми цветами. Не вспомнилось… сдавило только в груди, так же цепко, как и в животе.
«А что и в самом деле – к попу?»
Засуетился: пойти – не пойти? С одной стороны – наплевать на всех попов, лечь и умереть, перестанет в брюхе жечь, да и ладно, а только лишь натыкался на смерть, начинало подташнивать и хотелось побыстрей узнать, может есть в ней какой секрет? Может, есть какой секрет и в пока ещё держащейся в нём жизни? Ведь наверняка и поп, и Серёжа-верующий знает о ней, чего не знает он, чего он так и не узнал, хотя только за этим и родился на этот свет, а на том свете – пусть там и хорошо, – если поп не врёт, конечно, – ничего уже не узнать, и, значит, если ты живёшь и этого главного не знаешь, то, считай, что и не живёшь, а если узнаешь, то даже если… Тут он запутался и тем более решил идти к попу – за ясностью.
С крыльца его словно в грудь толкнуло назад: на икону хоть посмотреть, к попу всё-таки собрался. Воротился – иконки в углу не было. Опустился на шаткий табурет, поскрёб лоб. Выходит, не сон. Жена кричала: «побоялся бы бога, скотина!» – а он в ответ на это выдрал из угла икону, выскочил в сени и запустил её на чердак. Пьяный, конечно.
На чердаке он не был давно, с прошлогодней зимы, когда искал здесь что продать неожиданным старьёвщикам из Москвы. Продал за пятнадцать рублей распаявшийся мятый самовар и льняную чесалку – отдельно, за небольшой пузырёк спирта. Больше ничего москвичам не приглянулось, и Антон, помнится, чертыхнулся в адрес предков: столько их на свете копошилось, а одного Антона один раз досыта напоить не сумели, эх!..
На середине лестницы в кишках резануло и заклёкало. Антон замычал от боли и подумал, что если свалится вниз, то больше уж не встанет. Наверху огляделся: куда могла полететь боженька? Полез через груды старья к дальней застрехе. Поднявшаяся пыль обозначила невидимый до этого солнечный лучик. Усмехнулся: пока пыли нет и света не видно. Иконы не было. «Ладно, и такого примет…» Хотел привычно выругаться в адрес попа, но сдержался. Уселся на край фанерного ящика, огляделся теперь по-другому: сколько же здесь всего! Сундуки, плоские деревянные чемоданы с железными уголками, огромный светлый чугун, в нём – скобы, кольца, петли, костыли… Старый жернов, связка обручей, навалом конская сбруя, мятые полдёнки, тележное колесо, инструменты, непонятные даже ему, едва ли не первому плотнику на селе и болоте, и почти в полчердака, тоже навалом, части большой деревянной машины. На всём лежало столько пыли, что это была уже и не пыль, а новая естественная оболочка, мёртвая кожа этих никому, даже тем чудакам из столицы, не нужных мёртвых вещей.
В солнечном луче лениво плавали бестелесые пылинки: одни возникали из ниоткуда, освещались, другие соскальзывали с ясного жёлоба, исчезали, словно прекращали своё бытие, словно их и не было никогда и нигде. Какие-то новые, грустные мысли отразились на лице человека, когда он наблюдал рождённую им круговерть самого ничтожного из существующего на земле – пыли. Он перевёл потяжелевший взгляд на громоздившиеся вокруг вещи, провёл ладонью по шершавому попробовал разогнуть ржавую скобу, не осилил. Сокрушённо покачал головой – как они похожи ненужностью своей, и как всё-таки непохожи: жернов этот ещё век пролежит, и не где-нибудь, а на родном чердаке, бок о бок с тележным колесом, с обручами, а вот ему отсюда скорая дорога, насовсем-насовсем, и ничего от него не останется… Неужели ничего? Антон привстал и ещё раз ощупал глазами как будто насторожившиеся вещи. Ни-че-го. Выходило так, что жившие гораздо раньше его люди, чьи руки и души приняли эти разнообразные формы, пребудут на чердаке и впредь, а он ничем, ни на минуту после похорон не задержится в отцовском доме.
Потом он спустился и долго ещё ходил из комнаты в комнату, по двору, всё больше и больше сокрушаясь: как его здесь мало!