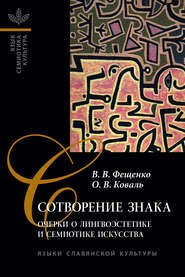По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Язык в языке. Художественный дискурс и основания лингвоэстетики
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Во-первых, с общей зоной вопросов о взаимосвязи теории языка и теории искусства. Эта линия была начата исследованиями Я. Мукаржовского и Пражской школы в 1930?е годы и продолжена в послевоенной семиотической эстетике Н. Гудмена, У. Эко, А. К. Жолковского – Ю. К. Щеглова, Ю. С. Степанова[41 - См. программную для лингвосемиотики искусства статью последнего: [Степанов 1975], а также сборник [Язык и искусство 2002].]. Этой линии посвящен следующий параграф нашей работы.
Вторая область лингвоэстетических исследований относится к эмпирическому плану эстетического использования языка в обыденной речи. Так, В. З. Демьянков рассматривает «лингвистическую эстетику» как раздел «народной» эстетики, как «речь о прекрасном» в той или иной культуре, см. в этой связи работы [Логический анализ 2004; Крылов 2004; Рябцева 2005; Демьянков 2013; Рябцева 2019]. Но главным вектором и одновременно отправной точкой в лингвоэстетическом анализе стоит признать эстетическое изучение словесного творчества, языка как искусства. Именно этот вектор интересует нас в данном исследовании.
Примечательно, что номинально первым, кто употребил интересующий нас термин, был популярный английский писатель и филолог Дж. Толкин, который в одном из писем признался, что его главный опус «Властелин колец» является «в большой степени произведением по лингвистической эстетике» [Tolkien 2000: 220]. Разумеется, здесь речь шла не о научном методе, а о художественной технике. Учитывая повышенный интерес мировой авангардной литературы к проблематике языка в принципе, творческой техникой лингвистической эстетики пользовались многие представители авангарда. Однако мы ведем речь о лингвистической эстетике именно как научном подходе, который наиболее ярко проявился именно в русской гуманитарной традиции, совпадающей хронологически с эпохой авангарда в искусстве.
Другой вариант наименования «лингвистической эстетики» («лингвоэстетики») – «эстетика языка». Эстетике языка посвящен цикл работ Л. А. Новикова, собранный в издании: [Новиков 2001]. В частности, здесь определяются такие важнейшие категории лингвистической эстетики, как «феномен эстетического в языке», «значение как эстетическая категория языка», «структура эстетического знака» (см. также его работу: [Новиков 1988])[42 - Основные мысли Л. А. Новикова, касающиеся эстетического в языке, кратко изложены в научно-популярном пособии: [Новиков 1991]. Из литературы по эстетическому изучению словесности укажем еще на следующие работы: [Исследования по эстетике слова 1964; Николаева 1979; Черемисина 1981; Донецких 1982; Бояринцева 1984; Заика 2007].]. В философском ключе к вопросам эстетики языка обращается А. А. Грякалов, отмечая в своей книге, что
эстетика языка ориентирована на последовательное использование лингвистических способов описания произведений искусства [Грякалов 2004: 165].
Справедливо также его замечание о том, что
преимущественное внимание к лингвистическому анализу в словесности не должно снимать философско-эстетического интереса к эстетике языка, ибо искусство слова рассматривается как «высшее» искусство, законы которого служат направляющими в развитии художественной культуры в целом [там же].
Таким образом, интересующий нас подход получил к настоящему времени два наименования: «лингвистическая эстетика» (В. П. Григорьев) и «эстетика языка» (Л. А. Новиков и др.). Для объединения двух вариантов в один мы предлагаем ввести термин «лингвоэстетика», как рядоположный схожим терминам – названиям дисциплин: лингвопоэтика, лингвосемиотика, лингвопрагматика и т. п.
Как мы покажем в нашем дальнейшем исследовании, лингвоэстетика может быть рассмотрена не просто как подход, а как особая методология исследования художественного текста и языка художественного произведения. Более того, эта методология не является чем-то, что необходимо создать, она имеет довольно древние корни и значительную традицию в истории гуманитарной мысли и филологических исследований. Однако волею исторических обстоятельств эта традиция развивалась скорее подспудно, нежели в четко выраженной форме, она оказалась как бы заслоненной от более популярных научных методологий, наиболее влиятельной среди которых в ХХ веке оказался формализм – так сказать, «генеральная линия» лингвистической поэтики последнего столетия. В этой части главы мы опишем основные вехи формирования лингвоэстетики в начале и первой половине ХХ века, главным образом в русской гуманитарной науке, в так называемой русской теории 1910–1930?х годов [Русская теория 2004].
От лингвопоэтики к лингвоэстетике: преодоление формализма в лингвистике и анализе литературы
В русском гуманитарном ландшафте первых десятилетий ХХ века, как известно, зарождается множество новых направлений в лингвистике – «лингвистическая технология», «культура языка», «языковая политика», «языковое строительство», «интерлингвистика», «искусство слова» и т. п. В лоне Московского лингвистического кружка и общества ОПОЯЗ возникло также особое исследование языка художественной литературы (лингвистическая поэтика). Краеугольным понятием русского формализма явилась «поэтическая функция языка», а сама поэтика была осознана как отдельная дисциплина, находящаяся на пересечении лингвистики и семиотики (поэтика, по Р. О. Якобсону, это «лингвистическое исследование поэтической функции вербальных сообщений в целом и в поэзии в частности» [Якобсон 1987: 81]).
История и теория русского формализма широко известны и подробно описаны. Мы обратимся к некоторым основным их постулатам, относящимся к поэтическому языку, в последующих главах. Вместе с тем очень мало известно о другой ветви русского гуманитарного мышления, отпочковавшейся от гумбольдтианской и потебнианской традиции, о которой мы писали в предыдущих параграфах, и развивавшейся параллельно с формальной школой, подчас принимая форму оппозиции формальному методу в лингвопоэтике. Эту традицию можно назвать лингвоэстетикой, так как она разворачивалась преимущественно на базе эстетических теорий и учений об искусстве.
Русский формализм разработал обширную теорию анализа формы, материала и приемов в художественном тексте. Однако, как представляется, весьма важным недостатком формального метода было непропорциональное внимание к категориям эстетических учений, главным образом к категории эстетического объекта. Каждое поэтическое и вообще художественное произведение представляет собой прежде всего эстетический объект со своими, эстетическими законами построения. Совершенно так же, как им является любое произведение визуального искусства, музыки, кино, театра и т. д.; никто не сомневается, что эстетические законы превалируют в этих художественных практиках и служат отправной точкой для их восприятия, понимания и анализа. И, таким образом, проблема формы в художественной литературе выступает прежде всего проблемой художественной или эстетической формы, нежели формы в строго лингвистическом понимании. Лингвистическая поэтика формализма не уделяла достаточного внимания сущности эстетики, эстетическим категориям и эстетическим закономерностям художественного творчества и художественного произведения.
Важно отметить, что первые попытки обоснования лингвоэстетики были предприняты либо учеными, стоящими в оппозиции к формальному методу, либо, так сказать, «преодолевшими формализм» – теми, кто на первых порах разделял формалистские установки, но впоследствии отошел от них. Показательны три определения поэтики, приводимых исследователями, находящимися в некоторой оппозиции к формальному методу. Так, Г. Г. Шпет определял поэтику в несколько иных терминах, нежели формалисты: «поэтика есть учение о художественной методологии» [Шпет 2007: 232]. Несомненно, некоторые из формалистов подписались бы под этим определением, однако только такой эстетически и философски образованный человек, как Шпет, мог вкладывать в понятие «художественной методологии» максимально строгий и адекватный смысл и осознавать методологический статус художественных элементов в художественном произведении. Поэтика и эстетика слова мыслились Шпетом как учение об эстетическом сознании в его целом. В. М. Жирмунский определяет поэтику как «науку, изучающую поэзию как искусство» [Жирмунский 1977: 15]. И ближе всех к «эстетическому» определению поэтики подошел М. Бахтин, утверждавший, что «поэтика, определяемая систематически, должна быть эстетикой словесного художественного творчества» [Бахтин 2003: 268–269]. Бахтин также отмечает, что в исследовании словесного художественного творчества необходимо основываться на таких ключевых категориях, как «эстетический объект», «эстетический опыт» и «эстетическое сознание».
Лингвоэстетика как подход выражается в двух основных аспектах: с одной стороны, это проблема художественного языка, относящаяся не только к словесным произведениям, но и к прочим художественным практикам (с этой стороны лингвоэстетика оказывается близка семиотике), и с другой стороны – это проблема эстетического использования языка, в ситуациях, когда предметом рассмотрения являются не только собственно эстетические объекты – произведения искусства, но и, например, обыденная речь, в которой могут иметь место самые разнообразные случаи эстетического употребления (к примеру, окказиональное словотворчество, языковая игра, каламбуры и т. п.).
В разработку концепции лингвоэстетики внесли вклад несколько авторов из русской гуманитарной традиции. При этом она могла получать различные вариативные наименования – такие как «эстетика языка», «эстетика слова», «эстетика словесного художественного творчества». Прежде чем назвать этих авторов и привести их положения, следует сказать, что, разумеется, у традиции лингвоэстетики есть своя предыстория. Отдельные замечания, относящиеся к этим вопросам, содержатся уже в древнегреческих и древнеримских трактатах о языке и стиле, прежде всего во фрагментах, посвященных искусству речи (см. [Античные теории языка 1936]). В дальнейшем эти вопросы возникали, например, в «Поэтическом искусстве» Н. Буало и в «Эстетике» А. Г. Баумгартена. Говоря об эстетически ориентированной философии языка, возникшей на рубеже XIX–ХХ веков, нельзя не упомянуть в этой связи концепцию К. Фосслера. Эстетическая школа, главой которой считается Фосслер, делала упор на исследование языка в его выразительной функции (впрочем, с издержками в виде эстетизации языка вообще, о которых мы скажем в следующей главе). В. фон Гумбольдт и А. А. Потебня являются непосредственными предвестниками лингвоэстетического подхода. Необходимо добавить к ним и А. Белого, чья эстетическая теория вкупе с его оригинальной лингвистической концепцией тоже оказала воздействие на интерес к обозначенной теме. Об этих предшественниках лингвоэстетического подхода мы писали в первых двух параграфах этой главы.
Теперь перейдем к тому, как формулировалась лингвоэстетика, или, как она чаще именовалась, эстетика языка (эстетика слова), уже как таковая – в 1920–1930?е годы русскими учеными и теоретиками слова.
Первым из лингвистов, кто заговорил о необходимости изучения эстетики языка, был Л. В. Щерба. В предисловии к сборнику «Русская речь» от 1923 года он отмечает нарастание интереса лингвистов к «эстетике языка», к тому, что «делает наш язык выразителем и властителем наших дум» [Щерба 1974: 102]. Пробой Щербы в применении понятия «эстетика языка» можно считать его «Опыты лингвистического толкования стихотворений» [Щерба 1957]. Далее эта идея была подхвачена Б. Лариным в работах по эстетике слова и языку писателей. Отталкиваясь от теории художественной речи и обосновав методы эстетики языка, он воплотил свои идеи в анализе лирических стихотворений, в частности Хлебникова. Ларин ввел и такие важные для лингвоэстетики понятия, как «художественная целостность» и «эстетическая квалификация языкового материала» [Ларин 1974].
Об «эстетике языка» пишет и В. В. Виноградов. В статье 1927 года «К построению теории поэтического языка» отмечается:
«Эстетика слова» как дисциплина нуждается в признании, в определении ее материала, задач и методов. Путь к ней лежит через «науку о речи литературно-художественных произведений» [Виноградов 1927: 9].
Виноградов отмечает и важность изучения сложных поэтических форм речи, развернутых словесно-художественных структур. Путь исследования в этом направлении: от сложных структур – к «стилистическим единицам», а не наоборот. И здесь очевидно, что Виноградов полемизирует с формальным методом, который задает обратное направление исследования: «от единиц – к единствам». Эстетика слова, по Виноградову, выдвигает своим предметом «структуру художественного целого». Так, в применении к художественной литературе он пишет о «поэтической организации символов в композиции целостных эстетических объектов» [там же]. В поэтической речи, по Виноградову, происходит символическое преобразование языка:
Структура художественного произведения сочетает в себе не только поэтические формы словесности, но и формы других видов искусств (музыки, живописи, театра) [там же].
Сам Виноградов в дальнейшем не пошел по этому пути, за него это проделала уже позднейшая семиотика в лице Я. Мукаржовского, Ю. М. Лотмана, У. Эко и других. Виноградов также отмечал, что обоснование науки об эстетике языка невозможно только на почве лингвистики, ибо
лингвистика, инстинктивно отправляясь от норм социально-языковой деятельности, всегда говорит об элементах языка, но она не в состоянии открыть своеобразия более сложных поэтических форм [Виноградов 1927: 9е].
Виноградов ссылается на показательные неудачи, с его точки зрения, на этом поприще К. Фосслера, А. А. Потебни и Б. Кроче. За обоснованием эстетики языка он предлагает лингвистам обращаться к учениям об искусстве и эстетическим теориям.
Эстетическая теория слова в концепциях русских философов 1920?х годов
Значительное влияние на становление филологических идей В. В. Виноградова оказала философия языка Г. Г. Шпета. Сам русский философ посвятил «эстетике слова» трехчастный трактат «Эстетические фрагменты», изданный в 1922–1923 годах. Возможно, именно по прочтении этой работы, в которой много внимания уделено эстетическим аспектам слова и языка, Л. В. Щерба сделал вывод о нарастании интереса к «эстетике языка». Ведь доклад Шпета, положенный в основу книги, был прочитан в 1919 году на заседании Московского лингвистического кружка, а значит, в присутствии и при обсуждении большого числа выдающихся лингвистов того времени. Считается, что именно этот доклад способствовал формулировке понятий «поэтическая речь» и «поэтический язык» русскими формалистами.
«Эстетические фрагменты» посвящены выяснению того, что такое «эстетический объект» («эстетический предмет») в его отношении к структуре слова. Шпет именует один из разделов трактата «Структура слова in usum aestheticae», намечая таким образом самое ядро лингвоэстетической проблематики: использование языка с тем, что тут называется «эстетическим эффектом». Проводится попытка выделить эстетические компоненты в структуре высказывания:
Слово как сущая данность не есть само по себе предмет эстетический. Нужно анализировать формы его данности, чтобы найти в его данной структуре моменты, поддающиеся эстетизации. Эти моменты составят эстетическую предметность слова [Шпет 2007: 210].
Эти моменты, или элементы высказывания, связаны с эстетическим опытом порождения и восприятия текста. Необходимо, считает философ, разделять эстетические и внеэстетические элементы:
Отдельные моменты в структуре слова суть in potentia такого рода эстетические предметы. Соответственно, можно говорить об эстетическом суждении, восприятии etc. этих моментов или об их эстетичности, в положительной или отрицательной квалификации. Нужно выделить в структуре слова моменты существенно внеэстетические [там же: 254].
К примеру, «номинативная функция слова» (примечательно, что уже в 1919 году Шпет пользуется понятием «функция») должна отделяться от «эстетических свойств слова», образующих специальную функцию. При этом простая экспрессия в речи не приравнивается к эстетичности. Последняя, как особо подчеркивается, основывается на особом восприятии слова как художественной единицы.
Шпет предлагает отделять словесную эстетику от других разновидностей эстетики, например от музыкальной. Несмотря на то что слово может обладать «музыкальностью» (идея, характерная для поэзии символизма), сама вербальная сущность и материальность определяет «эстетику слова». В строчке Тредиаковского «Звени, звени, хрустальный альт стаканов» философ видит (а точнее слышит) чисто фонетическую эстетическую ценность, свойственную законам языка. В поэзии (и шире – художественной речи) «предмет подвергается особой эстетической модификации», производя «эстетическое действие» от автора к читателю. Любопытно, что подобный лингвоэстетический подход позволяет Шпету обосновать и оправдать бессмыслицу в поэтической речи. Словно бы отвечая на заумные опыты футуристов и супрематистов, он рассуждает:
Но возможно ли словоизлияние беспредметное? Это могло бы быть прежде всего чисто звуковое явление, не имеющее и смысла, имеющее «значение» (роль, функция) только эмоционально-экспрессивное или указующее, вообще значение «знака без значения». Эстетически его расценивали бы, например, по его музыкальности: tra-la-la… – forte (crescendo) или na-na-na… – piano (diminuendo). Это относится к форме ?. Затем беспредметность может указывать также на бессмыслицу, нелепость, внутреннее противоречие. Такое словосочетание не оторвано от смысла и есть не только дейктический знак, но настоящее слово. Но, строго говоря, оно имеет смысл, этот смысл есть бессмыслица – например, абракадабра, белая ворона, круглый квадрат – и «беспредметность» есть род предмета, sui generis предмет. Каково бы ни было его логическое значение, «беспредметное слово» может иметь положительное эстетическое значение, поскольку в нем все же раскрываются свои внутренние поэтические формы. Последние налегают и на беспредметные слова, подчиняя их своим законам или приемам конструкции. Мы строим и бессмыслицу по тропам параллелизма, контраста и т. д., равно как и по правилам синтаксиса («идет улица по курице»). Эстетическое значение соответствующих «поэм» относится к ?. Натурально, от этих случаев следует отличать метафорическую игру, где бессмыслица – только «видимость» и чувствуется лишь при крайней остроте, новизне метафоры или при специальном к ней внимании – «тот ошарашил его псевдосферою», «Пифагоровых штанов Павлуша уже не мог вместить в свою голову» [Шпет 2007: 279–280].
Итак, согласно шпетовскому подходу, беспредметная поэзия порождает не просто «знаки» (пусть и без «значения»), но и полноценные «слова», в которых «бессмыслица» заменяет собой «смысл» и которые имеют эстетическое значение, несмотря на непонятность внешней поэтической формы. «Внутренняя поэтическая форма» тем не менее присуща таким текстам и определяет эстетический момент любого подобного высказывания[43 - Ср. со схожим оправданием футуристического словотворчества П. А. Флоренским в его статье из [2000а].].
В этом трактате Г. Г. Шпет еще размышляет в традиционных терминах эстетической теории его времени: положительное или отрицательное эстетическое восприятие, эстетическое возбуждение, эстетическая реакция, эстетическое переживание, эстетическое наслаждение, эстетическое внимание и т. п. Природу чисто художественных внутренних форм слова он будет более отчетливо разбирать в более позднем трактате «Внутренняя форма слова» (мы обратимся к этому в следующем параграфе). Однако важным шагом русского философа языка становится разграничение эстетического и внеэстетического в анализе повседневного («прагматического», в его терминологии) и поэтического языка. Противопоставляя логические («рассудочные») и поэтические («символические» par excellence) стороны слова, Шпет приходит к особому пониманию языковой деятельности в эстетической ситуации и к «эстетике слова» как учению об этом:
Учение о поэтической методологии есть логика символа, или символика. Это не та отвлеченная, чисто рассудочная символика, которая встретилась нам выше, как семиотика или Ars Lulliana, а символика поэтическая, фундамент всей эстетики слова как учения об эстетическом сознании в его целом [там же: 234].
Философию языка Шпета можно, таким образом, считать первыми набросками лингвоэстетической теории, основанной на серьезной проработке эстетических учений[44 - О «лингвоэстетической концепции» Шпета и выводимом из его учения понятии «лингвоэстезиса» вскользь говорится в работе [Павленко 2013].].
Следующей после Шпета ключевой фигурой в формулировке основ лингвоэстетики был Б. М. Энгельгардт, до недавних пор остававшийся незаслуженно малоизвестной фигурой в русской филологии. В 2005 году по архивной версии был опубликован доклад Энгельгардта 1920?х годов «Эстетика слова». С 1921 по 1928 год он готовил к печати книгу «Введение в эстетику слова», которой выйти было не суждено, и сохранился только этот доклад. Кроме того, в 1924 году Энгельгардт прочел в ГИИИ (Государственном институте истории искусств) доклады «Эстетико-лингвистические предпосылки формального метода» и «Основоположения эстетики слова».
Единственной работой, специально посвященной теории словесности Энгельгардта, является брошюра [Муратов 1996]. В ней, в частности, так резюмируется суть «эстетики слова» по Энгельгардту:
эстетически безразличный вещный ряд (слово, звук, цвет и т. д.) в процессе творчества преобразуется в эстетически значимый – художественное произведение. Истолкование эстетического значения структурных особенностей художественного произведения тогда и является раскрытием эстетического смысла изменений, испытанных вещным рядом в процессе творчества. Но если речь идет о видоизменениях слова в процессе творчества, то исходным моментом для истолкования таких видоизменений должно стать уяснение вопроса о том, что такое слово в его «до-(вне-)эстетическом состоянии. Это истолкование должна дать лингвистика, и оно будет второй необходимой предпосылкой для построения теории словесности как эстетики слова [Шпет 2007: 9].
Для Энгельгардта эстетика слова являлась частью общей теории словесности, разработанной на феноменологической основе. Ход мысли Энгельгардта таков:
С эстетической точки зрения художественное произведение должно рассматриваться, прежде всего, как особым образом оформленный вещно-определенный (dinglich) ряд: поэтическое произведение как словесный ряд, музыкальное – как звукоряд, картина или статуя – как система зримого и пр., и пр. [Энгельгардт 2005: 46].
Разумеется, в этих формулировках отчетливо выражен феноменологический подход. Понятие «вещности», отличное от понятия «вещи» в русском формализме, имеет явные гуссерлианские корни. Феноменологический взгляд приводит к тому, что старые подходы в изучении образности, идейности и т. п. оказываются, с точки зрения Энгельгардта, неприемлемыми для эстетического анализа, ибо они уводят исследователя за пределы самого произведения в сферы мнимых объектов. Отсюда вывод о том, что
художественное творчество должно мыслиться только как процесс эстетического оформления словесного ряда, то есть установки этого ряда на эстетическую значимость <…> Таким образом, эстетика слова имеет дело, с одной стороны, с эстетически оформленным словесным рядом, а с другой стороны, с этим же рядом в эстетически безразличной форме, как объектом творчества. А в связи с этим ее основной задачей является описание главнейших особенностей эстетически значимых словесных построений сравнительно с прозаическими и выяснение роли этих особенностей в эстетическом обосновании целого [там же].
Здесь Энгельгардт вплотную приближается к одному из главнейших параметров художественного произведения – его целостности. Эстетически значимое произведение всегда представляет собой целое, именно в силу своей целостности оно производит эстетический эффект и именно в силу целостности должно рассматриваться в эстетическом анализе:
В силу этого, поскольку поэтическое произведение всегда представляет собою сложное словесное образование, понятие словесного ряда в его вещной определенности, с которым оперирует эстетика слова, неизбежно должно охватывать не только всю совокупность отдельных элементов этого ряда по их качественному содержанию, но и момент специфической организованности этих качественных содержаний, то есть их структурное единство [там же: 47].
Составные элементы словесного произведения искусства оформляются как целостная и неразложимая структура.
Художественное произведение, подчеркивает далее Энгельгардт, целостно не только по формальному признаку, но и в единстве своего содержания. Отсюда еще один важный вывод для эстетики слова:
Поскольку, с одной стороны, в поэтическом произведении дано эстетическое оформление имманентно-организованного словесного ряда, то есть потенциального словесного образования, постольку, с другой стороны, организующим принципом таких образований являются те системы единоцелостных смыслов, которые ими объемлются, постольку и эти последние, наряду с звуковой формой слова и совокупностью номинативных значений, находят свое эстетическое оформление в поэтическом произведении [Шпет 2007: 48].