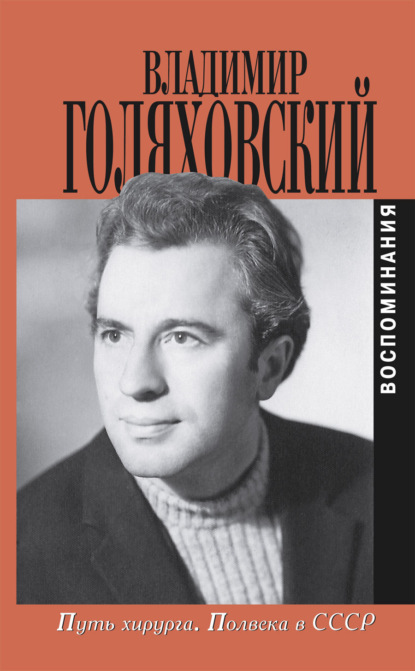По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Путь хирурга. Полвека в СССР
Жанр
Серия
Год написания книги
2006
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И припев:
Эту песню запевает молодежь,
Эту песню не задушишь, не убьешь…
Потом выступали испанцы и наши. Всем понравилось наше с Вахтангом оформление зала. Мы веселились, смеялись и танцевали допоздна – ведь мы были очень молоды.
И пока мы танцевали, из приоткрытой боковой двери Первого отдела полувысовывался капитан Матвеев и пристально всех рассматривал.
Уже под утро мы поймали «левый» грузовик, погрузили в него мои фанерные эмблемы, залезли в кузов и повезли их на склад на Арбатской площади. Со мной поехала Роза и еще одна влюбленная пара – Миша Рубашов и Рая Карагодская. Сладкое было гулянье по еще не проснувшейся Москве – мое последнее гулянье с Розой.
Первая история болезни
Первое появление в больнице – мы в клинике внутренних болезней (терапии), в старинном трехэтажном здании на улице Петровке, где был Государственный институт физиотерапии (ГИФ). Мы надели принесенные докторские халаты, купленные заранее, и обязательные белые шапочки и жались в углу вестибюля – выглядели, наверное, смешно. Сверху по лестнице быстрой походкой на коротких ногах, в развевающемся белом халате скатился маленький полноватый человек лет за сорок. На его лысой голове бордюр черных волос.
– Вы четверрртая гррруппа? – спросил он, картавя.
Мы дружно закивали.
– Я – Гррригорий Михайлович Вильвилевич, ассистент кафедррры пррропедевтики. Буду весь семестррр заниматься с вами. Берррите ваши сумки и следуйте за мной.
Преподавателей-евреев в институте оставалось все меньше. Мы шли быстро за ним и оглядывались вокруг. На втором этаже он ввел нас в одну из комнат:
– По пррреданию, здесь в 1812 году ночевал Наполеон, когда ему пррришлось бежать от пожаррра в Кррремле. Этому дому двести лет, он был дворррцом московского грррадоначальника грррафа Апррраксина. Интеррресно?
Интересно, конечно: Наполеон, а теперь – мы. По краям высокого потолка еще видны расписанные полустертые цветы, очевидно, остаток тех времен. Может, на них тоже смотрел Наполеон? Что он думал в этой самой комнате, убегая с позором из Москвы? Только подумав об этом, я заметил через открытую дверь трех проходивших молодых женщин-врачей. Они были яркие, привлекательные, стройные, как на подбор. Халаты и юбки на них короткие – до колен, так что открывали красивые, стройные ноги. Это сразу отвлекло меня от Наполеона. Я вспомнил строки Пушкина из «Евгения Онегина»:
…….только вряд
Найдете вы в России целой
Три пары стройных женских ног…
Каким образом эти три пары все очутились здесь? Это тоже было интересно. (Позже я узнал, что директор ГИФ профессор Александр Леонидович Мясников, мощная фигура советской медицины того времени, славился двумя чертами: нелюбовью к евреям и пристрастием к красивым женщинам; по этим принципам он и подбирал себе кадры.)
На наше счастье, от доктора Вильвилевича он еще не успел избавиться – потому что для нас тот оказался очень хорошим первым учителем медицины. Что такое хороший учитель в практической медицине? В любом обучении между учителем и учеником есть прямая связь: учитель объясняет, рассказывает – ученик запоминает. Но не так в практической медицине: в ней между учителем и учеником находится третье, промежуточное лицо – пациент, больной человек. И этот больной очень заинтересован, чтобы его лечили, а не беспокоили, чтобы на нем не упражнялись неопытные ученики. Когда я учился, еще не было никаких вспомогательных технических пособий, которые имитировали бы живых пациентов: строение их тел, плотность, звуки шумов внутренних органов, их положение внутри и объем. Все изучалось на больном человеке. А обучение основам медицины – это не только показ и объяснение, это еще и начало практики – надо все самому трогать руками, надо выстукивать пальцами границы сердца и легких (перкуссия), выслушивать шумы сердца и дыхания стетоскопом (аускультация), двумя руками мять живот, обследуя печень, почки, селезенку и кишечник (пальпирование). Даже прямую кишку тоже надо обследовать пальцем (в резиновой перчатке, конечно).
Вильвилевич обучал нас абсолютно всему – «с азов». Началом этого было само поведение врача с больным. Палаты бывшего Апраксинского дворца были большие – на десять и больше кроватей. Кроме железных коек и тумбочек, никакого дополнительного оборудования в палатах не было – ни подводки кислорода, ни аппаратов для измерения кровяного давления, ни мониторов. Были только доктор и ходившая позади него сестра. Мы робкой цепочкой шли за ними, становились вокруг постели больного и наблюдали. Доктор подходил по очереди к больным, здоровался, садился на край кровати и участливо задавал вопросы. Видно было, что больные не просто ждали его обхода, но и радовались его приближению. Беседуя с ними, он оглядывался, мимикой приглашая нас слушать. Потом он красивыми, плавными движениями начинал обследования. Он умел так показать нам пример общения с больными и обследование, что мы сразу запоминали эту манеру поведения и движения его рук. Перед нами был добрый, внимательный доктор старого образца – этому стоило поучиться.
Под его руководством мы сами должны были делать то же самое. Он заботливо держал свои руки над нашими и помогал. Ни у меня, ни у других сразу ничего не получалось, но больные на нас не сердились, терпеливо улыбались: они уважали доктора и его учеников. После обследования он диктовал назначения сестре и объяснял их больным:
– Запишите этого больного (всегда называя его по имени) на рррентген легких, – поворачиваясь к больному, – дыхание у вас сегодня лучше, для пррроверррки надо сделать рррентген и сррравнить снимок с пррредыдущим.
– Отменить этому больному (опять по имени) камфоррру, – поворачиваясь к нему, – ваше серррдце настолько окрррепло, что камфоррра вам больше не нужна.
После обхода в учебной комнате он корректно делал нам свои замечания по неумелым нашим действиям, рассказывал о значении тщательного собирания истории заболевания и всей истории жизни больного – его анамнеза, приводил интересные случаи из своей практики. Мы слушали, буквально раскрыв рты – вот как это важно! А он при этом добавлял:
– В этом изучении пррриоритет пррринадлежит великим рррусским врррачам и ученым Боткину, Захарррьину и Филатову.
Нам надо было научиться ориентироваться не только в частоте пульса, но и в его наполнении и напряжении. Вильвилевич рассказал нам историю этого обследования:
– Перррвый, кто это описал, был ррримский врач Гален, во вторрром веке, он лечил имперрратора Марррка
Аврррелия, чья золоченая статуя стоит на Капитолийском холме в Ррриме, – и при этом добавлял. – Но надо помнить, мои молодые дрррузья, что настоящий пррриоррритет в изучении пульсовых волн имеют великие рррусские ученые Захарррьин и Боткин. Им в этом пррринадлежит самая большая заслуга.
Мы уже привыкли, что на всех кафедрах нас пичкали «русским приоритетом» с навязшими в ушах именами, и воспринимали это как необходимость.
Вильвилевич обучал нас измерять кровяное давление – сначала на нас самих, а потом на больных. Мы неловко надевали друг другу манжетки на руки и с напряженными лицами старались услышать звуки биения пульсовой волны, он вежливо поправлял:
– Нет, нет – не так! Если делать, как вы, то фигмоскоп (аппарат для измерения) всем вам намеррряет гиперрртонию и мне пррридется всю гррруппу срррочно класть в больницу.
Мы начинали хохотать, и он тоже весело смеялся за нами. Доктор Вильвилевич так нам всем нравился, что мы прозвали его «доктор высшего пилотажа». Да, у него можно было поучиться, как стать хорошим врачом.
Единственное, что нас в нем удивляло, это его поведение рядом с профессорами. Всегда быстрый, уверенный и бодрый, в разговорах с ними он как бы тушевался и начинал лебезить, говорил скороговоркой – «да, да, конечно, вы соверрршенно пррравы». Заведующим кафедрой был недавно назначен профессор Нестеров. Он приехал откуда-то из провинции и сел в кабинет уволенного профессора-еврея (потом Нестеров сумел сделать блестящую карьеру – стал академиком без блестящих научных работ). Когда Мясников или Нестеров проходили по коридору или входили в аудиторию для чтения лекций, Вильвилевич бледнел, отступал в сторону и становился чуть ли не по стойке «смирно». А если профессор что-то спрашивал, то голос нашего учителя понижался, он отвечал неуверенно и тихо, будто был готов тут же отказаться от того, что сказал. Может, не все из нас это замечали, но я понимал – прекрасный наш учитель смертельно боялся, что его могут уволить, как уволили его бывшего шефа-еврея. А он рассказывал нам, что у него двое детей-школьников. Ясно, что ему надо их растить. Но страшная сила зависимости довлела над ним: захоти они его уволить – ничто не могло бы его спасти, никакое врачебное и преподавательское искусство «высшего пилотажа». Этот дамоклов меч висел над всеми докторами-евреями.
Зато мы видели, что докторицы со стройными ногами всегда запросто подходили к профессорам, кокетливо им улыбались, выставляя, как бы невзначай, светлые коленки в капроновых чулках. Они игриво-наивно спрашивали их о чем-нибудь по своим больным и потом наигранно и громко восхищались их ответами:
– Как это правильно, как мудро! А я не подумала. Спасибо вам, спасибо, профессор!
Профессора одаряли их покровительственными улыбками.
По программе обучения каждому студенту необходимо было написать историю болезни одного больного – от начала и до конца, не заглядывая в больничную историю. Написать «хорошую историю» было предметом нашей гордости и первого врачебного тщеславия. Для этого мы читали учебник и беседовали с Вильвилевичем. Он хорошо знал научную литературу и рекомендовал нам статьи в журналах. Мы ходили в библиотеку и листали журналы. Я часто видел дома, как отец читал медицинские журналы, что-то в них отмечая. Первое чтение медицинских журналов давало мне ощущение, что и я почти врач.
Вильвилевич «раздал» нам больных и вежливо объяснил им, для чего нас привел. Мне досталась худая изможденная женщина шестидесяти пяти лет – Анна Михайловна Тихомирова (я помню ее имя потому, что сохранил свою первую историю болезни). Она лежала в больнице уже месяц и насмотрелась на студентов, поэтому всю неделю беседовала со мной без недовольства, рассказывала все, о чем я расспрашивал, безропотно поднимала рубашку и давала слушать сердце и легкие и ощупывать живот.
Была она из крестьянской семьи, пошла работать на производство в девять лет (меня это поразило), в двенадцать лет стала ткачихой (еще более удивительно), работа тяжелая, всегда на ногах. Полагались вопросы: начало менструаций, начало половой жизни, число беременностей и родов. Уж как я ни стеснялся, но обойти эти вопросы нельзя было. Она спокойно рассказала:
– Менструации с пятнадцати лет, в шестнадцать стала спать с мужчиной, в семнадцать вышла за него замуж. Потом его убили на первой русско-немецкой войне. Беременностей у меня было всего семь, но растить больше чем двоих детей я одна не могла, поэтому родов только двое, а другие пять я делала аборты у знакомой акушерки.
Передо мной вставала история тяжелой и горькой женской судьбы, типичной для начала XX века. Узнав все это, я уже подходил к ней не как просто к больной, но как к человеку, к личности. После аускультации, перкуссии и пальпации я прочел данные ее анализов и поставил диагноз: инфекционный паренхиматозный гепатит – болезнь Боткина. Я переписал все это очень аккуратно и отдал тетрадь доктору Вильвилевичу. Но правильный ли мой диагноз? Не ошибся ли я? Какую оценку он мне поставит?
На следующем занятии он отдал мою тетрадь. Внизу стояла оценка «5» – отлично и подпись. Это была моя первая медицинская оценка. Я многому научился у доктора Вильвилевича, а самое главное – что нужно, чтобы стать хорошим доктором.
Правда жизни и романтика поэзии
Каждую осень почти поголовно все жители городов были обязаны выезжать в колхозы – помогать колхозникам в уборке картошки. Хотя сельское население составляло две трети всех жителей страны, но колхозное хозяйство всегда было отсталым, а после войны деревни пришли в упадок: мужчин не хватало – многие погибли или вернулись инвалидами, а здоровые и молодые стремились в города. Бабы-колхозницы с уборкой картошки сами не справлялись. В других республиках Советского Союза горожане обязаны были помогать убирать урожаи местных культур: в Узбекистане все собирали хлопок, в Грузии собирали чай – так было повсюду.
Нас, студентов, целыми курсами снимали с занятий и посылали на неделю «на картошку» в близкие районы. Спорить не приходилось – это организовывал и строго за этим следил партийный комитет. Мы были молодые и веселые, для нас это было своеобразным развлечением: перерыв в монотонной учебе, физическая работа на воздухе, и можно было налопаться картошки «от пуза», для многих это тоже было немаловажно.
Мы одевались в какое-нибудь старое тряпье, запасались продуктами (в деревнях ничего не было) и представляли собой живописную толпу оборванцев. Но мы были веселы, ехали в тесных вагонах – паровоз дымил и чадил, а мы распевали студенческие песни:
С похмелья в древности глубокой
Придумал медицину Гиппократ.
Чтоб мы ее учили, чтоб мы ее зубрили
Полдесятилетия подряд…
Возня с картошкой в глинистой осенней земле утомительна, а отдыхать было негде – жили мы в примитивных условиях по пять-шесть человек в крестьянских избах, спали на полу, мыться и даже бриться было негде. Там мы насмотрелись на тяжелую и грустную правду советской жизни: колхозники жили в нищих условиях и работали как крепостные, получая крохи за трудодни. Однажды вечером, выпив нашей водки, немолодая хозяйка избы разоткровенничалась и спела нам с Борисом местную частушку:
Ах, спасибо Сталину —
Жить счастливо стали мы:
Я и лошадь, я и бык,
Я и баба, и мужик.
Эту песню запевает молодежь,
Эту песню не задушишь, не убьешь…
Потом выступали испанцы и наши. Всем понравилось наше с Вахтангом оформление зала. Мы веселились, смеялись и танцевали допоздна – ведь мы были очень молоды.
И пока мы танцевали, из приоткрытой боковой двери Первого отдела полувысовывался капитан Матвеев и пристально всех рассматривал.
Уже под утро мы поймали «левый» грузовик, погрузили в него мои фанерные эмблемы, залезли в кузов и повезли их на склад на Арбатской площади. Со мной поехала Роза и еще одна влюбленная пара – Миша Рубашов и Рая Карагодская. Сладкое было гулянье по еще не проснувшейся Москве – мое последнее гулянье с Розой.
Первая история болезни
Первое появление в больнице – мы в клинике внутренних болезней (терапии), в старинном трехэтажном здании на улице Петровке, где был Государственный институт физиотерапии (ГИФ). Мы надели принесенные докторские халаты, купленные заранее, и обязательные белые шапочки и жались в углу вестибюля – выглядели, наверное, смешно. Сверху по лестнице быстрой походкой на коротких ногах, в развевающемся белом халате скатился маленький полноватый человек лет за сорок. На его лысой голове бордюр черных волос.
– Вы четверрртая гррруппа? – спросил он, картавя.
Мы дружно закивали.
– Я – Гррригорий Михайлович Вильвилевич, ассистент кафедррры пррропедевтики. Буду весь семестррр заниматься с вами. Берррите ваши сумки и следуйте за мной.
Преподавателей-евреев в институте оставалось все меньше. Мы шли быстро за ним и оглядывались вокруг. На втором этаже он ввел нас в одну из комнат:
– По пррреданию, здесь в 1812 году ночевал Наполеон, когда ему пррришлось бежать от пожаррра в Кррремле. Этому дому двести лет, он был дворррцом московского грррадоначальника грррафа Апррраксина. Интеррресно?
Интересно, конечно: Наполеон, а теперь – мы. По краям высокого потолка еще видны расписанные полустертые цветы, очевидно, остаток тех времен. Может, на них тоже смотрел Наполеон? Что он думал в этой самой комнате, убегая с позором из Москвы? Только подумав об этом, я заметил через открытую дверь трех проходивших молодых женщин-врачей. Они были яркие, привлекательные, стройные, как на подбор. Халаты и юбки на них короткие – до колен, так что открывали красивые, стройные ноги. Это сразу отвлекло меня от Наполеона. Я вспомнил строки Пушкина из «Евгения Онегина»:
…….только вряд
Найдете вы в России целой
Три пары стройных женских ног…
Каким образом эти три пары все очутились здесь? Это тоже было интересно. (Позже я узнал, что директор ГИФ профессор Александр Леонидович Мясников, мощная фигура советской медицины того времени, славился двумя чертами: нелюбовью к евреям и пристрастием к красивым женщинам; по этим принципам он и подбирал себе кадры.)
На наше счастье, от доктора Вильвилевича он еще не успел избавиться – потому что для нас тот оказался очень хорошим первым учителем медицины. Что такое хороший учитель в практической медицине? В любом обучении между учителем и учеником есть прямая связь: учитель объясняет, рассказывает – ученик запоминает. Но не так в практической медицине: в ней между учителем и учеником находится третье, промежуточное лицо – пациент, больной человек. И этот больной очень заинтересован, чтобы его лечили, а не беспокоили, чтобы на нем не упражнялись неопытные ученики. Когда я учился, еще не было никаких вспомогательных технических пособий, которые имитировали бы живых пациентов: строение их тел, плотность, звуки шумов внутренних органов, их положение внутри и объем. Все изучалось на больном человеке. А обучение основам медицины – это не только показ и объяснение, это еще и начало практики – надо все самому трогать руками, надо выстукивать пальцами границы сердца и легких (перкуссия), выслушивать шумы сердца и дыхания стетоскопом (аускультация), двумя руками мять живот, обследуя печень, почки, селезенку и кишечник (пальпирование). Даже прямую кишку тоже надо обследовать пальцем (в резиновой перчатке, конечно).
Вильвилевич обучал нас абсолютно всему – «с азов». Началом этого было само поведение врача с больным. Палаты бывшего Апраксинского дворца были большие – на десять и больше кроватей. Кроме железных коек и тумбочек, никакого дополнительного оборудования в палатах не было – ни подводки кислорода, ни аппаратов для измерения кровяного давления, ни мониторов. Были только доктор и ходившая позади него сестра. Мы робкой цепочкой шли за ними, становились вокруг постели больного и наблюдали. Доктор подходил по очереди к больным, здоровался, садился на край кровати и участливо задавал вопросы. Видно было, что больные не просто ждали его обхода, но и радовались его приближению. Беседуя с ними, он оглядывался, мимикой приглашая нас слушать. Потом он красивыми, плавными движениями начинал обследования. Он умел так показать нам пример общения с больными и обследование, что мы сразу запоминали эту манеру поведения и движения его рук. Перед нами был добрый, внимательный доктор старого образца – этому стоило поучиться.
Под его руководством мы сами должны были делать то же самое. Он заботливо держал свои руки над нашими и помогал. Ни у меня, ни у других сразу ничего не получалось, но больные на нас не сердились, терпеливо улыбались: они уважали доктора и его учеников. После обследования он диктовал назначения сестре и объяснял их больным:
– Запишите этого больного (всегда называя его по имени) на рррентген легких, – поворачиваясь к больному, – дыхание у вас сегодня лучше, для пррроверррки надо сделать рррентген и сррравнить снимок с пррредыдущим.
– Отменить этому больному (опять по имени) камфоррру, – поворачиваясь к нему, – ваше серррдце настолько окрррепло, что камфоррра вам больше не нужна.
После обхода в учебной комнате он корректно делал нам свои замечания по неумелым нашим действиям, рассказывал о значении тщательного собирания истории заболевания и всей истории жизни больного – его анамнеза, приводил интересные случаи из своей практики. Мы слушали, буквально раскрыв рты – вот как это важно! А он при этом добавлял:
– В этом изучении пррриоритет пррринадлежит великим рррусским врррачам и ученым Боткину, Захарррьину и Филатову.
Нам надо было научиться ориентироваться не только в частоте пульса, но и в его наполнении и напряжении. Вильвилевич рассказал нам историю этого обследования:
– Перррвый, кто это описал, был ррримский врач Гален, во вторрром веке, он лечил имперрратора Марррка
Аврррелия, чья золоченая статуя стоит на Капитолийском холме в Ррриме, – и при этом добавлял. – Но надо помнить, мои молодые дрррузья, что настоящий пррриоррритет в изучении пульсовых волн имеют великие рррусские ученые Захарррьин и Боткин. Им в этом пррринадлежит самая большая заслуга.
Мы уже привыкли, что на всех кафедрах нас пичкали «русским приоритетом» с навязшими в ушах именами, и воспринимали это как необходимость.
Вильвилевич обучал нас измерять кровяное давление – сначала на нас самих, а потом на больных. Мы неловко надевали друг другу манжетки на руки и с напряженными лицами старались услышать звуки биения пульсовой волны, он вежливо поправлял:
– Нет, нет – не так! Если делать, как вы, то фигмоскоп (аппарат для измерения) всем вам намеррряет гиперрртонию и мне пррридется всю гррруппу срррочно класть в больницу.
Мы начинали хохотать, и он тоже весело смеялся за нами. Доктор Вильвилевич так нам всем нравился, что мы прозвали его «доктор высшего пилотажа». Да, у него можно было поучиться, как стать хорошим врачом.
Единственное, что нас в нем удивляло, это его поведение рядом с профессорами. Всегда быстрый, уверенный и бодрый, в разговорах с ними он как бы тушевался и начинал лебезить, говорил скороговоркой – «да, да, конечно, вы соверрршенно пррравы». Заведующим кафедрой был недавно назначен профессор Нестеров. Он приехал откуда-то из провинции и сел в кабинет уволенного профессора-еврея (потом Нестеров сумел сделать блестящую карьеру – стал академиком без блестящих научных работ). Когда Мясников или Нестеров проходили по коридору или входили в аудиторию для чтения лекций, Вильвилевич бледнел, отступал в сторону и становился чуть ли не по стойке «смирно». А если профессор что-то спрашивал, то голос нашего учителя понижался, он отвечал неуверенно и тихо, будто был готов тут же отказаться от того, что сказал. Может, не все из нас это замечали, но я понимал – прекрасный наш учитель смертельно боялся, что его могут уволить, как уволили его бывшего шефа-еврея. А он рассказывал нам, что у него двое детей-школьников. Ясно, что ему надо их растить. Но страшная сила зависимости довлела над ним: захоти они его уволить – ничто не могло бы его спасти, никакое врачебное и преподавательское искусство «высшего пилотажа». Этот дамоклов меч висел над всеми докторами-евреями.
Зато мы видели, что докторицы со стройными ногами всегда запросто подходили к профессорам, кокетливо им улыбались, выставляя, как бы невзначай, светлые коленки в капроновых чулках. Они игриво-наивно спрашивали их о чем-нибудь по своим больным и потом наигранно и громко восхищались их ответами:
– Как это правильно, как мудро! А я не подумала. Спасибо вам, спасибо, профессор!
Профессора одаряли их покровительственными улыбками.
По программе обучения каждому студенту необходимо было написать историю болезни одного больного – от начала и до конца, не заглядывая в больничную историю. Написать «хорошую историю» было предметом нашей гордости и первого врачебного тщеславия. Для этого мы читали учебник и беседовали с Вильвилевичем. Он хорошо знал научную литературу и рекомендовал нам статьи в журналах. Мы ходили в библиотеку и листали журналы. Я часто видел дома, как отец читал медицинские журналы, что-то в них отмечая. Первое чтение медицинских журналов давало мне ощущение, что и я почти врач.
Вильвилевич «раздал» нам больных и вежливо объяснил им, для чего нас привел. Мне досталась худая изможденная женщина шестидесяти пяти лет – Анна Михайловна Тихомирова (я помню ее имя потому, что сохранил свою первую историю болезни). Она лежала в больнице уже месяц и насмотрелась на студентов, поэтому всю неделю беседовала со мной без недовольства, рассказывала все, о чем я расспрашивал, безропотно поднимала рубашку и давала слушать сердце и легкие и ощупывать живот.
Была она из крестьянской семьи, пошла работать на производство в девять лет (меня это поразило), в двенадцать лет стала ткачихой (еще более удивительно), работа тяжелая, всегда на ногах. Полагались вопросы: начало менструаций, начало половой жизни, число беременностей и родов. Уж как я ни стеснялся, но обойти эти вопросы нельзя было. Она спокойно рассказала:
– Менструации с пятнадцати лет, в шестнадцать стала спать с мужчиной, в семнадцать вышла за него замуж. Потом его убили на первой русско-немецкой войне. Беременностей у меня было всего семь, но растить больше чем двоих детей я одна не могла, поэтому родов только двое, а другие пять я делала аборты у знакомой акушерки.
Передо мной вставала история тяжелой и горькой женской судьбы, типичной для начала XX века. Узнав все это, я уже подходил к ней не как просто к больной, но как к человеку, к личности. После аускультации, перкуссии и пальпации я прочел данные ее анализов и поставил диагноз: инфекционный паренхиматозный гепатит – болезнь Боткина. Я переписал все это очень аккуратно и отдал тетрадь доктору Вильвилевичу. Но правильный ли мой диагноз? Не ошибся ли я? Какую оценку он мне поставит?
На следующем занятии он отдал мою тетрадь. Внизу стояла оценка «5» – отлично и подпись. Это была моя первая медицинская оценка. Я многому научился у доктора Вильвилевича, а самое главное – что нужно, чтобы стать хорошим доктором.
Правда жизни и романтика поэзии
Каждую осень почти поголовно все жители городов были обязаны выезжать в колхозы – помогать колхозникам в уборке картошки. Хотя сельское население составляло две трети всех жителей страны, но колхозное хозяйство всегда было отсталым, а после войны деревни пришли в упадок: мужчин не хватало – многие погибли или вернулись инвалидами, а здоровые и молодые стремились в города. Бабы-колхозницы с уборкой картошки сами не справлялись. В других республиках Советского Союза горожане обязаны были помогать убирать урожаи местных культур: в Узбекистане все собирали хлопок, в Грузии собирали чай – так было повсюду.
Нас, студентов, целыми курсами снимали с занятий и посылали на неделю «на картошку» в близкие районы. Спорить не приходилось – это организовывал и строго за этим следил партийный комитет. Мы были молодые и веселые, для нас это было своеобразным развлечением: перерыв в монотонной учебе, физическая работа на воздухе, и можно было налопаться картошки «от пуза», для многих это тоже было немаловажно.
Мы одевались в какое-нибудь старое тряпье, запасались продуктами (в деревнях ничего не было) и представляли собой живописную толпу оборванцев. Но мы были веселы, ехали в тесных вагонах – паровоз дымил и чадил, а мы распевали студенческие песни:
С похмелья в древности глубокой
Придумал медицину Гиппократ.
Чтоб мы ее учили, чтоб мы ее зубрили
Полдесятилетия подряд…
Возня с картошкой в глинистой осенней земле утомительна, а отдыхать было негде – жили мы в примитивных условиях по пять-шесть человек в крестьянских избах, спали на полу, мыться и даже бриться было негде. Там мы насмотрелись на тяжелую и грустную правду советской жизни: колхозники жили в нищих условиях и работали как крепостные, получая крохи за трудодни. Однажды вечером, выпив нашей водки, немолодая хозяйка избы разоткровенничалась и спела нам с Борисом местную частушку:
Ах, спасибо Сталину —
Жить счастливо стали мы:
Я и лошадь, я и бык,
Я и баба, и мужик.