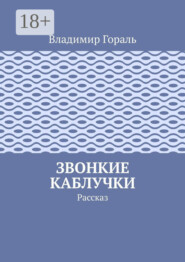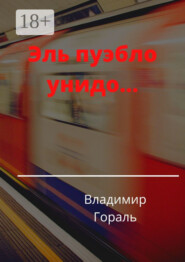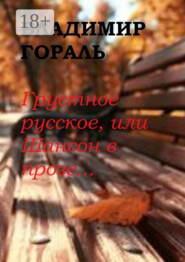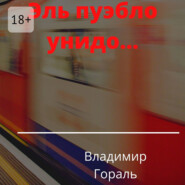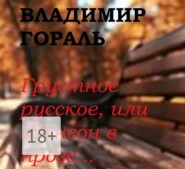По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дознание капитана Сташевича
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
* * *
«Как тогда Гришаня это своё зелье представил? – выйдя после разговора с женой на крыльцо лазарета, вспоминал Андрей. – Тут у меня, товарищ капитан, два мешка табака курительного. Амерфорская сандаловая махорка! Поставка военная английская, ленд-лизовская. Говорят, где-то в Северной Индии её выращивают. Духовитая, злая как собака. Любой самый что ни на есть вонючий запах перешибает! Наш самосад по сравнению с ней – детская забава…»
– С табаком понятно, – продолжил дедуктировать Сташевич. – Гришаня наперёд всё продумал. Он своим заморским табачком лагерных собачек-ищеек от дома Поплавских отвадил. Наверняка Бабр тогда с кинологом на место происшествия прибыл. Не позаботься Гришаня о табаке, ищейки прямиком к нему домой, а то и на склад бы привели! Бьюсь об заклад, но Ефимыч махорочку эту не только в подполе, но и у крыльца дома обильно посеял. Схожу-ка я на продсклад. Навещу для начала нашего симпатягу Гришаню. Там посмотрим: сразу начать колоть Ефимыча или подождать немного.
Выглядел Аполлинарий Ефимович, надо сказать, неважно. Постарел, осунулся, да и привычная его весёлость вместе с обаянием куда-то подевались. И рукопожатие у Гришани тоже было так себе, не то что прежде. Не энергичное, а какое-то вялое, неуверенное.
– Ты как, вообще? – ловя ускользающий взгляд Гришани, озабоченно осведомился Сташевич. – Выглядишь не очень, Ефимыч! Не заболел?
– Приветствую, товарищ капитан! С возвращением! – даже не улыбнувшись, поздоровался Гришаня со Сташевичем.
– М-да! Сдал мужик! Что это? Неужели муки совести? – увидев такие перемены, удивился про себя Сташевич. Вслух заметил иное: – Никак хвораешь?
– И то правда, товарищ капитан! – с грустным вздохом согласился начпрод. – Приболел я что-то. Сплю плохо. Нервы, видать! Всё кошмары какие-то мерещатся! По семье, жене и деткам, видать, стосковался. Убываю я, товарищ капитан, днями домой на большую землю. Товарищ майор Бабр меня сначала и слушать не хотел, заявление моё на увольнение порвал. А потом, видать, пожалел, на меня глядючи – подписал…
– Странно, – изобразил удивление Сташевич. – Мы же с тобой фронтовики, Ефимыч. Какие у нас могут быть нервы? Ты ещё скажи, что у тебя мигрени разыгрались, как у барышни!
– Точно! И мигрени тоже! – печально усмехнулся Гришаня. – Старею, видать. А что здесь? Осточертело всё. Даже дом здешний мне опостылел. Не могу там жить. Я последнее время к себе – на продсклад переселился. Думал, полегче станет. Да какое там! Ещё хуже! Ну да завтра всё кончится! Распрощаемся с вами, товарищ капитан. Товарищ майор Бабр шофёра мне выделил. Завтра на его грузовичке-япончике меня в район отвезут. С ветерком…
* * *
Ранним утром Сташевич и начлагеря Бабр в сопровождении шофёра Семёна пришли проводить в дальнюю дорогу симпатягу начпрода. Попрощаться с Гришаней, как ни странно, больше никто не явился. Вопреки ожиданиям вещей у отбывающего оказалось с собой немного. Небольшой баул да маленький коричневый фибровый чемоданчик. С последним, словно это было невесть какое сокровище, начпрод практически не расставался. Даже на землю не ставил. Постоянно держал при себе, крепко сжимая в правой руке дерматиновую ручку.
Неожиданно Сташевич шагнул к Гришане и, протянув руку к чемодану, попросил:
– Разреши, Ефимыч?
– Чего? Это зачем ещё? – забеспокоился мгновенно побледневший начпрод.
– Действительно, капитан! Зачем? – машинально потирая простреленное неделю назад плечо, удивился Бабр.
– А вот гражданин Гришаня нам сейчас всё и пояснит! – заявил Сташевич. – А заодно объяснит степень своей причастности к смерти Елены Поплавской с дочерью!
– Что-о? – выпучив глаза, протянул оторопевший от происходящего Бабр.
Капитан подошёл к начпроду и попытался вытащить из потной ладони Ефимыча зажатую в ней ручку злосчастного чемодана. Тот вдруг проявил неожиданную прыть. Оттолкнув Андрея, Гришаня отскочил в сторону. Свободной рукой он выхватил из кармана пиджака маленький серебристый пистолет и направил его на капитана.
– Дамский браунинг, – автоматически отметил про себя Андрей. – На таком небольшом расстоянии штучка вполне эффективная.
– Не подходи! Убью! – прошипел начпрод. Не отводя злобных глаз от Сташевича, он бросил стоящему неподалёку обомлевшему шофёру: – Семён! Ключи от грузовика! Кидай мне под ноги!
Шофёр нетвёрдой рукой выполнил приказание. Маленький и нетяжёлый ключ зажигания от престарелой «японочки» «Курогане» не долетел до указанного места. Он упал ровно посередине между Андреем и Гришаней.
– Чёрт полорукий! – сквозь зубы обругал шофёра начпрод.
Не сводя глаз с капитана, Гришаня сделал несколько осторожных шагов ему навстречу. Начпрод поставил свой драгоценный чемоданчик на землю и медленно, чтобы поднять ключ, присел на корточки. Он был уверен, что контролирует ситуацию, поскольку дуло его браунинга по-прежнему было нацелено в грудь Сташевичу. В этом состояла роковая ошибка Ефимыча!
Бывший интендант пехотного полка легкомысленно сократил дистанцию с безоружным, но слишком опасным для себя противником. Бывший фронтовой разведчик Сташевич «качнул маятник». Неожиданно всем корпусом он подался вправо и почти одновременно с прогремевшим выстрелом резко ушёл влево. Опережая следующую пулю, капитан упал на землю. Своими длинными ногами, словно ножницами, он подсёк и мгновенно опрокинул навзничь буйного начпрода.
– Стоять, мать твою! Ку-урва шустра! – сопроводил Андрей темпераментным русско-польским шипением успешное окончание дела.
* * *
Словно заклёванный в драке петух, взъерошенный Гришаня сидел на ступеньке так и не угнанного им грузовичка «Курогане». Был он весь какой-то помятый и с подбитым глазом. Правая рука висела у тускло-зелёной двери машины, пристёгнутая воронёным «браслетом» к ручке. Предвидя подобное развитие событий, наручники капитан Сташевич приготовил заранее.
А глаз задержанному начпроду сгоряча подбил начлагеря Бабр. После глаза он собирался продолжить, чтобы посредством здоровой руки изрядно намять бока Ефимычу. Однако Андрею силой и уговорами удалось остановить этот бабровский самосуд. Впрочем, это заняло какое-то время, так что преступник успел получить свою порцию увесистых «люлей».
– Любовь Михайловна! Семён! Товарищ майор! Подойдите, пожалуйста, ближе, граждане понятые, – почти торжественно произнёс Сташевич.
В свой законный выходной поднятая ни свет ни заря, моргая заспанными недоумевающими глазами, повариха Любовь Михайловна покорно выполнила указание начальства. Растерзанный, со вскрытой подкладкой чемоданчик Гришани явил Сташевичу с Бабром, а также гражданам понятым сравнительно немного. Начпрод за каким-то лешим упаковал в этот чемодан увесистый, килограмма на четыре, мешок с никому не нужной «аморфорской» махоркой.
– Ефимыч, похоже, совсем сбрендил! – удивлялся про себя капитан. – Он что, и дальше, по дороге в Иркутск, собирался следы этим табаком заметать?
Кроме табака в чемоданчике оказалась пара увесистых пачек советских денег. Спрятанная в этом табаке, завёрнутая в полотенце, купюрами тридцать седьмого года и номиналом в десять червонцев[31 - Советский червонец 1937 года имел хождение на территории СССР до начала денежной реформы 1947 года. Один червонец приравнивался к 10 советским рублям.] каждая, кучка денег порадовала глаза сыщиков.
«Понятно, что это деньги от Каплана. Двадцать тысяч рублей! Сумма огромная! – нервно размышлял Андрей. – Больше, чем годовая зарплата главного инженера большого завода в Центральной России. На такую сумму с нелегальной доплатой и при посредстве чёрного маклера можно приобрести отдельную квартиру в любом небольшом городе. А если вполне законно, то добротный деревенский домик или приличную дачу в пригороде. Говорят, в Советском Союзе богачей нет! А ведь это не так! Всякое бывает! У меня одноклассник Славка Семёнов, простой геолог, за успешную разведку месторождения редкоземельных металлов квартиру в центре Москвы и премию полмиллиона рублей получил! Да, но Гришаня-то не геолог! Да и колечки с серёжками, сданные Каплану у Ефимыча, откуда? Трофеи из Германии? Скорее всего! Он ведь воевал, интендант чёртов, или вроде того!»
Стоящий в сторонке неприметный баул Гришани оказался более тороват. В его недрах среди исподнего и нехитрой закуски нашёлся заветный узелок с шестью алмазными кольцами, тремя парами серёг и ещё парой массивных золотых браслетов с камешками.
«Криминал? Без сомнения! Значит, не все ценности Ефимыч сдал в иркутский ломбард, – поглядывая в сторону нахохлившегося Гришани, продолжал размышлять Сташевич. – Вооружённое сопротивление при задержании на нём уже есть, а вот всё прочее – это ещё доказывать надо. Ефимыч, конечно, не самый великий миллионщик! Копни нынче каждого третьего снабженца, ещё не такое богатство сыщется! Но ведь кроме этого что-то более важное должно найтись! Чувствую, что должно! Только вот что?»
Часть третья
«Призрачная камея»
Вместо пролога
Бравен не любил кинофильмов. Причём сам толком не знал почему. «Ожившие картины» настораживали, да что там – откровенно пугали его с раннего детства. Об этом факте Вальтер, разумеется, не распространялся. Однако в свете вышеизложенного разъезжавшие по фронтовым частям кинопередвижки с откровенно пропагандистскими и развлекательными ностальгически-мирными музыкальными фильмами его ничуть не интересовали. В моменты фронтового затишья, пока товарищи с нескрываемым удовольствием отдавались во власть киноиллюзий, Бравен предпочитал завалиться на свою лежанку в блиндаже с очередной книжкой. Эта очередная «приблудная» книга, чаще всего ужасно потрёпанная, без обложки, начала и конца, с недостатком самых важных и ключевых страниц, именно поэтому казалась особенно желанной, загадочной и интересной.
Став бесправным лагерником, Вальтер возненавидел кино по-настоящему. Просмотр советских кинокартин, специально подобранных для «проходящих социалистическое перевоспитание» пленных немцев, являлся обязательным мероприятием. Бравен просто изнемогал на принудительных сеансах этой примитивной кинопродукции. Бесконечная лениниана, всегда заканчивающаяся прославлением ныне здравствующего усатого вождя и учителя. Дурацкие ярмарочные комедии с ломящимися от яств, мучительно длинными крестьянскими столами, мельтешащие по экрану туповато-весёлые и отвратительно сытые лица советских колхозников. Правду сказать, несколько веселили военные драмы и комедии, где их, немцев, кинематограф победителей изображал в виде бессмысленной орды клинических имбецилов и кретинов. Появление на экране очередного придурка в немецкой форме частенько сопровождалось заметным оживлением в зале, ироническими смешками и даже похрюкиванием.
Когда в лагерь привезли новое «историческое кинополотно» о русском царе Иване Ужасном, Вальтер ожидал увидеть нечто подобное и на этот раз. И правда, фильм поначалу показался ему плохой пародией на провинциальный театр. Тем не менее ближе к середине картина неожиданно начала увлекать Бравена. Тёмные, мрачно-депрессивные, восточно-готические интерьеры русских дворцов. Гротесковый, почти клоунский грим, какие-то неудобные, немыслимые для нормального человека позы актёров. Дерганая мимика и постоянно выпученные глаза персонажей – приметы, свойственные людям скорее душевнобольным, чем здоровым. Бравен по ходу просмотра всё более убеждался в одном: создавая такие гомерические образы, этот знаменитый советский режиссёр, русский еврей Эйзенштейн, подспудно издевался как над самой официозной, сталинской версией русской истории, так и над своими недоучками-цензорами.
Погружаясь в атмосферу картины, в чём-то до болезненности родственную полотнам Иеронима Босха, Вальтер вдруг начал чувствовать всё возрастающую слабость и головокружение. Когда же больной Иван в пароксизме предсмертного ужаса принялся умолять бояр о присяге своему сыну, младенцу Димитрию, Бравен и сам сдал. К сильнейшему головокружению присоединились приступы нутряной тошноты, особенно мучительные для пустого желудка. Впрочем, никто из соседей в полутёмном зале лагерного клуба не обращал внимания на него, скрючившегося на краю длинной скамьи в дальнем углу культбарака.
«Чёртова моя голова! Чёртовы контузии!» – успел подумать Вальтер и потерял сознание одновременно с умирающим на экране сумасшедшим русским царём.
Видение Вальтера Бравена
Генрих фон Бравен
Август 1941-го
Моторизованный зондербатальон СС Gespenst[32 - Gespenst (нем.) – призрак] под командой штурмбанфюрера[33 - Штурмбанфюрер – офицерское звание в СС соответствовало майору вермахта, однако, согласно принятой иерархии, было равнозначно подполковнику.] фон Бравена входил в укрытый летней густой зеленью больничный городок. Батальону для выполнения задания пришлось выдвинуться на юг от города Червены, где подразделение уже проделало огромную работу по зачистке территории от евреев. Наименование места предстоящей спецоперации неподалёку от бывшей границы с Польшей являло собой образец совершенно непроизносимой славянской тарабарщины.
«Окнеф лёк», – Генрих ещё раз попытался воспроизвести вслух это лингвистическое безобразие, но не преуспел, а потому решил, что до конца операции будет именовать этот место попросту «Клиникой».
Остро отточенным карандашом фон Бравен зачеркнул на карте старое то ли украинское, то ли польское название и написал сверху новое немецкое – Klinik. Полюбовавшись с минуту на дело рук своих, Генрих почувствовал себя конкистадором великого рейха, чистильщиком от варваров, расширителем новых жизненных пространств и, наконец, героем германской нации. Эта мысль, как всегда, порадовала комбата и настроила его на рабочий лад.