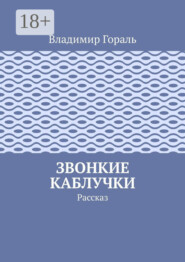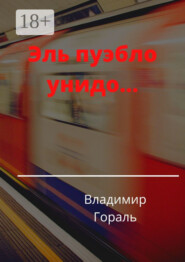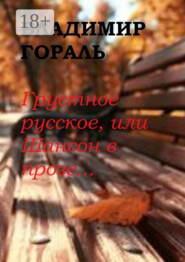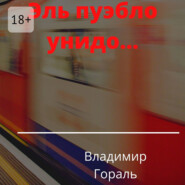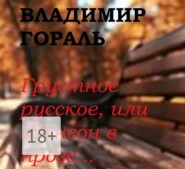По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дознание капитана Сташевича
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Так точно! Она самая! – кивнул Гришаня. – И было у покойничка моего слово крайнее, последняя воля его. Дескать, все колечки и браслетки с серёжками ты, друг Гришаня, себе оставь. А кисет этот с камешком резным передай жене моей Елене Иркутской, в смысле Смирновой-Поплавской. На вечную и добрую память о муже её Войцехе. Чистую правду вам говорю, гражданин капитан! Детками своими клянусь! Так всё и было!
Начлагеря Бабр вдруг побелел лицом. Сжав левую ладонь в огромный волосатый кулак, он с грозной неспешностью начал подниматься со своей табуретки.
– Так, значит, ты, тварь душная, от жадности своей Лену с дитём за эти цацки приговорил? – медленно направляясь в сторону кровати задержанного, с фальшивым спокойствием поинтересовался майор.
Выкатилась из рук Гришани и со стуком ударилась о каменный пол пустая алюминиевая кружка. Сташевич, понимая всю серьёзность момента, встал с тюремной койки, чтобы своим телом преградить путь Бабру.
– Да логика-то у тебя где, Иван Петрович?! – обращаясь к надвигающемуся майору, заполошно заверещал за его спиной Гришаня. – Зачем мне на смертоубийство-то идти? Я ж мог у Лены Поплавской даже не появляться! Кто бы узнал о моём с её мужиком разговоре?
– Может, и так, – вмиг успокоившись, остановился в задумчивости Бабр, – но ведь ты, начпрод, всё одно сейчас крутишь. Врёшь ты, мироед, или важного чего-то недоговариваешь. Я такие вещи за версту чую!
– А я ведь с товарищем майором согласен! – повернулся Сташевич к сжавшемуся в углу койки Гришане. – Хочешь, Аполлинарий Ефимыч, чтобы тебе поверили, выкладывай всё как было, начистоту.
– Скажу! Всю правду! Как на духу! – закивал бледным китайским болванчиком начпрод.
* * *