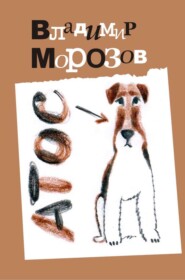По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Самурай. Рождение. День первый
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дальше наблюдать я не стал. Закрыл форточку и задёрнул занавески. Хрен с ним, с колдуном, моё ли это дело, чего он там вытворяет. Да и вообще, утром сам расскажет. А не расскажет, тоже не велика беда. Пирогов-то всё одно поедим. Пирожки-то, небось, черёмные, – сам вчера помогал соседу бычка резать.
Так что пироги непременно с телячьей требушинкой. Кто-кто, а уж ездаковская Галина пироги отменные стряпает. С мыслями о завтрашних пирогах я и полез на полати.
Вроде бы только лёг, на минуту веки смежил, а уже и ночь прошла, и утро за собой увела. Единственное, пожалуй, благо моего нынешнего существования – сон. Будто в яму проваливаюсь, едва голова коснётся подушки. Может чего и снится в это время, да не помню. Вся ночь как единый миг и утром голова ясная и чистая.
***
Ещё глаза не открыл, а запах уже почувствовал – в избе и вправду ядрёно пахло пирогами. Я повернул голову и глянул вниз через щель между занавесками. Вчерашний свёрток лежал на столе. Морозливые узоры на оконных стёклах светились малиновым наливом, и я понял, что солнце всходит. То есть время едва-едва перевалило за девять.
Хозяин дома, несмотря на ночные выкрутасы, уже поднялся и сидел на табуретке посреди избы боком ко мне и смотрел в стенку. Медитировал.
Обычно я вставал гораздо раньше, ещё потемну: топил печь, тащил воду с ключа, и к тому времени, когда приходил срок хозяйским медитациям, воздух в доме несколько нагревался. Сегодня же было довольно-таки ощутимо прохладно даже у меня, в тёплом закутке полатей.
Но этот чёртов чародеец, в одних линялых сатиновых трусах до колен, сидел в позе турка на голой деревянной табуретке и давил взглядом стену. Там, куда он смотрел, ровным счётом ничего не было. Я для верности тот участок раз пять, а то все шесть осматривал. Брёвна да мох между ними. Ни сучка, ни задоринки.
Со стороны казалось, что колдун пытается прожечь взглядом в бревне дыру, да что-то плохо у него получалось. Я, лично, месяца три уже наблюдаю это дело, но на бревне не то что щепки не убыло, даже и тёмного пятнышка не появилось.
Вообще, конечно, интересный мужик этот самый Юрка-колдун, мой хозяин. Правильно про него говорят – двоедушец. Ну да про то как-нибудь в другой раз, при случае и под настроение. Пускай себе медитирует, – занят и ладно, всё, глядишь, лишней работой не гнобит. Самое время мне разобраться в себе самом, в своей памяти или вернее жизни. Что, пожалуй, одно и то же.
Я плотнее завернулся в одеяло и уставился в дощатый потолок.
Прямо перед глазами на доске темнели два коричневых смоляных сучка. Видимо распил прошёлся как раз близко к сердцевине дерева, и потому сучки лежали на одном уровне симметричными косыми овалами. Вокруг них, как это обычно всегда бывает на досках, паутинистой сетью змеились следы годовых колец, мелкие трещины, какие-то невнятные царапины, топорщились задиры.
А я эти сучки будто впервые увидал. А может и на самом деле впервые, потому как и ложился, и вставал – всё потемну. Хотя, скорее всего дело не в темноте, скорее просто время пришло углядеть и вспомнить ещё одну частицу своей жизни, добавив и крупицу памяти. Так что скорее просто созрел, чтоб увидеть.
Балуясь неспешным течением утренней лени, я играючи представил раскосые сучки тёмными женскими глазами и внезапно вздрогнул в мгновенном ознобе. Куда подевались вся истома и вялость мысли, так как непонятность паутины заусениц, трещин и царапин сложилась внезапно в ясную картину. Вернее портрет. Хотя куда уж там вернее, будто портрет, это не картина.
Словом, я отчётливо увидел широкий разлёт бровей над глазами сучков и прямой, с едва заметной кривизной, удлинённый нос. Царапины сами собой сложились в прорисовку мягких губ и очертили не по-женски твёрдый подбородок. Извивы годовых колец легли непокорными прядями рыжих жёстких волос.
Волосы были рыжими и жёсткими на ощупь, будто шерсть сохатого. Я знал это точно. Знание, уверенное и твёрдое, появилось в тот самый миг, лишь только сложился рисунок. Мало того, я знал женщину, чьё лицо было изображено на этом своеобразном портрете. Знал довольно близко. Руки и по сей час помнили жилковую грубость завитков цвета кострового пламени в ночном тумане, но вот на вопрос, где я встречал её, когда, и кто эта женщина, в моей бедной голове не было ни малейшего не только ответа, а и намёка на него.
Вообще, с памятью у меня была серьёзная проблема. До сих пор. Первое время совсем не соображал ни кто я, ни откуда, ни как тут очутился. Тем более уж не в состоянии был отличить здесь от там.
К тому времени, о котором идёт рассказ, я уже мог ответить, кто и откуда. Оставалось – как. Все попытки понять это «как», вспомнить, разобраться, выстроить по порядку во времени, вязли в каком-то глухом, тягучем как подсыхающий глинистый просёлок, резинистом киселе. В туманной той, серой непроходимости плавали какие-то неясные образы, что-то напоминали, навевали какие-то смутные ассоциативные видения.
Это было как сон наяву. При белом свете, с открытыми глазами. Я уже было и рукой на себя махнул, чебурахнулся, – думал, – со всех тех перипетий, что подбросила мне судьба.
То я видел себя серым зайцем посреди ржаного поля, накрытого жестяным тазом грозовой полуночи. Не только видел, но и чувствовал на зубах скользкую молозивную сытность наливающегося зерна. В то же время я ещё и беспризорный дворовый пёс, дворовый – в смысле беспородный и блудный, и наблюдаю за тем самым зайцем, то бишь за собой самим же с краю того же самого грозового поля тревожной ржи. И одновременно с молозливым вкусом зелёного семени, ощущаю гортанью трепет живого ещё куска горячей и терпкой заячьей плоти. Но самое главное – запах. Причём, всё это: и молозливый вкус, и горячий трепет на фоне неистребимой вони прокисших макарон.
В то утро, когда привиделась мне этакая хреновина про зайца и дворнягу, дурманящий запах крови чувствовался на языке весь день. А тут ещё и лицо, чем-то неразрывно связанное и с зайцем в цветущей ржи, и с бродячим псом, и с безумством ночной грозы. Не говорю уже о макаронах. Их кислая вонь преследовала меня и средь белого дня.
Я уже догадывался, что рисунок не отпустит, пока не вспомню, что это за тётка, и откуда мои ладони помнят ощущение её волос. Потому, самое лучшее, что я мог придумать, это начать выстраивать всю цепочку событий с самого начала.
А началось всё в сентябре. Вот только не знаю, до сих пор не знаю в каком: в эту осень, год назад или пять лет. Хорошо, хотя бы прошлогодним…
Прервав мысли, стукнула щеколдой калитка ворот. Во дворе за окном проскрипел снег под валенками. Гулко бухнули доски крыльца, отзываясь на удары. Шелестяще шоркнул веник. Скрипнули половицы в сенях, и дверь в избу распахнулась, впустив облако густого морозного пара.
Мне-то чего, я на толстом сенном матрасе да под ватным одеялом. Потому только голову повернул набок, в просвет под занавеской гляжу на своего хозяина-колдуна.
Наблюдаю.
Гость шагнул в избу, притворил дверь. Морозный воздух хлынул к окнам, торопливо огибая неподвижную фигуру на табурете. Хозяин мой, как сидел, так и остался – ресницей не дрогнул. Знай, дырявит взглядом злополучное бревно. Я тоже молчу, – а ну как там участковый или кто из сельсовета? Дыхание притаил. Пускай, мыслю, тот, кого принесло, думает, что меня совсем дома нет. Пускай, соображаю, думает, что я в лес ушёл или в магазин за хлебом. Лежу себе, пришипился. Хотя по походке, дыханию и манерам уже почти догадался, что гость этот утренний – Ездаков. Тот самый сосед, единственный, кстати, на все Выселки, которому я вчера помогал колоть телёнка.
Да ведь бережёного и Господь бережёт, а не бережёного конвой стережёт, потому лежу, молчу.
– Слышь-ка, Юр, – сказал пришелец ездаковским голосом вместо приветствия, – глянь каку я нашёл штуку.
Колдун сморгнул и повернул голову. Я тоже, осторожно, чтоб не скрипнули доски полатей, выглянул вниз. Там и вправду стоял Ездаков и держал в руке каменюку величиной с ребячий кулак.
Впрочем, сейчас, самое время увести наше повествование чуть в сторону и поведать с самого начала историю этого камня и связанных с ним ездаковских волнений.
***
В последнее время стал примечать Василий Григорьевич Ездаков в своем хозяйстве некоторое беспокойство. Хотя если уж быть точным, то, пожалуй, наоборот: не беспокойство, а порядок. Не тот порядок, когда всё по ниточке и ранжиру, а совсем другой. Покой и чинность какие-то появились, во всём хозяйстве, вернее то самое, что называется старинным словом лад.
Возьмём для примера грабли. Раньше Ездаков на них раз в неделю наступал обязательно. И получал точно так же регулярно. Когда по лбу, когда по уху, а повезёт, так и по носу. Поднимет, бывало, инструмент, поставит в угол, нет, вскорости опять на полу валяются. Опять на лбу шишка, ухо пельменем или нос всмятку. А тут, который месяц висят грабли на стене и под ноги не попадаются.
Или тот же гвоздь. Лет восемь назад, при коммунистах ещё, когда хлев был ещё почти новый, прибил Ездаков этим гвоздём вертушок. Чтоб закрывать дверцу в курятник. Вертушок всего месяц и продержался, отверюхали. Да и надобность в нём отпала. Дверцу в курятник так перекосило, что и без вертушка приходилось двумя руками открывать.
Вертушок пропал, а гвоздь остался. И не упомнить, сколько порвал Ездаков рубах и фуфаек, пока не удосужился загнуть тот злосчастный гвоздь. Но гвоздь, и загнутый, то и дело цеплялся за рукав, и это стало привычным.
Не то чтобы не хватало у Ездакова толку взять клещи либо плоскогубцы и выдрать тот гвоздь к едрене-фене. Дело-то минутное, да руки не доходили всё как-то. Всегда почему-то подвёртывались дела поважнее.
Да и впрямь: семья-то не маленькая. Старшие девки вовсю с парнями хороводятся, и младшие парни подрастают. За всеми глаза да глазки. Хозяйство тоже немалое развёл; для неё же всё, для семьи. С темна до темна крутишься, до гвоздя ли.
А тут пропал гвоздь и всё. И как будто чего-то не хватает. Непонятно, что ни говори, и от того тревожно.
Осмотрел Ездаков косяк, ощупал. Дырка от гвоздя вот она, а самого нет. Голову поднял, поискал, пошарил глазами. Нашёл. Лежит гвоздь на косячном столбике. Мало того, что выдернут, ещё и выпрямлен. Хоть сейчас в дело: прибивай какой ни-то очередной вертушок. Взял Ездаков гвоздь, отнёс на верстак, положил в банку с другими пользованными гвоздями.
Гвоздь положил, а сомнения остались. С той поры и начал приглядываться. И много стал примечать необычного.
Главное: везде и во всём прибыток. Зима за половину, а куры, тьфу-тьфу-тьфу, все до единой целы и яйцами завалили. За яйцами из села не в ближний магазин ходят, а на Выселки, к нему, Ездакову. С молоком – та же история; залила стельная Зорька. Свинья толстеет как на дрожжах. Но основное – сено. Вроде и не убывает, хотя раньше были только корова да овцы, а сейчас ещё и кобыла.
Кобылу Ездаков уже по застылку присмотрел на мясокомбинате. Но это совсем другая история, хотя и имеющая к сену непосредственное отношение. Поди, не будь кобылы, и гвоздь был бы на месте. Всё так же цеплялся бы ещё не один год. Но история кобылы – это как бы предыстория гвоздя и сена. Пролог, если выражаться языком школьных учителей и литературных критиков. Нам до критиков дела нет абсолютно, потому про кобылу когда-нибудь позднее, если, конечно, не забудется или не подвернётся что-нибудь более важное и значительное. А пока вернёмся к сену.
На сене-то с одной стороны всё прояснилось, а с другой запуталось ещё больше. Чудно как-то стало и, пожалуй, жутковато. Словом, обратил Ездаков внимание, что сено у него как бы и не убывает. Мало того: сенокос ездаковский испокон веку в сельской поскотине. Место там тощее и косил Ездаков в основном таволгу-лабазник, жёсткую осоку, да стеблистый вейник. Но ничего, скотина сенцо ела и хоть и не жирела, но и с голодухи к весне не падала. А тут, как-то понёс Ездаков кобыле сенца, а у той в кормушке уже полно, и сено чужое.
Хорошее сено, тяжёлое, с клеверком и тимофеевкой. Такое брали на заливных колхозных лугах, и решил Ездаков вполне естественно и не без основания, что пару охапок для кобылёнки насобирали по обочинам или надёргали с волокуш младшие парни.
Колхозники таскали сено на ферму волокушами, и по обочинам можно было насобирать при желании не одну охапку. Да и выдернуть из волокуши клок-другой не грех. От большого немножко – не воровство, а делёжка.
Чужое сено было и у Зорьки. Но уже явно не колхозное. Сено в зорькиной кормушке пахло горячей земляникой и зеленью пряной душицы. И спецом не нужно быть, чтобы определить, что кошено оно лесником на Дальних вырубах. Дети у лесника давно выросли, своё сено хранил он во дворе, так что ездаковские ребята были совершенно не при чём.
Тут-то впервые и осенила Ездакова догадка, совершенно жуткая по своей нелепости. От той догадки, будто коркой мёрзлой грязи стянуло кожу на спине от лопаток до крестца и Ездаков впервые перекрестился. Неуклюже, неумело; сикось-накось, но перекрестился.
Догадку эту, Ездаков, как человек волевой и, безусловно, мужественный постарался запинать в самый тёмный и глухой закуток своего подсознания. Но, входя в хлева, с той поры озирался, внимательно оглядывая стойла и закутки, подолгу всматриваясь в мрачную темень сеновала.
Так и углядел он на третий день камень. Камень висел в тёмном углу над куриным насестом на какой-то позорной мочальной завязке. Ездаков, в действиях мужик решительный и последствий совершенно не боящийся, в сердцах сорвал камень. Это был обыкновенный плоский голыш тёмно-серого цвета величиной в половину ездаковского кулака. Ездаков сунул камень в карман телогрейки и вечером за ужином устроил семейный совет.