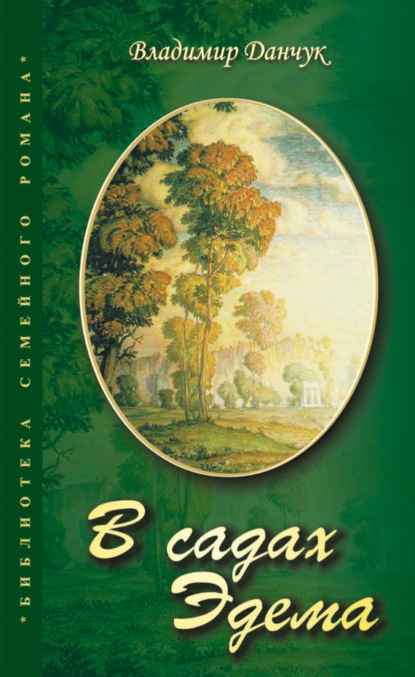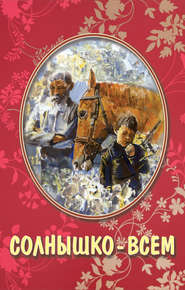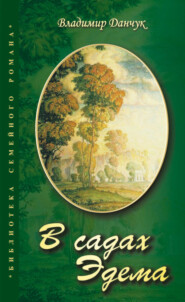По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В садах Эдема
Автор
Год написания книги
2010
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дорогая Танечка, благодарим тебя за сказочку Жуковского. Очень о вас скучаем. Чугунов рассказывал, что на Рождество опять собирается к вам. Хотели бы и мы быть с вами, но вряд ли решимся отправиться в дальний путь с Иванушкою. Он стал таким беспокойным мальчиком. Ни сидеть, ни лежать один не хочет. Кричит отчаянно, пока не возьмёшь его на руки. На руках же сразу успокаивается и начинает очень добродушно всем улыбаться…»
06.12.84
Лизанька у нас простыла недели две-три назад, и всё прибаливала. Чугуновы приехали к нам 20-го, вчетвером, и жили 9 дней (от нас они поехали к Щукиным). Жили мы дружно, шумно и весело, омрачаемые только простудными недомоганиями: вновь переболела Лиза, потом занедужила Варя, Галя пару дней плохо себя чувствовала… Слава Богу, всё обошлось без осложнений. Я дважды подменялся на работе, чтобы побыть с гостями, и первые дни мы с Володей беседовали очень оживлённо (я прочитал другой вариант «Невесты»). Потом детские болезни и хлопоты несколько рассеяли нас. Перед отъездом Чугуновых в Москву мы принимали дорогих гостей: батюшку с матушкой. Случайно или нет, но они угадали на пятилетие нашего с Олечкою венчания.
У отца Иоанна и Анастасии Антоновны – новое увлечение, т. е. батюшка мне и раньше говорил, что они стали как-то по-особенному питаться, но вот так подробно и «пропагандистски» они, перебивая друг друга, рассказали в первый раз. И мне невольно стало казаться, что о. Иоанн и в самом деле выглядит гораздо свежее обычного. На нашу маму их рассказы произвели сильное впечатление – она перестала есть мясо!..
Чугуновы уехали, и Лизанька заболела снова; обнаружили у неё на шейке опухоль. Матушка сказала: это – зуб! И вчера утром я, в сопровождении Анастасии Антоновны, возил маленькую девочку в стоматологическую больницу – ей вырвали первый в жизни зуб… Слёз было меньше, чем можно было ожидать. И всё-таки: какая она жалобная! Болеет уже третью неделю; опухоль под левой щёчкой немного изменила её голосок – она говорит теперь гортанно, как чужеземная птичка…
Возвращаемся из больницы. Я везу её на санках, спешу – чтобы не замёрзла. Сидит нахохлившись, сложив ручки на коленках. В двух шагах от нас, по дороге, обгоняя с монотонным рёвом, несётся бесконечный поток машин. И вдруг в этом рёве я слышу негромкий, со вздохом, голос:
– Отесинька, хочу на ручки…
09.12.84
Пришли письма: от Танечки (о Чугуновых пишет: «такие родные лица»), от Миши – коротенькое и печальное – и от Володи Чугунова с рассказом о московских впечатлениях (Гоголев так и называет меня двоеверцем – мол, помимо религии он, т. е. я, ещё и стихи любит почитывать; грешен – люблю). А Оля написала Новиковым:
«…Думаю, что много радостей узнает ваша душа, когда появится в вашей семье маленький ангел с печатью иной жизни, иного мира, так явственно видимой на его лике в первые дни и недели его мучительной жизни с нами…
Володя по-прежнему работает сторожем при храме. Работа ему нравится, и мы уже не представляем, где ещё можно работать, как не там. Какие бы искушения там не встречались, всё же совсем другие люди, другая атмосфера, другие слова и мысли вокруг.
…Один русский писатель сказал, что семейных людей пронизывают мысли о монашестве, а монашествующих – мысли о семейной жизни. Мы с Володею лишь с рождением Иванушки стали будто немного понимать, для чего люди остаются одинокими и идут в монастырь. Но – на всё воля Божия. Господь не сказал, что спасётся монашествующий или семейный, но „претерпевый до конца”. Так что будем терпеть и нести немощи друг друга и любить Бога всею душею и всем сердцем. Помоги вам Господь.
Кланяемся вам низко. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица. Пишите…»
14.12.84
Искупали и уложили Иванушку; вот уже второй день он засыпает у нас в 8 часов – вчера вечером я вынес его на улицу и с четверть часа покатал на санках; он уснул так крепко, что Олечка размотала и уложила его в коляску безо всяких затруднений. Уже недели три, как он держится на ножках. Ещё при Чугуновых я ставил его в Лизину кроватку и цеплял ручки за перильца – и он держался! Недолго, правда.
Завтра мне на дежурство… Я голодаю уже в шестой раз, каждые среду и пятницу (взял благословение у о. Иоанна Гончарова). Олечка утверждает, что у меня изменился цвет лица; я же никаких изменений в себе не наблюдаю.
Чуть не забыл: несколько дней назад, когда я укачивал Иванушку, он, бесцельно болтая ручками и ножками, вдруг вынул изо рта соску, посмотрел на неё отрешённо и сунул обратно; вынул и в другой раз, но опять засунуть в ротик так и не сумел, возя пустышкой по личику… Сегодня же, в такой же ситуации, он проделал эту операцию раз десять, пока я не уверился, что это не случайность.
Вчера, по дороге из библиотеке, Лизанька напевала песенку про курочку, пропуская строки. А я никак не мог их припомнить. Сегодня, проснувшись, спросил у Олечки и, лежа, повторял громко – специально для Лизаньки:
Ах, какая курочка у меня жила!
Ах, какая умница курочка была!
– А паком куда девавась курочка?
– Не знаю… – растерялся я.
– Навенное, умерла? Птицы хэ мало хывут?
– Мало…
– Умерла курочка, – утвердительно сказала Лиза.
Но через минуту сама с выражением распевала: «Ах, какая курочка у меня жила!..»
Ответил Мише: «…родным и милым чувствую и принимаю православный мир; не безгреховным – далеко нет! – но милым и родным. Как широк и разнообразен, как личен этот незримый, построяющийся энергией святых, поток православной культуры – профанного бытия, освящённого, по милости Божией, оформляющей силой культа, „силовым полем” его. Я дочитываюсь до восторга; я не мыслю их, этих учителей и товарищей моих (братьев!) погребёнными – так жива, так сладка и упоевающа их речь… Как бы ни мудрил нынче Гоголев, до гроба останусь признателен ему за то, что тёмными речами своими он открыл мне этот родной мир, родной настолько, что нет для меня в нём ни прошлого, ни будущего – единое настоящее (поле битвы)…
Или я очарованный? Но жизнь убеждает меня в том же: без реальнейшего – нет реального. Теперь я прямо погружён в стихию православную – люди простые и полуграмотные окружают меня. Не всё в них на мой вкус, но нельзя не любоваться ими. Есть среди них и хитрые, и жадные, и гордые, и просто грубые, но лучше места мне было не найти, чтобы въявь, вживе увидеть, „пощупать” то, что я называю православной традицией. Все они (и я) ниже её, она умнее нас, и странно слышать, как загрубелый в работах человек говорит мысль тонкую, как дерзкий грубиян подчиняется смыслу изящному, как соблазнившийся („падший”) произносит слово назидательное. Вот что самое ценное в человеке – вера, она и делает его человеком вполне.
Вот тебе картинка: долгое дежурство, далеко заполночь; передо мною пьяный напарник, курит (отмахиваясь от моих замечаний) прямо под иконами, икает, отрыгивая кислую капусту; я зеваю (дежурю за двоих): „Что – холодно завтра будет?” – „Не знаю”, – мотает он головою. „А по телевизору прогноз передавали?” – „А я не смотрю, – он икает, – пост…”
Можно смеяться, можно издеваться над таким „православием”, но мне ценно в нём не „такое”, а – „православие”…»
Ответил и Чугунову: «…Есть только два типа мировоззрения или, скорее, мировосприятия: религиозное и художественное (философское уже ущербно и, по сути, не имеет права на существование, поскольку не имеет тайны и не может иметь её – иначе перестаёт быть философией и становится Боговедением; вот поэтому бесплодны самые искусные теории)… Но художественное восприятие мира шире писательского жребия (креста! я давно об этом думал и был рад найти подтверждение у Паламы), как религиозное восприятие шире „креста святых”. Но если святой (свидетель, по словам Флоренского) есть один из „держателей” этого мира – в силу благодати, то художник, во всех своих разнообразных проявлениях, „устроитель” его – в силу своего дара. И понять смысл обречённой на гибель культуры можно только как энергетическое поле борьбы за душу человека, поле, пронизанное как токами призывающей благодати, так и призывными токами своеволия – многоликого Хаоса…
Так что обмолвка Гоголева многозначительна. Если бы ещё он повернулся, так сказать, спиной к искусству от избытка ложной, иссушающей, полусектантской „церковности”, то в этом не было бы особого греха – не всем же восторгаться Пушкиным и восхищаться райскими песнями Моцарта, это и в самом деле „для немногих”. Но он же, голубчик, отвернулся от „светского” ради таинственных вещаний. Хотя я думаю, что мистика – лишь подчинённая часть художественного мышления…»
17.12.84, вмц. Варвары
Вчера мы вместе с Лизанькою провели целый вечер у Маши (Юра опять уехал в Ср. Азию). Маленькие девочки самозабвенно играли, большие – столь же самозабвенно беседовали. Я как-то нечаянно «выпал» из общего разговора, и, похоже, это было кстати – они сумели растрогать друг друга. Олечка после сказала, что вновь узнаёт в ней ту Машу, в какую она была беззаветно влюблена в студенческие годы.
Вернулись мы домой около полуночи, и, уложив Лизаньку, Олечка не уснула вместе с нею, как это обыкновенно случалось, а вышла на кухню, где я читал Вигеля и пил чай с изюмом (до 3-х часов пополуночи), и написала лирическое письмо Танечке, из которого я рискну выписать лишь немногое:
«…Сегодня я причащалась за ранней обедней, и удивительно счастливый и благодатный был день. Сначала пришло письмо от Володиного отца – после двухлетнего его молчания – такое добродушное и примирительное! А потом мы поехали втроём к Маше и засиделись там до полуночи…»
Не понимаю, откуда у Олечки взялось впечатление «двухлетнего молчания» – наша переписка с отцом регулярна, как железнодорожное расписание. Но уж очень «бытовое» содержание этой переписки, видимо, просто не задевало в последнее время её сознания. А письмо из Чайковского и в самом деле добродушное:
«…в общем, письмо твоё залихватское, мы с мамой посмеялись досыта. Сегодня вечером придёт к нам родня вся, и им прочитаем твоё письмо – они очень любят читать или слушать твои письма, а это – особенно… Как мы поняли, ты работаешь сторожем в церкви? Не боишься?.. Да, твои работы вообще нам не нравятся, но что делать? Вам видней – как жить…»
Лизанька – Олечке – перед сном:
– Эко было давным-давно… кага тибя ещё не было…
– Ну, Лизанька! Тебя тогда и подавно не было!
– Нек, я была… Просто я расту медленнее, а ты быстрее…
Наряду с «Библейской историей» прот. Иоанна Базарова (настоятеля церкви в Штутгарте, королевство Вюртемберг) я прочитал «Странствующего жида» Жуковского и «Подражание Христу» Фомы Кемпийского.
Вечный Жид, по итальянской легенде, это Малх, евангельский раб первосвященника Анны, которому ап. Пётр «урезал» ухо, и он же уда рил Христа на допросе, сказав: „Так Ты отвечаешь первосвященнику!..”. Агасферусом его наименовали в Германии уже в XVII веке. Стихи Жуковского поистине прекрасны – какая свобода в слове! Он пользуется ритмом как музыкант, и возникает необыкновенная гармония, оценить которую уже было некому… Собственно, вся легенда умещается в несколько начальных строк:
Он нес свой крест тяжелый на Голгофу;
Он, Всемогущий, Вседержитель, был
Как человек измучен; пот и кровь
По бледному Его лицу бежали;
Под бременем своим Он часто падал,
Вставал с усилием, переводил
Дыхание, потом, шагов немного
Переступив, под ношей снова падал,
И, наконец, с померкшими от мук
Очами, Он хотел остановиться
У Агасферовых дверей, дабы,
К ним прислонившись, перевесть на миг