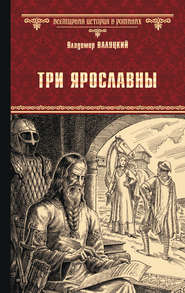По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Зимняя вишня
Серия
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Кирилл Иванович, – скучным голосом говорю я.
– Бруевич вас спрашивал. – Взгляд в бумаги, губки поджал. Обиделся. – Вы обещали ему подготовить материалы по типажам. И не подготовили. И за это я вам, сударыня, вынужден, извините, сделать замечание.
Действительно обиделся. И так по сто раз на дню, словно что-то ему должно светить.
В обеденный перерыв пью кофе в буфете. Сижу одна за столиком. Вдруг:
– Можно к вам, Ольга Николаевна?
Вадим стоит с подносом, борщ качается в тарелке. Улыбается. Свежий, выбритый, и так хочется дотронуться до него хоть на мгновение.
– А не боишься – увидят?
– А пусть завидуют, – отвечает и садится со своим борщом.
– Кому?
– Тебе, конечно. Такой мужик рядом сидит. Храбрый.
– Давно ли – храбрый?
– С сегодняшнего дня.
– Это как?
– А так. Надоело все.
– И я?..
– Ты – наоборот…
Он слегка коснулся моей руки, смотрит своим убийственным ласковым взглядом.
– Сердишься, малыш?
– За что? Давно отучил.
Он понимающе кивает:
– Измучил я тебя… И себя тоже. Слушай. Что ты делаешь в выходные?
– Сижу с Антошкой, а что?
– А нельзя его куда-нибудь деть?
– Нельзя. У Лариски Сережка разболелся.
– А муж не может взять? В конце концов, его ребенок.
– Вадим, – говорю я, – извини, но хотелось бы знать, что случилось?
Он продолжает смотреть на меня, ласково, печально и даже как-то обреченно.
– Случилось, малыш. Уже давно. Три года назад.
Помолчал, помешивая ложкой в борще. И я тоже притихла – такого в нашей жизни еще не было.
– Надоело глядеть на часы, прятаться по углам. Врать, спешить. Надо разорвать этот порочный круг, сделать хоть что-нибудь для начала… Представляешь? Мы садимся в мою машину. И чешем. По Выборгскому шоссе. На семидесятом километре – поворот на проселок. Вокруг обступает природа. Теплынь, бабье лето. И вот – дом на берегу озера, с камином, сауной, который целых два дня будет наш и больше ничей. Кроме ветра и птиц… Нравится?
Соврать у меня не хватило духу.
– Нравится… А Антошку нельзя с собой взять? – робко спросила я, хотя непонятно, зачем спросила, знаю ведь ответ.
– Вся ведь суть в том, что мы там будем одни. Одни в целом свете, первый раз в жизни! – увлеченно продолжает он. – Вставать рано, купаться в озере, пить парное молоко. Целоваться без оглядки… Разве мы об этом не мечтали, малыш?
– Мечтали…
– И вот она – мечта! В руке! – Он достает из кармана и показывает мне ключи.
– Товарищ Дашков! Вас Бруевич к телефону, – раздается у входа в буфет противный секретаршин голос. Вадим встает.
Как, оказывается, они просто выглядят, ключи от счастья – обыкновенные, английские, серенькие.
Договорились с Софьей Николаевной, матерью Филиппа, бывшего моего мужа. В такси привезла Антошку на Петроградскую. В старом, еще до революции построенном доме, лифт, как всегда, не работает. Топаем на высокий третий этаж, на Антошке звенит амуниция: ружье, пистолеты, сабля бьет по лестничным перилам. Звоним.
Открывает Софья Николаевна – энергичная, худая, нечесаная, во рту папироска.
– Баба Соня, луки ввелх!
– Здрасьте. Это за все-то заботы? Ах, Антон Филиппыч, неблагодарная вы дрянь, весь в папу. – Она ерошит ему волосы и толкает в зад. – Иди лучше с сестренкой поздоровайся.
Входим в большую, с высокими окнами, комнату, где множество замечательных вещей: Софья Николаевна ни с чем никогда не расстается. Коробочки, картиночки. В вазе с драконами – засушенные бог знает когда розы. В шкатулке на комоде – перламутровые пуговицы, янтарные запонки, хрустальные бусинки – когда-то я могла часами все это перебирать… Видик на резном столике выглядит здесь инопланетянином.
Появляется годовалая дочка Филиппа, ноги в колготках заплетаются, палец во рту.
– Анютка, луки ввелх!
– Засадили бабку чад сторожить, а меня больные ждут. Твой бывший со своей новой тоже дома сидеть не любители.
– Софья Николаевна, я…
– Ладно, без прохиндейства. Извини, не целуюсь, табаком пропахла. Плохо выглядишь.
– Устала…
– Дай пульс. Ерунда. Низкое давление. Принимай ванну с бадузаном и заведи любовника.
– Есть.
– Бруевич вас спрашивал. – Взгляд в бумаги, губки поджал. Обиделся. – Вы обещали ему подготовить материалы по типажам. И не подготовили. И за это я вам, сударыня, вынужден, извините, сделать замечание.
Действительно обиделся. И так по сто раз на дню, словно что-то ему должно светить.
В обеденный перерыв пью кофе в буфете. Сижу одна за столиком. Вдруг:
– Можно к вам, Ольга Николаевна?
Вадим стоит с подносом, борщ качается в тарелке. Улыбается. Свежий, выбритый, и так хочется дотронуться до него хоть на мгновение.
– А не боишься – увидят?
– А пусть завидуют, – отвечает и садится со своим борщом.
– Кому?
– Тебе, конечно. Такой мужик рядом сидит. Храбрый.
– Давно ли – храбрый?
– С сегодняшнего дня.
– Это как?
– А так. Надоело все.
– И я?..
– Ты – наоборот…
Он слегка коснулся моей руки, смотрит своим убийственным ласковым взглядом.
– Сердишься, малыш?
– За что? Давно отучил.
Он понимающе кивает:
– Измучил я тебя… И себя тоже. Слушай. Что ты делаешь в выходные?
– Сижу с Антошкой, а что?
– А нельзя его куда-нибудь деть?
– Нельзя. У Лариски Сережка разболелся.
– А муж не может взять? В конце концов, его ребенок.
– Вадим, – говорю я, – извини, но хотелось бы знать, что случилось?
Он продолжает смотреть на меня, ласково, печально и даже как-то обреченно.
– Случилось, малыш. Уже давно. Три года назад.
Помолчал, помешивая ложкой в борще. И я тоже притихла – такого в нашей жизни еще не было.
– Надоело глядеть на часы, прятаться по углам. Врать, спешить. Надо разорвать этот порочный круг, сделать хоть что-нибудь для начала… Представляешь? Мы садимся в мою машину. И чешем. По Выборгскому шоссе. На семидесятом километре – поворот на проселок. Вокруг обступает природа. Теплынь, бабье лето. И вот – дом на берегу озера, с камином, сауной, который целых два дня будет наш и больше ничей. Кроме ветра и птиц… Нравится?
Соврать у меня не хватило духу.
– Нравится… А Антошку нельзя с собой взять? – робко спросила я, хотя непонятно, зачем спросила, знаю ведь ответ.
– Вся ведь суть в том, что мы там будем одни. Одни в целом свете, первый раз в жизни! – увлеченно продолжает он. – Вставать рано, купаться в озере, пить парное молоко. Целоваться без оглядки… Разве мы об этом не мечтали, малыш?
– Мечтали…
– И вот она – мечта! В руке! – Он достает из кармана и показывает мне ключи.
– Товарищ Дашков! Вас Бруевич к телефону, – раздается у входа в буфет противный секретаршин голос. Вадим встает.
Как, оказывается, они просто выглядят, ключи от счастья – обыкновенные, английские, серенькие.
Договорились с Софьей Николаевной, матерью Филиппа, бывшего моего мужа. В такси привезла Антошку на Петроградскую. В старом, еще до революции построенном доме, лифт, как всегда, не работает. Топаем на высокий третий этаж, на Антошке звенит амуниция: ружье, пистолеты, сабля бьет по лестничным перилам. Звоним.
Открывает Софья Николаевна – энергичная, худая, нечесаная, во рту папироска.
– Баба Соня, луки ввелх!
– Здрасьте. Это за все-то заботы? Ах, Антон Филиппыч, неблагодарная вы дрянь, весь в папу. – Она ерошит ему волосы и толкает в зад. – Иди лучше с сестренкой поздоровайся.
Входим в большую, с высокими окнами, комнату, где множество замечательных вещей: Софья Николаевна ни с чем никогда не расстается. Коробочки, картиночки. В вазе с драконами – засушенные бог знает когда розы. В шкатулке на комоде – перламутровые пуговицы, янтарные запонки, хрустальные бусинки – когда-то я могла часами все это перебирать… Видик на резном столике выглядит здесь инопланетянином.
Появляется годовалая дочка Филиппа, ноги в колготках заплетаются, палец во рту.
– Анютка, луки ввелх!
– Засадили бабку чад сторожить, а меня больные ждут. Твой бывший со своей новой тоже дома сидеть не любители.
– Софья Николаевна, я…
– Ладно, без прохиндейства. Извини, не целуюсь, табаком пропахла. Плохо выглядишь.
– Устала…
– Дай пульс. Ерунда. Низкое давление. Принимай ванну с бадузаном и заведи любовника.
– Есть.