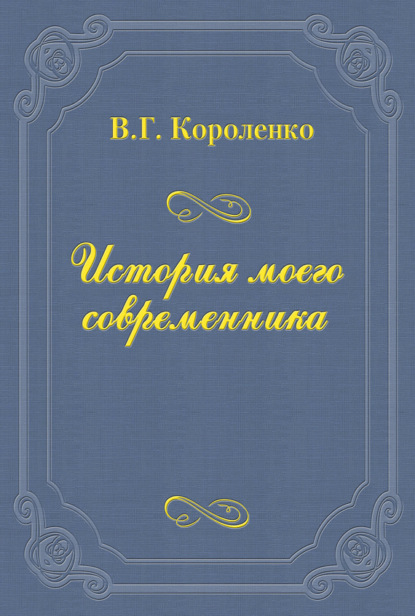По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История моего современника
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Балл дам! Балл дам! Балл дам!
За третьим выкриком следовало быстрое движение руки и в журнал влетала характерная егоровская двойка в виде вопросительного знака.
– Балл уже дан! Садись!
Начиная объяснение задаваемого урока, Егоров подходил к первой парте и упирался в нее животом. На этот предмет ученики смазывали первую парту мелом. Дитяткевич в коридоре услужливо стирал белую полосу на животе Егорова, но тот запасался ею опять на ближайшем уроке.
Географ Самаревич больше всех походил на Лотоцкого, только в нем не было ни великолепия, ни уверенности. Тонкий, высокий, сухой, желтый, он говорил всегда врастяжку, звенящим, не то жалобным, не то угрожающим голосом. По коридорам, как и Потоцкий, ходил журавлиным шагом, как будто переступая через лужи. За металлические дверные ручки брался не иначе, как сдвинув рукав и покрыв сукном ладонь. Взойдя на кафедру, останавливался, как Лотоцкий, всегда в одной позе, держась рукой за клок волос, по странной игре природы торчавший у самого горла (борода и усы у него не росли). Класс стихал. Становилось жутко. Тонкая длинная шея Самаревича, с большим кадыком, змееобразно двигалась в широком воротнике, а сухие, желчные глаза обегали учеников справа налево. В выражении глаз и лица чувствовались беспредметная злоба и страдание. В эту жуткую минуту по классу, следуя за колющим взглядом Самаревича, пробегала полоса мертвящего оцепенения… Стоило двинуться, повернуться, шевельнуть ногой, как тотчас же раздавался зловеще певучий голос.
– Дежурный! Отведи его в темный карцер.
«Темного» карцера не было, никто нас туда не отводил, и мы проводили время просто где-нибудь в пустом классе. Это было очень удобно, особенно для невыучивших урока, но пользовались этим редко: так жутко было ощущение этой минуты… Того же результата, впрочем, можно было добиться иначе: стоило раскрыть ножик и начать чистить ногти. Самаревич принимался, как тощий ветряк на порывистом ветре, махать руками, называл ученика негодяем и высылал из класса.
Уроки у него выучивали. Не потому, что знать их было интересно, а потому, что не ответить было жутко. И значит, как учитель, он был на хорошем счету. Никому, разумеется, не приходило в голову, чем в сущности заменял он для нас познание божьего мира. Однажды, перед экзаменом по географии, мне приснился странный, теперь сказали бы «символический», сон. На каком-то огромном полу лежала бесконечная географическая карта с раскрашенными площадками, с извилистыми чертами рек, с черными кружками городов. Я глядел на нее и не мог вспомнить ни названий, ни того, какой из этих кружков знаменит лесной торговлей, а какой торгует шерстью и салом. А в середине карты – в каком-то туманном клубке виднелась голова на тонкой извивающейся шее, и колющие глаза остро глядели на меня в ожидании ответа… Безграничные океаны с их грозами, простор и красота мира, кипучая и разнообразная деятельность людей – все это подменилось представлением о листе бумаги с пятнами, чертами и кружками…
Было в этой сухой фигуре что-то зловещее и трагическое. Кончил он ужасно. Из нашей гимназии он был переведен в другой город, и здесь его жена – добродушная женщина, которую роковая судьба связала с маниаком, – взяла разрешение держать ученическую квартиру. Предполагалось, что это будет ее особое дело, но Самаревич скоро простер на него мертвящую власть кошмара. Рассказывали, что каждый вечер перед сном, во главе домочадцев, он обходил всю квартиру, заглядывая во все углы, под столы и под диваны. После этого квартира запиралась, и ключ Самаревич уносил к себе под подушку.
Однажды – это было уже в восьмидесятых годах – ночью в эту запертую крепость постучали. Вооружив домочадцев метлами и кочергами, Самаревич подошел к дверям. Снаружи продолжался стук, как оказалось… «именем закона». Когда дверь была отворена, в нее вошли жандармы и полиция. У одного из учеников произвели обыск, и ученика арестовали.
Это совершенно ошеломило Самаревича. Несколько дней он ходил с остолбенелым взглядом, а в одно утро его застали мертвым. Оказалось, что он перерезал себе горло. Жандармы показались ему страшнее бритвы…
Учитель немецкого языка, Кранц… Подвижной человек, небольшого роста, с голым лицом, лишенным растительности, сухой, точно сказочный лемур, состоящий из одних костей и сухожилий. Казалось, этот человек сознательно стремился сначала сделать свой предмет совершенно бессмысленным, а затем все-таки добиться, чтобы ученики его одолели. Всю грамматику он ухитрился превратить в изучение окончаний.
– Леонтович, – вызывает он, нарочно коверкая фамилию и переставляя ударение. – Склоняй: der Mensch[15 - Человек (нем.). – Ред.].
Леонтович встает и склоняет, произнося не слова, а только окончания: именительный: с, ц, аш, родительный: э, н, дательный: э, н, винительный: э, н. Множественное число: э, н, и так далее.
Если ученик ошибался, Кранц тотчас же принимался передразнивать его, долго кривляясь и коверкая слова на все лады. Предлоги он спрашивал жестами: ткнет пальцем вниз и вытянет губы хоботом, – надо отвечать: unten; подымет палец кверху и сделает гримасу, как будто его глаза с желтыми белками следят за полетом птицы, – oben. Быстро подбежит к стене и шлепнет по ней ладонью, – an…
– Такой-то… Пусть там себе ат или ят? Пусть бы там себе али или ели?
Ученик, по возможности быстро, должен ответить такой же тарабарщиной.
Язык Шиллера и Гете он превращал в бестолковую смесь ничего не означающих звуков и кривляний… Шутовство это было вдобавок сухое и злобное. Ощущение было такое, как будто перед несколькими десятками детей кривляется подвижная, злая и опасная обезьяна. Может быть, для стороннего зрителя ее движения и прыжки могли бы показаться забавными. Но ученики чувствовали, что у этого прыгающего, взвизгивающего, жестикулирующего существа очень острые когти и власть… до звонка. Звонок являлся настоящим криком петуха, прогонявшим кошмарное видение…
В каждом классе у Кранца были избранники, которых он мучил особенно охотно… В первом классе таким мучеником был Колубовский, маленький карапуз, с большой головой и толстыми щеками… Входя в класс, Кранц обыкновенно корчил примасу и начинал брезгливо водить носом. Все знали, что это значит, а Колубовский бледнел. В течение урока эти гримасы становились все чаще, и, наконец, Кранц обращался к классу:
– Чем это тут пахнет, а? Кто знает, как сказать по – немецки «пахнет»? Колубовский! Ты знаешь, как по – немецки «пахнет»? А как по – немецки: «портить воздух»? А как сказать: «ленивый ученик»? А как сказать: «ленивый ученик испортил воздух в классе»? А как по – немецки «пробка»? А как сказать: «мы заткнем ленивого ученика пробкой»?.. Колубовский, ты понял? Колубовский, иди сюда, komm her, mein lieber Kolubowski. Hy-y!..
С шутовскими жестами он вынимал из кармана пробку. Бедный карапуз бледнел, не зная, идти ли на вызов учителя, или бежать от злого шута. В первый раз, когда Кранц проделал это представление, малыши невольно хохотали. Но когда это повторилось, – в классе стояло угрюмое молчание. Наконец однажды Колубовский выскочил из класса почти в истерике и побежал в учительскую комнату… Но здесь вместо связного рассказа выкрикивал одни только ругательства: «Кранц подлец, дурак, сволочь, мерзавец»… Инспектор и учителя были очень удивлены этой вспышкой маленького клопа. Когда дело разъяснилось из рассказов старших учеников учителям, – совет поставил Кранцу на вид неуместность его шутовских водевилей.
Первое время после этого Кранц приходил в первый класс, желтый от злости, и старался не смотреть на Колубовского, не заговаривал с ним и не спрашивал уроков. Однако выдержал недолго: шутовская мания брала свое, и, не смея возобновить представление в полном виде, Кранц все-таки водил носом по воздуху, гримасничал и, вызвав Колубовского, показывал ему из-за кафедры пробку.
Радомирецкий… Добродушный старик, плохо выбритый, с птичьим горбатым носом, вечно кричащий. Средними нотами своего голоса он, кажется, никогда не пользовался, и все же его совсем не боялись. Преподавал он в высших классах год от году упраздняемую латынь, а в низших – русскую и славянскую грамматику. Казалось, что у этого человека половина внимания утратилась, и он не замечал уже многого, происходящего на его глазах… Точно у него, как у щедринского прокурора, одно око было дреманое.
– Погоновский! – выкрикивает он сердито, приступая к уроку. Класс сговорился сегодня не отвечать. Погоновский встает и говорит деловитым тоном:
– Я, господин учитель, сегодня урока не готовил.
– Столб еси, и столб получаешь. И стой столбом до конца класса!.. – грозно изрекает Радомирецкий. В журнал влетает единица. Ученик становится у стены, вытянув руки и по возможности уподобляясь столбу.
– Павловский.
– Я, господин учитель, сегодня не готовил.
– Стой столбом до конца класса. И тебе единица, азинус[16 - Осел (лат.). – Ред.].
Азинус идет к той же стенке, плечом подвигает Погоновского дальше и вытягивается на его месте. Третий отодвигает обоих, и, таким образом, ряд «столбов» выстраивается вдоль всей стены до самых дверей. На опустевших скамьях остается десяток неспрошенных учеников, с которыми старик продолжает занятия, совершенно забыв об остальных. Между тем первый «столб» тихонько открывает дверь и выскальзывает в коридор. За ним другой, третий… Через несколько минут все уже на воле и вместо скучного урока с увлечением играют в мяч в укромном уголке сада. Польская капличка скрывает их от окон гимназического здания. Впрочем, Дитяткевич, отлично знающий эту особенность уроков Радомирецкого, порой отправляется в экспедицию и берет в плен беглецов. Тогда дверь класса отворяется, и «столбы», подгоняемые колченогим надзирателем, сконфуженно устанавливаются опять вдоль стен. Радомирецкий, подняв на лоб большие роговые очки, с удивлением смотрит на непонятное явление…
К этой коллекции я не без колебания решаюсь присоединить еще одну фигуру. Это Митрофан Александрович Андриевский, словесник. По душевному содержанию он скорее подходил бы к типу, отмеченному в начале этого очерка. В его душе теплилось свое увлечение, я сказал бы – своя вера. Все свое свободное время, все мысли и чувства он отдавал нескончаемой диссертации на тему «Слово о полку Игореве». С вечной заботой о загадочных выражениях «Слова» он ходил по улицам сонного городка, не замечая ничего окружающего и забывая порой о цели своего выхода из дому. Если калоша увязла в грязи, он шел дальше без калоши. Однажды, на моих глазах, ветер, раздувая концы его башлыка, занес один из них в щель частокола. Бедный словесник, задержанный неожиданно в своем задумчивом шествии, остановился, постоял, попробовал двинуться дальше, но видя, что препятствие не уступает, спокойно размотал башлык с шеи, оставив его на заборе, и с облегчением продолжая путь.
Ученики его любили с какой-то снисходительной нежностью, но предмета его совсем не учили. Объяснял он небрежно и спутанно, оживляясь лишь в случаях, когда можно было почерпнуть пример из «Слова». Диссертация его все росла, но печатать ее он не решался, пока для него оставались темными некоторые места, например: «Див кличет вьрху древа», «рыща в тропу трояню», или «трубы трубят до додутки»… Он нимало не сомневался, что читать надо «до додонтки» (с юсом). Но и «додонтки» мало поддавались объяснению… Порой он был прямо интересен, только это редко случалось на уроках. Мы очень любили беседовать с ним, застигнув его где-нибудь на улице. Плотно обступив Андриевского тесным кольцом, мы задавали ему вопросы и высказывали порой самые изумительные гипотезы о «диве», о «тропе трояней» и «додонтках». Если это ему надоедало, а мы его не выпускали из плена, то он, наконец, вынимал из кармана классную записную книжечку с карандашом, вглядывался в лица стоящих перед ним и, усмехаясь своей задумчиво – юмористической улыбкой, говорил:
– А, это Мочальский… Вот я поставлю Мочальскому на понедельник единицу.
И совершенно серьезно ставил единицу. К отметкам он относился с насмешливым пренебрежением и часто, по просьбе класса, переправлял классные двойки на тройки или даже четверки… Но единицы, поставленные на улице, отстаивал упорнее.
– Митрофан Александрович, – кричал класс, – да ведь эти единицы вы поставили на улице…
– А – а, – усмехался Андриевский, – на улице?.. Так что же, что на улице. Познания не всегда обнаруживаются даже в классе. А невежество проявляется на всяком месте… Что он тогда говорил о «диве»? А?
– Он, Митрофан Александрович, Курской губернии.
– Ну, так что же?
– Куряне, Митрофан Александрович, сведоми кмети.
– Шеломами повиты, концем копия вскормлены, – дружно подхватывает класс. Лицо Андриевского расцветает…
– А – а-а, – произносит он с выражением радостного довольства, и единица зачеркивается.
Из-за его рассеянной улыбки светилась детская душа и, может быть, незаурядный ум, от одиночества и окружающей пустоты ушедший в непроходимые дебри «Слова». Он прошел перед нами со своим невинным маниачеством, не оставив глубокого следа, но ни разу также не возбудив ни в ком ни одного дурного или враждебного движения души… В его задумчивой улыбке сквозил тихий юмор, на уроках иногда слетало меткое суждение или слово, но о «теории словесности» даже в лучших учениках он не успел поселить никакого представления…
Разумеется, кроме маниаков, вроде Лотоцкого или Самаревича, в педагогическом хоре, настраивавшем наши умы и души, были также голоса среднего регистра, тянувшие свои партитуры более или менее прилично. И эти, конечно, делали главную работу: добросовестно и настойчиво перекачивали фактические сведения из учебников в наши головы. Не более, но и не менее… Своего рода живые педагогические фонографы…
Впереди всех из этой категории стоит в моей памяти характерная фигура Степана Ивановича Тысса[74 - …Степана Ивановича Тысса – настоящая его фамилия – Цысс.]. Это был человек с очень некрасивым, но умным лицом, которое портили большие зубы, а украшали глубокие карие глаза. Одевался он всегда безукоризненно, даже щегольски, держался с достоинством, преподавал ровно, без увлечения, но толково, спрашивал строго, отметки ставил справедливо. Его уважали, учились у него порядочно, и именно ему я обязан тем, что решение задач мне перестало казаться непостижимым волшебством. В его сдержанном достоинстве было что-то привлекательное, и в нас зарождалось, пожалуй, некоторое влечение к этому серьезному человеку, но оно отражалось его холодною замкнутостью. К нам и своему предмету он относился с одинаковой корректностью. Предмет был предмет, один и тот же из году в год, а мы были разные степени его усвоения. Ни в нас, ни в предмете не было ничего, что осветило бы жизнь в глухом городишке, среди стоячих прудов. Говорили, будто главная доля его души была поглощена любовью некрасивого человека к красавице жене и муками сдержанной ревности. Быть может, поэтому он выделялся щегольством одежды и на разные лады отпускал красивую каштановую бороду. Эти наблюдения давали нам мало поучительного, а мы, в свою очередь, мало давали ему. Тыссу приписывали, между прочим, горький афоризм, в который он заключил свой учительский опыт.
– Мы, – говорил он, – три года мучимся, три года учимся, три года учим, три года мучим, а там – хоть к чорту…
Я его знал еще в годы перелома. Он учил еще довольно серьезно и не мучил, но уже начинал опускаться и запивать…
За ним встают в памяти различные, менее характерные фигуры того же среднего регистра. Общими усилиями, с большим или меньшим успехом они гнали нас по программам, давая умам, что полагалось по штату. Дело, конечно, полезное. Только… это умственное питание производилось приблизительно так, как откармливают в клетках гусей, насильственно проталкивая постылую пищу, которую бедная птица отказывается принимать в требуемом количестве по собственному побуждению.
А та нежная, тонкая, живая нить, которая связывает процесс учения с вечным стремлением к знанию, освещает его, подымает, живит, – молчала или затрагивалась редко, случайно… Оригинальные фигуры, со своим собственным содержанием, были не ко двору в казенном строе, требовавшем догматического единства. Сильные – уходили, слабые – уживались, и жизнь в сонном городке вокруг мертвого замка брала свое. Сначала мечты о диссертации, о переводе в другое место, потом женитьба, сладость сонной истомы, карты в клубе, прогулки за шлагбаумом, сплетни, посещения погребка Вайнтрауба, откуда учителя выходят обнявшись, не совсем твердыми шагами, или – маленького домика за грабником, где порой наставники встречаются с питомцами из старших классов…
Один из лучших учителей, каких я только знал, Авдиев (о котором я скажу дальше), в начале своего второго учебного года на первом уроке обратился к классу с шутливым предложением:
– Нет ли, господа, у кого-нибудь записок моего прошлогоднего первого урока? Есть? Отлично. Проэкзаменуйте меня, пожалуйста: я буду говорить, а вы отмечайте фразы, которые я повторю по – прошлогоднему.